Читать онлайн “Плохая дочь” «Маша Трауб»
- 21.04
- 0
- 0
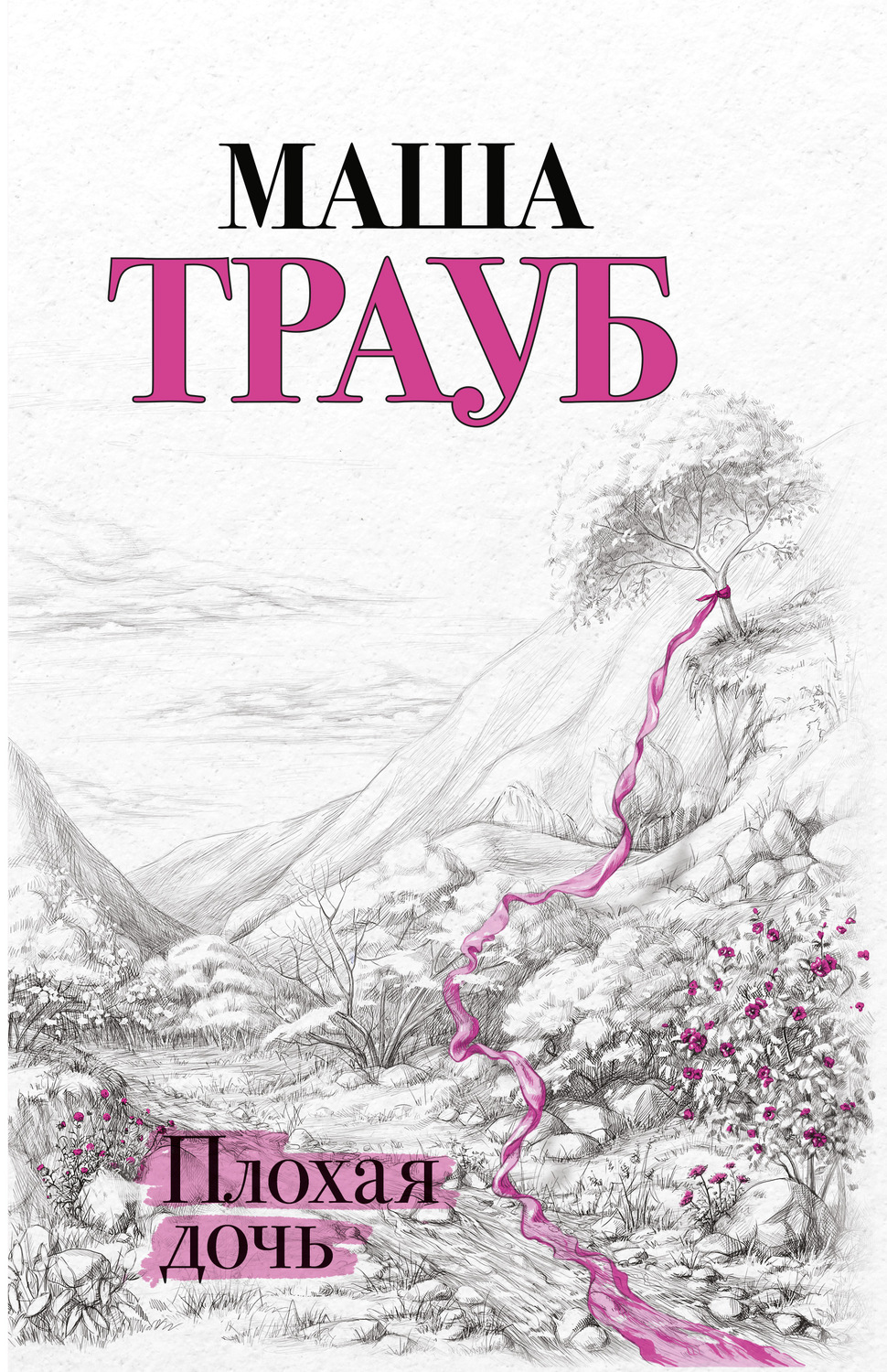
Страница 1
Плохая дочьМаша Трауб
Проза Маши Трауб. Жизнь как в зеркале
Десять лет назад вышла моя книга «Плохая мать». Я начала ее писать спустя две недели после рождения дочери. Мне нужно было выплеснуть на бумагу вдруг появившееся осознание – мы все в определенные моменты боимся оказаться плохими родителями. Недолюбившими, недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным детям. «Плохая дочь» – об отношениях уже взрослой дочери и пожилой матери. И она опять об ответственности – уже дочерней или сыновьей – перед собственными родителями. О невысказанных обидах, остром желании стать ближе, роднее. И, конечно, о самом главном чувстве – любви ребенка к матери.
Маша Трауб
Плохая дочь
© Трауб М., 2021
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
* * *
Все совпадения с реальностью случайны, но закономерны.
* * *
– Зачем она это делает? Внимание привлекает? – спросила меня наш домашний врач, которую я вызвала к заболевшей дочери.
У меня всегда так – все и сразу. Наверное, как у всех. Судьба, подбрасывая проблему, от которой ты начинаешь сходить с ума и жаловаться на жизнь, и проклинать эту самую судьбу, тут же выдает в качестве нравоучения еще одну беду. Будто говоря: «Посмела жаловаться на жизнь? Думаешь, это трудности? Так я покажу тебе, что такое настоящее горе».
Я очень часто вспоминаю легендарного доктора Хауса, который, чтобы отвлечься от нестерпимой боли в ноге, сломал себе запястье. И шокирующая боль от перелома забивает постоянную боль в ноге, кажущуюся уже невыносимой, отвлекает от нее. Так поступает и судьба. Тебе страшно и горько? Ха, сейчас ты поймешь, что такое по-настоящему страшно и горько. Жалуешься на меня? Минуточку. Да что там, буквально секундочку! Сейчас начнешь молить о пощаде и о том, чтобы я была к тебе хоть капельку благосклонна. Не веришь ни в бога, ни в черта? Атеистка? Агностик? И с этим справимся, и ты уверуешь во всех известных богов во всех религиях, вместе взятых. Верующая, но давно не была в церкви – побежишь. Некрещеная – покрестишься. Умоляешь избавить тебя от бессонницы? Ты не знаешь, о чем говоришь. Сейчас я устрою тебе настоящую бессонницу, и то, что ты принимала за нее, покажется глубоким и спокойным сном.
Интуиция, предчувствия, знаки судьбы? Господи, нельзя же быть такой тупой! Сколько еще знаков тебе требовалось послать? Только о себе и думаешь, эгоистка! Хоть по сторонам иногда смотри!
Иногда судьба, фатум, провидение, или как там звать эту дамочку, и правда путает последовательность. Сначала выдает трагедию, а потом пытается прикрыться трагикомедией. Или фарсом. Логика у судьбы точно женская – необъяснимая.
У меня тогда заболела дочь. Ничего серьезного, обычная простуда, но я уже была на нервах. Накануне в больницу попала моя мама. И вроде бы тоже ничего ужасного – она под контролем врачей, я видела ее буквально утром и знала, что все будет хорошо.
Я вызвала врача для дочери. Скорее даже для себя – снять тревожность. Ждала от судьбы еще какого-нибудь подвоха или посланного испытания.
Кто-то думает, что две женщины всегда смогут договориться. Если считать, что судьба – женского рода, то у меня нет с ней ничего общего. Даже раздражает временами. Это как быть «серым кардиналом» при школьном родительском комитете, когда глава комитета принимает решение, а ты подрываешь ее репутацию несогласием. Просто высказываешь сомнение в родительском чате и склоняешь на свою сторону большинство.
Вот и мы с судьбой так же – вместе, рядом, в постоянном контакте, но никак не договоримся. И ничего общего между нами нет. Вообще разные представления о прекрасном! Судьба что-то решила, а я пытаюсь ее переубедить. Надо при этом действовать осторожно, мягко, но требовать твердо и решительно. Как с маленьким ребенком. И стоять на своем до последнего. Если нельзя конфету перед ужином, значит нельзя. Судьба для меня как маленький ребенок: иногда капризный, иногда упрямый. Иногда пробует, где край и можно ли за него заступить. А что будет, если вот такое испытание пошлю? А если такое? С судьбой не действуют методы шантажа и запугивания. Она верит в лесть – наглую. В комплименты – как каждая женщина. Ласка, нежности, уговоры, компромиссы приносят бо?льший результат, чем скандалы. И самое главное – судьба ни за что не признает, что была не права и ошиблась адресатом.
Когда у меня случаются неприятности, я стараюсь представить себе, что имею дело с трехлеткой. Опускаюсь на колени, чтобы смотреть глаза в глаза, и пытаюсь договориться. Глупость, конечно, но мне так проще сохранить здравый рассудок.
Тогда судьба опять перепутала – сначала мама попала в больницу, а потом дочь слегла тряпочкой, хотя, согласно сценарию, должно было быть наоборот.
Врач прописала дочери покой, любимую еду в любых количествах и когда пожелает, прогулы тренировок и школы, а еще мультики и книжки. Дочь устала от всего – соревнований, контрольных в школе в конце триместра, ответственности и плотного графика.
Я слушала врача, в очередной раз клятвенно о
Страница 2
ещая не устраивать ребенку передозировку витамином С. За день я успела влить в дочь настой шиповника, чай с лимоном, скормить аскорбинку в ударной дозе и уже выложила клюкву, чтобы сделать морс.Пока врач выписывала справку, я рассказывала, что устала, как собака, сама кашляю уже третью неделю, да еще мама в больницу попала, и теперь у меня точно начнется бурная жизнь. Вот во время рассказа о маме, выписывая уже мне рецепт на антибиотики, врач и задала вопрос, на который у меня нет и никогда не было ответа. «Зачем она это делает?» Этот вопрос я сама себе задаю с того возраста, когда поняла, что моя мама – не мое начало и я не ее продолжение. Она – другой человек. Нет, не посторонний, просто другой. Произошло это достаточно рано. Раньше, чем мне хотелось бы. Мама была из тех женщин, которые перегрызают условную пуповину и меняют юбку на брюки, чтобы не оставалось ни малейшего шанса прицепить к ней ребенка булавкой. Не отпускать от себя. Подольше удерживать рядом, опекать, продлевать детство. Только не в случае с моей мамой, которая никогда не «мыкала» – «мы поели, мы поспали, мы покакали». Никогда со мной не сюсюкалась, не придумывала ласковых прозвищ, терпеть не могла тисканья, совместного сна. Мама считала, что ее жизнь – это ее жизнь, а моя – именно моя. И я ей очень благодарна за то, что она считала меня отдельной личностью. Не довеском, придатком, не собственной маленькой копией, надеждой на исполнение тех мечтаний, которые не удалось реализовать. Всегда, с раннего детства, я была самостоятельной, полноценной единицей. Не ее дочерью, а самой по себе. Машей.
Сразу хочу предупредить – любителям порассуждать о том, что автор через текст пытается справиться с собственными комплексами и травмами, дальше читать не стоит. Тем, кто считает, что я должна «проработать эти моменты с психотерапевтом», тоже лучше отложить книгу. Тем, кто верит, что все проблемы из детства и во всем виноваты мама, папа, старший брат, сестра, двоюродный дядя или бабушка, – тоже. Эта книга – всего лишь история. Одна из многих, которую мне хочется рассказать. Использование первого лица в повествовании – литературный прием. Замените «я» на Настю, Катю, Лену. А образ мамы на тетю, бабушку, сестру – не важно. В каждой семье найдется такой персонаж.
Я хочу, чтобы, читая эту книгу, вы улыбнулись. Многие читатели мне говорили, что, когда я рассказываю о маме, – это весело, забавно. Всем бы такую маму и бабушку внукам. А вот если вы представите, что это именно ваша мама? Но ведь это не ваша мама, а моя, так что, надеюсь, вы не будете сдерживать смех, слезы и другие эмоции. За что очень благодарна маме – умению смеяться. Именно эту способность я точно впитала с пресловутым материнским молоком.
Мама предпочитает телеграфный стиль в общении. Упрямо шлет эсэмэски, хотя у нее есть Вотсап. «Дор. Хор. Вс.в. Б» – стандартное послание, означающее, приблизительно «Дорогие, все хорошо. Всегда ваша, бабушка». Потом мама стала использовать аббревиатуру «НВ». Я долго догадывалась, но потом спросила. Мама обиделась:
– Разве не понятно? Навеки ваша!
«Откл в связи с ух-ом». Семь утра. Мой телефон, с отключенным звуком во всех мессенджерах, реагирует громкой трелью только на эсэмэс-сообщения. А эсэмэски мне шлют только банк, центральное УГМС с призывом не ходить под шаткими конструкциями и мама. Каким ухом? Что значит откл? Естественно, я перезваниваю. Оказывается, мама ушла в магазин и временно будет не на связи. «Ух-ом» означает уходом.
Одно время мама, освоившая виртуальный покер, способная найти на просторах интернета любую информацию и лучше меня разбирающаяся в телеграм-каналах, переписывалась со Сбербанком. Сбербанк сообщал ей, что на карту зачислен перевод. Мама писала в ответ «спс, аминждали». То есть «спасибо, а мы и не ждали». Перевод приходил от меня. Сбербанку же мама отчитывалась о тратах – на лекарства, на уколы и прочие нужды. Советовалась, стоит ли купить абонемент в бассейн или ходить разово…
– Мам, тебе хватает денег? – спросила как-то я.
– Я же всегда отвечаю! – обиделась мама.
Отчего-то она решила, что я ни при чем, а Сбербанк – молодец. И с ним ей понравилось общаться. Деньги присылает регулярно, на письма не отвечает. Значит, все хорошо. Сбербанк ничего не говорил про нецелевое расходование средств, когда она на всю сумму накупала подарков для внуков, и не кричал, что не надо этого делать. Не ругался и не призывал прекратить транжирить деньги бог знает на что. Молчал в ответ, что для мамы означало полное одобрение ее трат.
Я боюсь звонков от мамы и вздрагиваю от каждого полученного сообщения. Хотя звонит она мне редко, отчего-то считая, что это моя обязанность.
– Мам, ну ты же не барышня, которая не может первой позвонить кавалеру! Что такого? Позвони сама! – кричу я.
– Я не хочу тебя отрывать, – немедленно обижается мама, припоминая, что я не звонила ей уже сутки.
– Господи, да лучше оторви меня, чем я потом буду за сердце хвататься!
Если я звоню маме, то никогда не знаю, кто мне ответ
Страница 3
т. Она может нажать случайно кнопку громкой связи, и я буду слушать онлайн-трансляцию. Вот позвонила один раз. Мама, видимо, нажала не туда, и я услышала в трубке:– Пока, ребят. Заходите, если что.
Какие ребята? Почему они должны зайти к пенсионерке, если что? Конечно, я начала беспокоиться.
– Мама! Мама! Кто у тебя там? – орала я.
– Ой, это ты? А я думаю, почему у меня телефон орет? – удивилась мама. – Что ты опять такая нервная? Как ни позвонишь, все время в истерике!
– Мам, кто у тебя только что был? – спросила я, заикаясь, представляя себе всех мошенников мира, вместе взятых.
– Мосгаз, – ответила мама.
Я слишком много смотрю сериалов. И сериал про Мосгаз тоже смотрела. Наверное, в моей голове замкнулись не те контакты, и я стала орать про соблюдение элементарных норм безопасности.
– Да утечка газа была, – ответила мама, – воняло на весь подъезд. Вот ходят ребята и проверяют по всем квартирам. Конечно, я попросила предъявить удостоверение.
– А зачем ты им сказала: «Заходите, если что»?
– Ну вдруг я газ забуду выключить?
– У тебя плита электрическая! Какой газ? У вас во всем доме плиты электрические!
– Да? – удивилась мама. – А кто это тогда был? Такие приятные парни, вежливые.
Но когда по квартирам ходил самый настоящий участковый, с самым настоящим удостоверением, и спрашивал про соседа – того разыскивали по какому-то делу финансовому, не могли дозвониться, – мама вдруг решила не вступать в разговор с представителем органов. Мало того, что ему не открыла, так через дверь еще и лекцию прочитала о том, что думает о тех, кто ходит по квартирам и собирает сведения о соседях. Кажется, выдала историческую справку про доносы и репрессии. Успела дойти до 37-го года. Вернулась в современность, упомянув сфабрикованные дела, коррупцию во власти. Тот участковый приходил к маме еще дважды, и дважды она объявляла, что без ордера его на порог не пустит. Но то ли участковый пытался оценить степень сумасшествия гражданки и стоит ли вызывать карательную медицину времен советской власти, о которой мама тоже прочитала отдельную лекцию, то ли просто ему было интересно… Все-таки у мамы высшее юридическое образование, много лет проработала адвокатом, так что она легко оперировала профессиональной лексикой. Я склоняюсь к тому, что участковому было интересно – мама блестящая рассказчица и прирожденный лектор.
Когда участковый вернулся к поводу для визита и спросил, как давно мама видела соседа снизу, моя родительница сообщила, что сто лет не видела. И вообще с ним не знакома. Сидит, мол, дома, на улицу выходит редко. Соседка справа – вот та точно умерла. А соседа слева родственники из квартиры выжили, сволочи. Вот о них она много может рассказать. О соседе снизу ничего не знает.
Этот сосед, кстати, мою маму обожает. Иногда приносит ей сигареты и бутылку вина. Без всякой просьбы может появиться с картошкой, луком и другими тяжелыми продуктами.
– Мам, а если он и вправду совершил преступление? – спросила я.
– Нет, он не мог. В последний раз привез мне с собственной дачи два ведра яблок.
– Мам, маньяки и убийцы тоже могут яблоки привозить и быть крайне приятными людьми.
– Ты мне будешь рассказывать? А то я маньяков и убийц не видела! Ха!
Да, видела. После института она решила стать следователем, раскрывать особо тяжкие преступления. И лишь отработав несколько лет в этом качестве, перешла в адвокатуру и переквалифицировалась в юриста-хозяйственника. Дела по разделу имущества, разводам и наследству приносили больше денег. А мама вынуждена была зарабатывать, чтобы содержать дочь и мать – меня и бабушку.
Впрочем, я считаю, что мне еще повезло с мамой. Вот ее лучшая институтская подруга, тетя Света, работала в детской комнате милиции. И на учете состояли оба ее сына. По месту жительства, так сказать. Я в детстве жила у них в семье. Слава богу, что недолго, а то тетя Света и меня поставила бы на учет к себе в комнату. Ребята, кстати, нормальные парни, всерьез рассказывали мне о том, что мать их точно в колонию отправит. Даже глазом не моргнет. Тетя Света считала, что я стану проституткой и она должна это предотвратить. Мне тогда было лет десять, и я слова-то такого не знала. Но на всякий случай даже дышала через раз в присутствии тети Светы. Ее сыновья меня просветили, рассказав, кто такие проститутки, и я вообще дышать переставала, едва видела тетю Свету. К счастью, мамина подруга решила снять с себя ответственность за мое будущее и срочно вызвала маму из командировки – я очевидным образом страдала астмой, похудела, позеленела, ходила с синими кругами под глазами, потому что мне снились кошмары. Но не только тетя Света была в этом виновата. Ее сыновья тайком показали мне фильм про Фредди Крюгера и пугали по вечерам, намазывая на лицо томатную пасту и налепив на пальцы когти, вырезанные из пластмассы. Я боялась глаза закрыть. Тетя Света понимала, что такими темпами ее подопечная скоро концы отдаст и она точно не успеет поставить меня на учет в детскую комнату. Поэтому с
Страница 4
ала меня обратно. Мама, проведя со мной сутки, за которые я успела несколько раз перестать дышать, шарахнуться от собственной тени и проорать всю ночь, отправила меня к бабушке – на излечение.Уже став взрослой, я спросила маму, почему она тогда не придушила собственными руками тетю Свету, которая довела меня до такого состояния. И продолжала с ней дружить долгие годы. Мама удивилась и ответила:
– Она хотела как лучше. И не тебе ее судить. Она одна с двумя детьми, без мужа, да еще на такой работе. Тетя Света работала как проклятая всю жизнь, без выходных и проходных. Мы все тогда тяжело жили, но Светка жилы рвала, чтобы парней прокормить. И, кстати, она настоящая, честная, и на работе на нее молились – за своих ребят, тех, кто на учете стоял в детской комнате, могла голову отгрызть. Многих от колонии спасла. Да что там – и кормила, и рубашки им стирала, как родным.
Старший сын тети Светы все же попал сначала в колонию, а потом на зону за кражу шоколадных батончиков. Он даже не воровал: старшие ребята, обносившие магазин, попросили постоять на стреме. За службу расплатились батончиками. Поймали только его, с вещественным доказательством – целой коробкой. И тетя Света тогда не включила связи, не пыталась договориться, ничем не помогла сыну. Виноват – надо отвечать. А младший сбежал в другой город. Тетя Света о нем ничего не знала, да и не хотела знать, приравняв побег сына за лучшей или просто другой жизнью к предательству.
– Мам, почему тетя Света так поступила? Разве она не должна была защищать сына всеми способами? Ведь у нее были возможности! И почему не стала искать младшего? Ведь легко могла узнать, где он! – спросила я.
Мама не ответила.
Я все-таки думаю, что дело тут в особенностях поколения послевоенных детей, родившихся в конце сороковых годов прошлого века. Не знавших отцов, рано потерявших матерей. Выживавших, вечно голодных, очерствевших. Мама, например, мечтала вернуться в интернат, где провела год, – бабушка уезжала на заработки и не могла взять с собой дочь. Мама рассказывала, что только там она начала наедаться. Там у нее появились первое платье и первые чулки, пусть и казенные. В интернате ей нравилось, потому что всегда была еда. Баланда, невкусно, но регулярно: три раза в день.
– Все равно не понимаю, – сказала я маме, и она наконец начала рассказывать.
Тетя Света, 1946 года рождения, так и не смогла избавиться от чувства голода. Сколько бы ни съела, все равно не наступало чувство насыщения. Она и когда училась в институте, постоянно объедалась, ей становилось плохо, начиналась рвота. Кровавая. Ее отправляли в больницу, подлечивали, она выходила – и снова по новой.
– У нее нет ни одного целого ребра, все переломаны, – рассказывала мама про свою подругу, – и нос сломан. Ее мать вышла замуж, и это считалось невероятной удачей. Но отчим бил и Светкину мать, и саму Светку смертным боем. Мать терпела, потому что муж приносил деньги. И с мужем выживать было легче. Ей все бабы завидовали, пока в гробу не увидели – она умерла от побоев.
– И тетя Света осталась с отчимом после смерти матери?
– А куда ей было деваться? Их квартира перешла к нему – он там был прописан. Но он хотя бы не выгнал ее на улицу, а ведь мог.
– Мам, что значит «хотя бы»? Почему она сама не ушла? Почему никому не сказала? Не пожаловалась?
– Другие времена были. Он фронтовик, прошедший всю войну, герой, грудь в орденах. А она кто? Ты думаешь, на чьей стороне была бы правда? Светке все говорили, что она должна ноги отчиму целовать за то, что он ее оставил. Да еще и удочерил.
– И продолжал избивать.
– Ты не смеешь ее судить. Всех нас. Мы жили в других условиях. – У мамы задрожал голос, она готова была расплакаться.
– И поэтому не любили собственных детей?
– Нас не научили любить. Но мы вас хотя бы выкормили. Вы не знали, что такое голод, – отрезала мама.
– Это не оправдание. Я бы никогда не отдала своего ребенка в семью случайных знакомых.
Это был запрещенный прием, поскольку я говорила уже о себе, о своем детстве.
– Жизнь заставила, отдала бы. – Мама бросила трубку.
Я знаю, что она плакала весь вечер, и я рыдала. Только мама могла делать это не таясь, а я лила слезы в ванной, открыв кран на полную мощность, чтобы не услышали мои дети. Не испугались. Для ребенка слезы матери – самый большой страх. Это я точно знаю. Мама не должна плакать, она не имеет на это права. Мама должна улыбаться, смеяться. Некоторые женщины убеждены, что они должны быть такими для мужа – здоровыми, красивыми, ласковыми, всегда в хорошем настроении. Вовсе нет. А вот для ребенка – обязаны.
– Мам, я никогда не буду воспитывать своих детей так, как ты воспитывала меня! – закричала однажды я. Мне было лет шестнадцать. – Да ты меня вообще не воспитывала!
– Ну и слава богу, – спокойно ответила мама.
* * *
Кавказское воспитание. Почему оно засело в подкорке? Мама вытравляла воспоминания, уничтожала огромный кусок жизни, избавлялась от акцента, сжигала все мосты, чтобы даже не вспомин
Страница 5
ть о селе, в котором выросла. Она сделала все возможное и невозможное, чтобы я, ее единственная дочь, родилась, выросла и жила в Москве. Чтобы мои дети, мамины внуки, жили в столице, получали образование, работали. Но меня вырастило северокавказское село, из которого сбежала мама. Подарило счастье, тепло, любовь.Мы никак не можем договориться.
– Мам, я не приеду на дачу, не могу, устала, – говорю я.
Она обижается, конечно. Но я и вправду больше не могу. Когда мама приезжала к бабушке в село, сразу принималась красить, белить, ремонтировать, заливать бетоном, перекладывать печку, перестирывать, перетряхивать. Все две недели отпуска она вкалывала по дому.
То же самое повторилось, когда выросла я и у нас появилась дача. Я приезжала и начинала красить, сажать цветы, перестирывать на руках пять комплектов постельного белья, которые мама собрала к моему приезду. Я драила дом, двор, перемывала, перетряхивала. К концу дня падала без сил, забыв, что даже не успела поесть. Мама считала, что так и должно быть – ведь она делала то же самое для своей матери. Обязанность. Я не езжу на дачу, потому что меня там ничто не привлекает. Это не бабушкин двор, не ее забор, не ее яблони. Мама посадила куст жасмина, когда родился ее внук. Сейчас этот жасмин превратился почти в дерево. Он цветет, распускается.
– Жасмин зацвел, – сообщает мама, – приезжай, посмотри. Запах на весь участок. Как у бабушки.
У бабушки в палисаднике не рос жасмин. Бабушка любила гребешки. Не знаю, как правильно они называются: длинный стебель и цветок, напоминающий петушиный гребень. Без запаха. Сирень – белая, фиолетовая, розовая. Мое детство пахло сиренью. На все школьные праздники мы приходили с ветками сирени. Искали цветки-пятилистники, на которых загадывали желание, и съедали, чтобы исполнилось. Розы, шикарные, росли во дворе каждого дома, а чахлые тюльпаны – только на клумбе на площади перед сельсоветом. Гвоздики – главный цветок всех торжеств – привозили из города. В селе гвоздики никто и не держал за цветок. Бесполезный, не то что ромашка или василек. Из полевых цветов делали отвар, а какой отвар из гвоздики?
Бабушка любила кизиловые кусты, запах цветущей вишни и липы. А еще кизиловое варенье, вишневую настойку, чай с липовым отваром. Жасмина в этом списке никогда не было. Мама придумала себе свой аромат и его историю. Мы все так делаем.
* * *
Когда судьба в очередной раз ошиблась дверью и постучалась в мою, она, как всегда, взяла себе в помощники мою маму. Когда я задумываюсь о смысле жизни, всегда появляется мама и делает так, чтобы до меня наконец дошло – смысла в жизни в принципе нет. А есть обязательства, ответственность и все остальное. Как только я благодарю судьбу за бездействие, душевный покой, относительное спокойствие, судьба немедленно напоминает, что у меня есть мать. Какой покой? Какое бездействие? Быстро взяла себя в руки и побежала!
В тот момент – я точно это помню – мне было хорошо и спокойно. На удивление. Я обсыпала солью все, что возможно. Обстучала все деревянные поверхности в доме и собственный лоб, чтобы не спугнуть редкое ощущение благополучия, тишины во всех сферах, включая душевные. Душе тоже иногда требуется отдых от надрыва.
Я позвонила маме. Мне захотелось с ней поговорить, просто так. Не спрашивать, есть ли у нее таблетки. Не планировать, когда она сможет к нам приехать. Не напоминать о том, что надо показаться врачу и повторить курс массажа. Не отговаривать от идеи поехать в Кисловодск, например, потому что врачи после страшной аварии и перелома позвоночника категорически запретили ей летать и поднимать больше двух килограммов. Маме до конца жизни были рекомендованы спокойный режим, размеренные прогулки по парку, мониторинг давления, амбулаторное наблюдение. Категорически исключить стрессы. Конечно, не пить, не курить.
Она тогда объявила, что если бросить курить и пить коньяк, то зачем вообще дальше жить? Тем более рентген удивительным образом подтвердил, что легкие у нее абсолютно чистые, несмотря на пятидесятилетний стаж курильщика. И печень в соответствии с возрастом, даже лучше, хотя мама за свою жизнь выпила столько коньяка и прочих напитков, что печень должна была уже отвалиться.
Я понимала, что маме скучно жить. Неинтересно. Она не из тех, кто находит удовольствие в заботе о собственном здоровье. Книги, современные сериалы – да. Мама следит за новинками. Она читает прессу в разных источниках, включая телеграм-каналы. Телевизор не смотрит принципиально. Но все это не то. В какой-то момент, наверное, после той страшной аварии, мама потеряла смысл жизни. В глобальном, что ли, значении.
Внуки? Она их безумно любит, но никогда не была той бабушкой, которая водит в детский сад, забирает, отводит на кружки, встречает из школы, готовит, шьет костюмы к утренникам, заплетает косички или помогает сделать домашнее задание. Моя мама – бабушка-праздник. Приезжает тогда, когда ей хочется. Проводит с внуками столько времени, сколько захочет. И я всегда уважала ее право на собствен
Страница 6
ую жизнь. Никогда не упрекала. Я выстраивала собственную жизнь и работу так, чтобы мама оставалась для моих детей фейерверком, Дедом Морозом и феей-крестной: приезжает редко, но так ярко, что воспоминаний на год хватит. Она бабушка, которая ведет себя не как бабушка, а как не пойми кто. И ни у кого из друзей детей нет такой. Наша – уникальная во всех смыслах. Впрочем, мне и не приходилось прилагать особых усилий, чтобы поддерживать эту ее репутацию.Но сейчас, когда мама жила одна – в городе или на подмосковной даче, я не знала, чем ей помочь, чем занять ее время. Да и странно менять жизнь, когда уже все давно сложилось, сто раз обговорено, отплакано. Я жила отдельно с шестнадцати лет, дачу люто ненавидела, как и квартиру, которая была для меня не домом, а, скорее, перевалочным пунктом. Когда сын был маленьким, я снимала дачу, имея собственную на берегу реки, и мама считала это нормальным. Позже я старалась сделать так, чтобы мы с детьми проводили лето на море. И мама всячески это поддерживала. Теперь же, когда мой сын уже вырос и сам решает, куда ему ехать, а дочь проводит летние месяцы на сборах, мама всех зовет на дачу. Обижается. Плачет.
Я ничего не могу с этим поделать. У нас нет опыта совместной жизни и общих интересов. Я все равно считаю себя виноватой – в том, что не могу себя перебороть, пересилить. Но я прекрасно знаю, чем все закончится. Спустя полчаса примусь собирать только что разложенные вещи, загружать их в багажник, заводить машину, пытаясь унять тремор в руках, чтобы уехать как можно скорее. Мы физически не можем жить вместе. Нет навыка. Но если вы приедете к моей маме в гости, то ни за что не захотите уезжать. Вам будет вкусно, весело. Она расскажет миллион историй, и вы будете хохотать до истерики и искренне считать, что моя родительница – уникальная женщина, блестящая рассказчица. И будете правы. Так и есть. Но лишь в том случае, если вы ей не дочь.
В тот вечер, когда я ей позвонила – просто так, без повода, хотя еще утром сделала дежурный звонок, – мама ответила сама. Но говорила невнятно. В принципе имела полное право – лето, теплый вечер. Никто не мешал ей выпить вина в свое удовольствие.
– Мам, ты выпила? – спросила я на всякий случай, потому что сразу начинаю подозревать худшее, и в мозгу включается «мигалка»: если выпила, то с кем? Новый поклонник? Очередной брак – скоротечный и бессмысленный? Мне придется хоронить ее очередного мужа? Нет, только не это. Пожалуйста. Я уже это делала. Больше нет никакого желания.
– Зачем ты это делаешь? – спросила меня подруга, когда я рассказала, что вынуждена браться за любую работу. Надо оплатить содержание маминого мужа в частном хосписе. Не только содержание, но и лекарства. А потом и похороны, потому что родственники мужа будут звонить, требовать.
– Ради мамы, – ответила я. – Она его любит и приезжает туда каждый день.
Моя приятельница сказала, что ни за что бы так не поступила. Пусть родственники того мужчины за все платят, беспокоятся и организовывают.
– Они не будут. Даже копейки не дадут. А мама с ним больше не может. Она устала и боится.
– Скажи маме, что у тебя нет денег на ее мужа, – предложила подруга.
– Я не могу.
Я действительно не могла. Родственники маминого мужа, когда он умер, выставили требования – захоронение, крест, отпевание, венки. Я все оплатила лишь с одним условием – чтобы они не звонили маме. Чтобы все переговоры велись через меня.
Наверное, надо было позволить случайным родственникам пообщаться с мамой. Тогда не было бы безумия со здоровенным крестом. Когда его выгрузили из машины, мама, едва закурив, поперхнулась табачным дымом.
– Это что? – спросила она у меня.
– Родственники сказали, что твой покойный муж был глубоко верующим человеком, – ответила я.
Мама нецензурно выругалась.
Из церкви во время отпевания она вышла и закурила на ступеньках. Кто-то из старушек-прихожанок сделал ей замечание. Мама выругалась так, что старушку сдуло. Потом моя родительница фотографировала объявление, висевшее на дверях: «Вход с колясками не благословляется». Это объявление ее потрясло.
– Они там что, совсем уже? – кричала мама. – А сколько, интересно, стоит благословение зайти с коляской?
Пока священник с плохой дикцией отпевал сразу троих преставившихся, в числе которых был и мамин муж, моя родительница разбиралась с церковной кассой. Я была даже рада, что она нашла себя в скандале, в каком-то деле. Мама подсчитала, сколько стоят свечи, иконы и какую выручку в день, месяц и год имеет церковь. В ходе дискуссии ей выдали официальное благословение заходить в церковь хоть с коляской, хоть в штанах. Еще немного, и ей разрешили бы курить внутри.
Когда мама увидела кусок грязной глиняной земли, железную оградку, которая, как в общежитии, близко соседствовала с остальными, брошенные на дорожке бутылки водки, обертки от конфет, то отказалась бросать на гроб горсть земли, которая и землей не была – скорее глиной, смешанной с грязью. Не стала ждать, когда воткнут в землю деревянный кр
Страница 7
ст и положат пошлые венки с искусственными цветами. Здоровенные, китчевые.– Отвези меня домой, – велела она.
Я отвезла.
Мама больше ни разу не была на могиле мужа. Не отмечала ни девять дней, ни сорок, ни годовщину смерти. Она не просила отвезти ее на кладбище, чтобы посадить цветы, поставить памятник вместо деревянного креста. Она отрезала от себя прожитые с ним годы, будто их и не было. Как когда-то решила, что не выросла в селе и не знает осетинский язык, на котором говорила, читала, писала. Я уважала ее право. Мужа, пусть очередного, но подарившего ей несколько лет счастливой жизни, как мне казалось, она вычеркнула из своей памяти за ненадобностью.
Мои дети его знали и считали дедушкой. Именно мне пришлось объяснять им, что дедушка заболел и умер. Сын хотел поехать в больницу, потом на похороны, но мама запретила категорически. Дочка же еще долго переживала, если заболевали я или муж.
– Вы не умрете? – спрашивала она.
– Нет, конечно, – отвечала я, едва сдерживая слезы.
Если бы бабушка поговорила с внучкой, если бы объяснила, что дедушка был уже стареньким, что в больнице он лежал не от простуды, а от опухоли мозга, если бы просто приехала, ее внучка, возможно, переживала бы меньше. Я – мама, у меня одни слова. Бабушка могла найти, подобрать другие, чтобы объяснить смерть дедушки.
Хотя нет, лучше не надо. Я знаю, что бы сделала моя мама. С порога бы объявила: «Он тебе не дедушка». Так она поступила со мной, когда я спросила, когда увижу папу. «Какой он на хрен тебе папа?» – ответила мама и рассказала мне, на тот момент восьмилетней, что отца у меня нет. А мужчина, которого я считала своим отцом, – вообще мне никто. И теперь даже маме никто. Так, воспоминание, и то не факт.
Тот мамин муж, которого я называла папой, любила и по которому скучала, прислал мне на окончание школы подарок. Передал через третьих лиц. Мама об этом даже не знала. На домашний телефон позвонила женщина и попросила встретиться с ней в метро, назвала станцию, в центре зала. И молча передала конверт. Там была огромная, по моим понятиям, сумма.
– Это тебе от папы, – улыбнулась женщина.
Я едва удержалась, чтобы не спросить – от какого именно? Но для себя я решила, от кого деньги. И даже если не от того мужчины, который любил меня как родную дочь, заменил мне не только отца, но и мать, делал со мной уроки, встречал после музыкальной школы, покупал наряды и выиграл для меня школьный конкурс – требовалось нарисовать кроссворд по Древней Греции, – я все равно считала, что этот подарок от него.
– Только маме не говори. Это тебе, – сказала женщина.
Да я и не собиралась! На эти деньги я купила себе платье для выпускного, на который решила пойти. Не собиралась, потому что нечего было надеть. Мама в тот момент, кажется, даже не подозревала, что я окончила школу. У нее вообще провалы в годах. Она то прибавляла мне лет, то убавляла, на свое усмотрение. Сейчас она убеждена, что мне немного за тридцать, хотя мне уже за сорок. Мама отказывается в это верить – ведь тогда ей придется признать свой реальный возраст. Поэтому я для нее все еще тридцатилетняя женщина, можно сказать, все еще девушка, а она молода и прекрасна. И ей тоже минимум на десять лет меньше.
Я купила себе платье, долго придумывая, как совру маме, откуда я его взяла. Решила сказать, что подружка дала поносить. Но мама не спросила, даже не заметила. Она была в новом романе, который вскоре закончился очередным браком. Конечно, мне было обидно. Не из-за того, что мама не заметила мое платье, мой выпускной, сам факт того, что я окончила школу. Не из-за того, что она не присутствовала на концерте, не поздравляла учителей вместе с остальными родителями. Мне было обидно из-за другого: я почти две недели придумывала речь, объяснение, откуда взяла деньги на платье и туфли, а она даже не поинтересовалась.
Я не была на выпускном в институте. Не ходила на вручение дипломов, где многие мои однокурсники сидели рядом с родителями. У меня не было денег на платье, взнос за ресторан, где праздновался выпуск. Я давно работала, и зарплаты хватало на еду и минимальные бытовые нужды. На вручение дипломов я не попала, потому что меня не отпустили с дежурства. Сколько слез я тогда пролила – мама не знает. Наверное, поэтому сейчас удивляется моей выдержке. Она не знает – если я позволю себе расплакаться, то не остановлюсь. Не смогу. Слезы меня потопят, а это слишком большая для меня роскошь. Я не имею права ходить опухшей, лежать в кровати и страдать. Не имею права говорить, что не могу встать, нет сил готовить обед или ужин, стирать, гладить. Я себе это не позволяю не ради себя или мужа. Ради детей.
* * *
– А что, я не имею права выпить? – с вызовом спросила мама в тот вечер. Ее язык явно заплетался. И тогда уже мне стало плохо.
– Мам, подойди к зеркалу и попробуй улыбнуться, – строго велела я.
– Кому? – уточнила светским тоном родительница.
– Себе! Посмотри на себя в зеркало и улыбнись!
– Хорошо, раз ты настаиваешь… – ответила мама и положила
Страница 8
рубку.Кажется, я успела накраситься, переодеться, собрать сумку и встать у двери готовой к выходу. Мамин телефон, на который я продолжала дозваниваться, отзывался длинными гудками. Когда я уже вызывала лифт, мама наконец взяла трубку.
– Почему ты не отвечала? – заорала я как полоумная.
– Ты же мне сама велела улыбаться себе в зеркале.
– Ну? – не поняла я.
– Зеркало в ванной, телефон в комнате, я стояла и улыбалась. Не знаю, правда, зачем.
– Пожалуйста, я тебя очень прошу, скажи мне, ты выпила или нет?
– Ну немного, – призналась мама.
– Сразу нельзя было сказать? – заорала я.
– Вот поэтому и не сказала. Ты начала бы кричать. И что мне делать?
– Иди пей дальше.
– Больше не улыбаться? Кстати, а зачем я это делала?
– Затем. Я боялась, что у тебя инсульт.
Не знаю, сколько времени прошло. Где-то полгода. За это время у мамы начало скакать давление, кардиограмма не отличалась стабильностью. Учитывая семейный анамнез – женщины в моем роду умирали или после нескольких перенесенных инсультов, или от инфаркта, – я волновалась и просила маму следить за собой, не забывать пить таблетки и регулярно проходить обследование.
Я звоню ей каждый день. Иногда дважды на дню. Если не звоню, то знаю, что или мой муж списывался с тещей, или внуки выходили с ней на связь. При этом понимаю – она ни за что, ни за какие коврижки не позвонит мне, если что-то случится. До последнего будет говорить, что у нее все хорошо. Еще и обидится, если я начну допытываться. Детский сад какой-то.
Я позвонила. Мама ответила, но речь была замедленной, невнятной.
– Мам, как ты себя чувствуешь? – спросила я.
– А что? – Она любит отвечать вопросом на вопрос.
– Скажи, как тебя зовут? – попросила я, поскольку решила, что в зеркало она больше не пойдет смотреться. А человек с признаками инсульта не в состоянии ответить на самый простой вопрос или произнести простейшую фразу.
– Ээээ, – ответила мама.
Я немедленно впала в панику.
– Мама, ты можешь поднять обе руки на уровень плеч? – закричала я.
– Ээээ, – ответила мама.
Тогда я приехала, чудом не угодив в аварию, поскольку неслась с таким превышением скорости, как в молодости не гоняла. Хорошо, что родительница тогда находилась в московской квартире, а не на даче. Пусть на другом конце города, но все же не два часа добираться.
Когда я ворвалась в квартиру, открыв дверь своим ключом и проклиная все на свете – я забыла, что дверные замки в маминой квартире открываются в обратную сторону, не слева направо, а справа налево, а дверь – не внутрь, как у всех нормальных людей, а наружу. Я долго ее толкала, не понимая, почему она не поддается, давила на дверной звонок, но мама не открывала. Потом я вспомнила, что есть еще один замок – нижний. И если его закрыть изнутри, снаружи дверь не отопрешь. Вот это самый ужасный из моих кошмаров – мама закроется, и я не смогу войти в квартиру.
Не знаю, в каком состоянии пребывали установщики дверей и замков, но, кажется, им было очень хорошо, раз они сделали так, что ни один вор при всем желании в трезвом уме в квартиру не смог бы проникнуть.
Когда я наконец ворвалась, обещая вырвать дверь с косяком и поставить новую с нормальными замками, передумав все страшные мысли, то нашла родительницу не лежащей на полу, а стоящей на подоконнике. В квартире воняло так, что у меня глаза начали слезиться. Запах я узнала – дихлофос или что-то вроде того. Ядреное, если не ядерное.
Тут уже у меня закружилась голова, и было от чего – мама стоит в раскрытом окне, пахнет дихлофосом. Вот что я должна была подумать?
– Мам, привет, – ласково и тихо сказала я.
Мама, естественно, чуть не вывалилась в окно.
– Ты с ума сошла? Так пугать! Да у меня сейчас инфаркт будет! – заорала она, вцепившись в косяк.
Речь у нее при этом была не очень внятной.
Я побежала на кухню, чтобы исключить алкогольную версию. Исключила. На плите стояла лишь турка с остатками кофе. Никаких пустых бутылок или бокалов на столе.
Я вернулась в комнату. Мама слезла с окна.
– Ну и зачем ты приехала? – Она говорила так, что я с трудом ее понимала. Вид при этом был вполне бодрый, но не слишком здоровый.
– Как зачем? Ты меня напугала. Пожалуйста, можешь высунуть язык?
– Зачем?
– Так надо.
Мама попыталась высунуть язык, но у нее не получилось.
– Больно, – сказала она и схватилась за голову.
Конечно, я вызвала «Скорую», сообщив, что у мамы подозрение на инсульт. «Скорая» приехала быстро. Маме измерили давление – на удивление стабильное. Сделали кардиограмму – тоже в норме. Врач сидела и не понимала, что происходит. Мама пыталась ругаться, но у нее плохо получалось – язык не ворочался.
– А чем так пахнет? – спросила врач.
– Дихлофосом, не знаю почему. Она в окне стояла, чуть не упала, – ответила я.
– Ольга Ивановна, зачем вам дихлофос? – спросила врач.
– Комбат не помогает, – ответила мама, – доместос тоже.
– Спутанное сознание, – сказала врач.
Я согласилась, потому что тоже не могла понять связь дихло
Страница 9
оса с командиром батальона и чистящим средством для унитаза.Мы с врачом перебирали возможные диагнозы. Мама лежала и молчала. Парень-фельдшер молча забрался на подоконник, открыл окно и до пояса высунулся наружу.
– Так и дихлофос не поможет, – произнес он.
– Славик? – У врача взметнулись брови.
– У вас пылесос есть? Где стоит? – не отвечая врачу, спросил Славик у мамы.
Та махнула в сторону коридора. Славик кивнул и пошел за пылесосом. Врач следила за действиями фельдшера, забыв вернуть брови, которые уползли на пару сантиметров выше, на положенное место.
– Доктор! – закричала я, поскольку мама покраснела, и ее лицо стало похожим на раскаленную сковородку для блинов.
– Не понимаю, ничего не понимаю, – развела руками врач. – Похоже на аллергию.
– Точно! – обрадовалась я и кинулась к своей сумке, куда успела запихнуть все лекарства для экстренной помощи, включая шприцы разных объемов – от инсулиновых до тех, что на пять миллилитров, – нашатырь, шоколадку и антигистаминные препараты трех видов. Пока я давила в ложке и растворяла в стакане сразу две таблетки, бездействующая и явно ошалевшая врач смотрела, как фельдшер Славик разматывает шнур пылесоса, тянет его к окну, забирается на подоконник и начинает пылесосить стену с другой стороны дома. Если честно, я тоже слегка обалдела от подобного зрелища.
– Доктор, кто сошел с ума? Мы или они? – спросила я, поскольку мы с врачом находились, так сказать, по одну сторону баррикад, а мама со Славиком – по другую.
– Не знаю, – ответила врач, достала из кармана таблетку и положила под язык. Я в это время заставляла маму выпить растворенные таблетки, причем врач даже не поинтересовалась, какие именно.
– Надо матку высосать. Потом мешок в кипяток. Если матка останется, монтажной пеной залить, – радостно комментировал свои действия Славик.
Мама, чье лицо все еще не отличалось нормальными формой и цветом, попыталась что-то сказать, но у нее не получилось. Тогда она подняла большой палец. Врач, кажется, в тот момент решила сделать себе кардиограмму и прощупать пульс.
Где-то через сорок минут мама приобрела человеческий вид – уже не казалось, что она поставила себе на лицо раскаленный утюг. Я разливала по бокалам коньяк. Врачу налила двойную дозу, исключительно в медицинских целях. Оказывается, суматошно собираясь, я сочла необходимым запихнуть в сумку и бутылку коньяка. Славик, пропылесосив стену дома, устроился в кресле и выпил коньяк. Я сходила на кухню и сделала ему бутерброды, которые он съел, кажется, не жуя.
– Такого выезда у меня еще не было, – улыбался Славик с набитым ртом.
– У меня тоже, – отозвалась врач.
– Ой, надо Саныча позвать! – воскликнул Славик и схватил телефон. Через минуту я ставила на стол дополнительную рюмку и резала новую порцию бутербродов.
Мама пришла в себя. Таблетки от аллергии подействовали, поэтому она смогла рассказать про осиное гнездо, образовавшееся в стене дома. О том, как она пыталась заливать ос кипятком, прикармливать их медом, сахарным раствором и прочими народными средствами, но ничего не действовало. Даже комбат и доместос… Тогда она решила забрызгать ос дихлофосом – еще удивлялась, как он вообще у нее оказался. Вроде бы не покупала. Но, видимо, одна из ос залетела в квартиру и приземлилась в чашке с кофе. Мама сделала глоток, и оса отомстила за весь свой род, ужалив маму в язык. Когда я звонила и требовала, чтобы она назвала свое имя, моя родительница беспокоилась за мое здоровье, а не за свое. Когда я попросила ее вытянуть руки, мама совсем разволновалась и сделала еще один глоток из чашки с остывшим кофе. Видимо, еще одна оса оказалась кофеманкой, и мама ее едва не проглотила. Поскольку осы стали ее раздражать, она решила объявить им войну и кинулась в окно с дихлофосом. А тут и я приехала с выпученными глазами, будто меня оса укусила не в язык, а в оба глаза.
Славик же оказался специалистом по осиным гнездам – у его матери в доме точно такая же история с осами произошла буквально неделю назад. И только с помощью пылесоса и монтажной пены избавились от гнезда.
– Закон парных случаев, – заметила врач.
– Это как? – спросил Славик.
– Если один странный случай или диагноз случился, точно жди второго, – ответила врач.
* * *
Прошло, кажется, еще полгода. Я позвонила маме – она жила на даче, занималась садом, фотографировала розы и куст жасмина. Я была с дочкой за границей и звонила через день. Связь неизменно оказывалась плохой – кажется, из-за того, что мама пустила вьюн по проводам вай-фая или не вьюн и не по вай-фаю. Но она опять разговаривала странно. Еле ворочала языком.
– Мама! – заорала я, надеясь, что связь не прервется. – Что? Отвечай! Тебе плохо? Оса в язык укусила?
Мысленно я уже составляла в голове список людей, которые смогут экстренно сорваться и поехать к маме на дачу в ста двадцати километрах от Москвы.
– Ты больше ничего не хочешь спросить? Тебя больше ничего не интересует? – немедленно обиделась мама.
– Нет!
– Сейчас разговорюсь. Попро
Страница 10
уй помолчи неделю. Я же только мысленно с цветочками общаюсь. С кем мне разговаривать? Практики нет, вот язык и не ворочается.– А соседи? Ты ездишь в магазин? – продолжала вопить я.
– Мне с ними давно неинтересно. Чего я там нового услышу? Только с Аликом разговариваю, когда он приходит траву косить во дворе. С ним интересно.
– Алик не говорит по-русски!
– Именно поэтому у нас с ним прекрасные отношения! Он меня не понимает, а я его. Знаешь, я решила – если еще раз выйду замуж, то за Алика.
Про Алика, который был то ли Алибеком, то ли Алиханом, я знала только то, что он работает на постоянной основе у хозяев участка в конце деревни – сторожем, мастером на все руки. Когда хозяева отсутствуют, Алик подрабатывает на других участках. Знала и то, что на родине у него остались жена и пятеро детей. Все деньги он отправляет семье, регулярно, стабильно и щедро, поэтому его там ждут, но не так, чтобы сильно.
– Ты не можешь выйти за него замуж! – закричала я.
– Конечно, не могу. Просто я поняла, что мне нужен мужчина, на которого я кричу, а он думает, что я ему приятные вещи говорю, – ответила мама. – Вот смотрю на Алика, а он уже все понял безо всяких слов и идет достригает там, где не достриг… Ну что, я уже нормально разговариваю?
Пришлось признать, что мама «разговорилась». Никаких подозрительных симптомов. И мне не нужно менять билет на самолет.
* * *
Когда в моем телефоне на экране высвечивается «мама», я делаю глубокий вдох, длинный выдох, останавливаюсь на аварийке, если за рулем, и иду к домашней аптечке, если нахожусь дома. Никогда не знаешь, чего ждать.
Я откуда-то ехала. Точно помню, что купила огромные плетеные корзины для всякой всячины и долго запихивала их в багажник. Сверху чудом засунула пакеты с продуктами. Я не люблю водить машину, несмотря на многолетний стаж. Но в тот день сидела за рулем с удовольствием. И кажется, впервые поняла свою знакомую, которая говорила, что за рулем отдыхает. Руль и скорость ей в удовольствие. Я ехала домой и наслаждалась тем, что солнце светит, но не слепит, машин много, но не пробка. Зазвонил телефон, и я включила громкую связь.
– Да, мамочка, – спокойно и ласково ответила я, хотя никогда не называю маму «мамочкой». Обычно сразу строго спрашиваю: «Что случилось?» День был настолько хорош, что не должен был принести плохих новостей.
– Это не мамочка, – ответил мужской голос, – это врач. Мамочку вашу везем в больницу.
Я молчала, надеясь, что не перепутаю педаль газа с тормозом. Включила аварийку, но по-прежнему ехала в левом ряду. Медленно. Водители сигналили, показывая жестами, что обо мне думают. Они же и вывели меня из ступора. Точнее, он – водитель фуры. Я пыталась перестроиться в правый ряд и, видимо, эту фуру подрезала. Когда услышала длинный пронзительный гудок, очнулась.
– В какую больницу? – спросила я и долго слушала гудки. Перезвонила, но на звонок никто не ответил. Я звонила каждые три минуты – безрезультатно.
Отчего-то я решила, что мне срочно нужен бензин. Залить полный бак. Непременно под завязку. Свернула на ближайшую автозаправку, из тех, на которых нет помощников. Я стояла возле машины и не понимала, куда нужно воткнуть шланг. Машина старая. Миллион раз я заправляла ее самостоятельно. Почти двадцать лет водительского стажа. Да я знаю, как с помощью резинового шланга перелить бензин из канистры в бензобак и в какой момент нужно выплюнуть этот шланг, чтобы не наглотаться бензина. Но в тот момент не понимала, куда подевался бензобак. Дважды обошла машину, пытаясь представить, куда сунуть пистолет. Мужчина-водитель на соседней колонке ухохатывался, решив, что дамочка совсем ку-ку. Разве что телефон не вытащил и не стал снимать, а то я бы точно стала героиней Ютьюба. Ноги меня не держали. Обняв заправочный пистолет, я села рядом с колонкой. На помощь пришла женщина, принимавшая оплату в кассе. Она подошла, силком вытащила из моих рук пистолет и заставила встать.
– Тебе плохо? Что случилось? – спросила она.
Женщина говорила по-русски с сильным акцентом. Я вдруг решила догадаться, какой именно акцент. И не могла, хотя, как правило, умею это делать. На бейджике у кассирши я прочла «Бэлла». Значит, «красивая». Написано с двумя «эл» и через «э» оборотное, что тоже удивительно. Обычно пишут «Бела» – с одним «эл» и через «е».
В селе, где я выросла, имя Белла (с двумя «эл» и через «е») было достаточно распространено. Обычно девочек и даже женщин звали сокращенно «Белка». Я в детстве считала, что Белка – в честь белки, то есть зверя. И моя одноклассница Белка была ярким тому подтверждением. Она и вправду походила на зверька – узкое лицо, мелкие зубы, все время суетилась, куда-то бежала.
Была еще тетя Белла, которой пугали всех маленьких и даже вполне подросших детей. У тети Беллы росли усы – длинные и черные. И даже борода, но короткая – тетя Белла ее подстригала. Ног ее я никогда не видела, а вот руки, покрытые густым волосяным покровом, наводили настоящий ужас.
Так что, когда я узнала настоящее значе
Страница 11
ие имени, испытала шок. Ни Белку, ни тетю Беллу красавицами называть язык не поворачивался. Даже при богатом воображении. Даже если они твои родственницы.Я посмотрела на женщину, которая пыталась меня поднять, – она показалась мне невероятно красивой.
– Вам подходит имя, – сказала я.
– Ой, не говори так! – рассмеялась женщина. – Бабушка меня назвала. У нас в роду все женщины высокие, волосы густые, черные, а я родилась маленькой, лысой и рыжей. Мама сутками плакала надо мной. Отец говорил, что и хорошо – замуж не выйду, им в помощь останусь, в другую семью не уйду. А бабушка сказала, что слышать ничего не желает и я «выправлюсь». Над ней все соседки смеялись. Так почему ты такая? Болеешь? Или тебя кто так обрадовал, что ты тут с пистолетом обнимаешься?
– Мама в больнице, не знаю, в какой, – вдруг призналась я этой женщине. – И не могу заправить машину. Надо ехать в больницу, а бензина нет. То есть почти полбака. А вдруг надо больше?
– Бак не там у тебя, – покачала головой Бэлла.
– Что?
– Надо с другой стороны. Шланг сюда не дотянется.
Да, я просто забыла, с какой стороны у меня находится бензобак. Села в машину и подъехала с другой стороны колонки. Вышла. Снова вытащила пистолет, но заглушка не открывалась. Я била по ней рукой, отковыривала, но она не поддавалась. Подумала, что заглушка примерзла, а спрей, который отмораживает замки, в бардачке, внутри. И я его не смогу достать. То, что бензобак не имел отношения к дверям машины, мне в голову, конечно, не пришло. И то, что бензобак открывается, если машина заведена, забыла напрочь. Если бы меня в тот момент попросили назвать домашний адрес, я бы точно замешкалась с ответом.
– Спрей внутри. Может, кипятком полить? Примерзло, – сообщила я Бэлле, которая смотрела на меня с тревогой и качала головой.
– Дорогая, кипяток тебе надо, а не машине. Нет, кипяток не надо. Таблетку надо. Где примерзло? Смотри, тепло еще. Видишь? Солнце светит. Ты кнопку нажми. Ключи у тебя в руках. Ох, дорогая, совсем тебе нехорошо. Самой в больницу надо. Зачем так себя терзать, что мне смотреть страшно. Сегодня красиво. Листья везде. Как правильно говорить по-русски, когда листья падают?
– Листопад, – ответила я.
– Как листопад? Ты грузинский знаешь? Листопад по-грузински говоришь, – удивилась Бэлла.
– Фильм есть такой, у Отара Иоселиани. Грузинский режиссер. Я его очень люблю.
– У тебя бабушка не грузинка? – удивилась Бэлла.
– Нет, дед по матери якобы осетин, но я в это больше не верю. А маму в больницу увезли. Только сейчас узнала.
– Что такое якобы? – спросила Бэлла. Она произносила слова очень красиво, как могут произносить только грузинки, нежно и одновременно дерзко, как песню. «Йакоби». В армянском языке тоже красиво, но жестче, резче, а в грузинском даже ругаться можно так, будто песню поешь. В осетинском лучше промолчать и не задавать вопросов. Сдержанность, выдержка, умение брать себя в руки в любой ситуации. Не выносить сор из избы. Не показывать, как тебе сложно, больно, насколько сильно ты страдаешь. Никто не должен видеть твоих слез. Мужчина может кричать, женщина должна приветливо улыбаться. Мужчина может заплакать, женщина не имеет права на открытые эмоции. Этому меня учили с детства.
Я прекрасно помню все запреты и правила. В селе девочкам их вбивали в головы с раннего детства. «Держи при себе свое плохое настроение. Разве муж захочет женщину, которая не встречает его улыбкой?» «Зачем жалуешься? Если болит – потерпи. Или сходи и полечись, чтобы никто не знал, особенно свекровь. Мужу не нужна больная жена. А свекрови нужна здоровая невестка, чтобы по дому успевала». «Устала? Кому это интересно? Свекрови или твоему мужу? Улыбайся свекрови, мужа встречай так, будто луна с неба для тебя спустилась». «Будь послушной, не смей дерзить и спорить. Или что про тебя подумают? Что тебя плохо воспитывали. Один раз промолчишь, два раза потом «спасибо» скажешь, что рот не открыла». «Твоя семья, твои беды остаются за забором твоего дома. Никто не выносит мусор в общий двор. Общую дорогу перед воротами метут так, как во дворе не стараются. Зачем нужно, чтобы соседки языки распускали? Если одна соседка увидит, что ты недовольна, считай, все село узнает. Одна услышит, как ты жалуешься, все услышат. Потом к тебе этот слух вернется, в твой дом, до родственников дойдет. Ты виноватой останешься, не соседка, которая про тебя придумает то, чего и не было». «Беда, горе пришли в дом? Чернота на душе? Никому мы не нужны в горе. Люди сторонятся чужой беды. Ты хочешь проверить, кто настоящий друг и кинется на помощь, а кто нет? Не стоит. Иногда в иллюзиях жить легче, чем переживать предательство. Запомни – никто не поможет. А если и поможет, считай это чудом».
– Якобы – это «вроде бы». Нет доказательств. Никто не может подтвердить точно, – пояснила я Бэлле.
– Как нет доказательств? – ахнула она и сделала тот жест, который свойствен жительницам не столицы, даже не маленького городка, а скорее сельским, тем, кто ничего не боится. Взмах руками
Страница 12
как в танце, но можно легко представить, что в руках кинжалы.– Так. Семейная легенда.
– Как легенда? Разве бывает в семье легенда? В книжках бывает! Если ты своя, то должна знать. Люди должны знать. Ты у людей спрашивала?
– Нет, не было возможности.
Эта идея и ее воплощение принадлежали моему сыну. Он, как всякий молодой человек, интересовался собственными корнями, происхождением. Со стороны отца – все понятно, до десятого колена. Сохранился семейный фотоархив, записи на любительскую камеру. В бумагах нашлась даже квитанция об оплате пошлины в связи с бракосочетанием его дедушки и бабушки. Дипломы, удостоверения, школьные дневники и почетные грамоты – все разложено по папкам. Всю историю семьи мужа можно проследить по этим бумажкам. С моей же стороны – чистый лист. Ни одного свидетельства, ни единого доказательства, несколько размытых фотографий. Я могу подтвердить, что у меня была бабушка. На этом все заканчивается. Остальное – красивые истории, то ли придуманные мамой, то ли случившиеся в действительности. Ничем не подтвержденные, но завораживающие своей необычностью, яркостью и не всегда реалистичностью.
Сын поддался распространенному увлечению и решил узнать свое происхождение по анализу ДНК. Для эксперимента он выбрал меня. Я водила палочкой по внутренней стороне щеки, мы хохотали, высказывая предположения, что покажет анализ. Сын отправил данные, и мы стали ждать.
Конечно, я не утерпела и рассказала маме, что теперь по моей слюне наконец раскроются страшные семейный тайны. Мама бросила трубку и не отвечала на звонки дня три. Я попросила сына позвонить бабушке и спросить, какого лешего она опять не берет трубку. Внуку бабушка ответила. Я слышала ее крик, сводившийся к тому, что правда никому не нужна, что все эти поиски корней – чушь, анализ ДНК – вообще полная ерунда. Моя мама – воинствующая атеистка, верит лишь в достижения современной медицины, обладает здравым рассудком и не раз говорила, что если бы раньше в криминалистике существовали современные технологии, то многие убийства были бы раскрыты. И вдруг – на тебе, анализ ДНК она отвергает! Да, в Бога она не верит, но в генетику, наследственные заболевания – свято. Даже сын догадался, что бабушка явно знает больше, чем рассказывает.
– Мы тебе расскажем, когда получим результаты, – сказал сын.
– Не надо! Ничего не хочу знать!
Мне вдруг стало любопытно – с чего вдруг мама так испугалась.
– Может, расскажешь, что покажет тест? А то вдруг я сильно удивлюсь? – поинтересовалась я.
– Зачем тебе вообще это понадобилось? – Мама тут же сорвалась на крик.
– Не мне, твоему внуку, – ответила я.
Мама тогда сообщила, что у меня не только дед-осетин, но и бабушка осетинка. А ее русская фамилия – по первому мужу. Даже назвала фамилию рода, к которому якобы принадлежала бабушка. Мы спросили у знакомого историка, специалиста. «Редкая фамилия», – ответил он коротко и, мне кажется, тоже многого решил не договаривать.
Результат теста показал слишком широкий географический ареал проживания моих предков. Кавказа в нем не было в принципе. Ни в каком виде. Зато нашлись балты. Впрочем, балты находятся у многих. Я пыталась развить тему происхождения, но мама опять сделала вид, что страдает амнезией. Она подтверждала легенду, которую когда-то я приняла на веру и с которой жила всю свою жизнь.
Чего боялась и боится мама? Что мой дед окажется не князем, в чем она меня убеждала годами, а простым крестьянином? Что у меня в роду куда больше осетин, чем я думала? Ну и что? Почему она так старательно забывала свое прошлое и срывается на крик, если кто-то ей о нем напоминает? Зачем годами, десятилетиями вымарывать из памяти воспоминания и лишать корней, истории семьи меня, свою дочь, своих внуков, наконец? Почему она это делает? Вопрос, на который у меня нет ответа.
– А вы случайно не гурийка? – спросила я Бэллу.
– Откуда знаешь? Так, сейчас давай ты оставишь этот бензин и пойдешь со мной. Я тебе кофе сварю. Я могу. Слушай, какие проблемы? Принесла плитку и пью нормальный кофе. Почему все автомат хотят? Им жить надоело? Я выпила то, что этот автомат говорит «кофе». Знаешь, я думала, так долго умирать буду, что двоюродному брату позвонила на всякий случай. Чтобы приехал и убил меня, так я мучилась. Ты какой кофе любишь?
– Средний.
– Нет, ты не осетинка, – ахнула Бэлла, – ты грузинка. Как так семейная легенда? Почему нет доказательств? Ты доказательство! Посмотри на себя. Может, дед у тебя и осетин, но прабабка точно грузинка!
– Это точно исключено, но спасибо за комплимент. Мне приятно.
– Мне будет приятно, если ты сейчас перестанешь тут меня пугать, выпьешь кофе и лицо сделаешь не такое, как у моей тетки перед смертью. Слушай, такое лицо у нее красивое в гробу было, будто она не в деревне выросла, а из рода знатного произошла. Ей все женщины на похоронах завидовали. Бледная, будто солнца в жизни не видела, нос тонкий. Все спрашивали: что, тетя Ника себе операцию перед смертью сделала? Кто ей такой нос подарил? Неужел
Страница 13
дядя Гия разорился? Ты не представляешь, какой нос был у тети Ники при жизни! Сначала ее нос в комнату заходил, потом через пять минут тетя Ника появлялась. Дядя Гия говорил, что нос его жены такую тень делает, что во дворе зонтик от солнца не надо ставить. Какая тетя Ника красивая лежала мертвая! На свадьбе ее нос из-под фаты торчал, а тут курносая стала! И глаза на пол-лица. Как у тебя сейчас. И такая белая, как ты сейчас. Дядя Гия, когда жену в гробу увидел, так чуть на ней снова не женился. Так и ходил счастливый, каким на свадьбе не был. Все подходили к нему и комплименты тете Нике делали! Как ему было приятно! Подожди, я Ашота позову. Он поможет. Ашот! Иди сюда!– Не Ашот я, сколько раз говорить? Амир. – Откуда-то из недр подсобки вышел парень.
– Прости, дорогой, я Ашота каждый день вспоминаю. Такой он хороший был, так меня понимал, что мне рот не надо было открывать. Так я по нему скучаю. – Бэлла чуть не заплакала. – Смотри, женщине плохо, ничего не может, у нее мать в больнице. Только что узнала, когда к нам ехала. Ей бак нужен. Сделай ей бак. Как сына тебя прошу.
Амир взял ключи, сел, завел. В какой-то момент я подумала: пусть этот парень угонит машину, и тогда я переключусь – избавлюсь от мыслей, тревоги, боли, которые засели в моей голове и сводили с ума. Если у меня угонят машину, я смогу очнуться. Мама. Она умудрялась вытеснять все прочие мои заботы и переживания. Просто талант какой-то.
Амир завел машину, благодаря чему крышка бензобака вдруг открылась. Залил полный бак. Бэлла довела меня до подсобки, усадила на складной стульчик. Потом колдовала над конфоркой и крошечной, на один глоток, туркой. Кофе она налила в такую же крошечную чашку, настоящую, фарфоровую. Я пришла в себя, едва дотронувшись до чашки.
– Откуда у вас такое сокровище? – спросила я.
– Привезла. Не могу пить из других, – пожала плечами Бэлла.
Все было очень странно. Когда я рассказывала эту историю знакомым, мне говорили, что от волнения и переживаний я напридумывала то, чего и быть не могло. Возможно. Я готова была согласиться. Но тонкий ободок той чашки, рисунок я помню до сих пор, как и ощущение в пальцах. Да одна эта чашка наверняка стоила как вся бензозаправка.
Бэлла взяла мою сумку, достала кошелек, несколько купюр, пробила бензин, вернула кошелек, сдачу, чек и десять раз сказала, что все кладет мне в сумку. Я пила кофе и чувствовала, что начинаю соображать, руки перестают трястись.
– Что мне делать? – спросила я у Бэллы и Амира, который протер стекла машины грязной тряпкой, чего я терпеть не могу, но в тот момент чуть не расплакалась от такой заботы.
– Звони, – сказала Бэлла.
– Звонила, не отвечает, – ответила я.
– Тогда я позвоню! – воскликнула Бэлла.
В этот момент на заправку приехал еще один автомобиль.
– Девушка, работать собираемся? – спросил молодой мужчина.
– Если я девушка, то съезди на заправку, тут рядом. У них еда есть. И девушек сколько захочешь. А я тебе бабушка. Не видишь, женщине плохо? Ей еда нужна и сладкое что-нибудь.
– Ты когда ела в последний раз? – уточнила у меня Бэлла.
– Не помню, вчера, наверное, – ответила я.
– А я должна гадать, отчего ты тут мне на голову упала! – возмутилась Бэлла.
– «Скорую» могу вызвать, – предложил мужчина.
– Дорогой, привези еды, чтобы она в «Скорую» сытая села. Кто ее там кормить будет? Вернешься, обслужу, как брата, – сказала Бэлла мужчине, но не грубо, а нежно. Твердо, решительно, но с уважением. Я всегда поражалась этой способности – так говорить, что у собеседника даже не закрадывается мысль возразить, при этом сразу же хочется исполнить все, что потребовала эта женщина. Причем исполнить с удовольствием.
Мужчина уехал, что-то буркнув под нос.
– Не вернется, – пожал плечами Амир.
– Почему никто не помогает друг другу? Разве так сложно? Разве я его не попросила? Человеку плохо жить, если он не помогает, если никому не нужна его забота. Вот этот парень почему не захотел? Ему бы хорошо потом было. И мимо него бы случайные люди не прошли. Все возвращается, – сказала Бэлла и снова начала колдовать над туркой и плиткой.
– Не всегда возвращается, – прошептала я.
– Откуда знаешь? Почему в это веришь? – возмутилась Бэлла. – Надо в хорошее верить!
– Но вы же сами не верите, – пожала я плечами.
Случайный водитель вернулся, не прошло и десяти минут. Привез сэндвич, круассан, шоколадку, бутылку воды.
– Прости, дорогой. Я о тебе почти плохо думала. – Бэлла подошла и обняла молодого мужчину так, как мать обнимает взрослого сына. С такой нежностью, что тот подчинился. Наклонился, чтобы Бэлле было удобнее держать его в объятиях. – Пусть больше никто о тебе так не думает, как я. Даже почти не думает. Пусть тебе всю жизнь будет так хорошо, как мне сейчас. Пусть к тебе твое добро вернется!
– Мне двадцать литров, пожалуйста, – сказал мужчина, смутившись и покраснев.
– Деньги отдайте, пожалуйста, – попросила я Бэллу.
– Не надо, – отмахнулся мужчина.
Амир пошел помогать залить бензин, а я откус
Страница 14
ла от сэндвича. И меня тут же вырвало.– Ох, бедная ты моя. Если есть не можешь, совсем плохо, – забеспокоилась Бэлла.
– Не переживайте, просто невкусный, – попыталась оправдаться я.
– Если болеешь, ничего не вкусно, – справедливо заметила Бэлла. – А мама у тебя взрослая?
Откуда-то из глубин подсознания я выловила это слово – «взрослая». Моя подруга-грузинка, говоря о пожилой женщине, никогда не произносила «старая», только «взрослая». «Очень взрослая» могло означать, что бабушке исполнилось минимум девяносто, а то и все сто лет. Но «взрослая» звучало уважительнее, чем «старая».
– Семьдесят, – ответила я.
– Так зачем она так себя ведет? – Бэлла имела в виду, что моя мама еще не настолько взрослая, чтобы не соображать, что творит, и впасть в маразм. – Разве она взрослая? Бабушка Ани в этом возрасте только жить начала, замуж вышла, в первый раз. По двору так бегала, что молодые ей завидовали. Бабушка Ани говорила – такую любовь узнала, о какой даже говорить невозможно – слов таких счастливых нет. Какая она красивая была! Куда она свои морщины дела? Скажи своей маме, что она еще не взрослая! Бабушка Ани в девяносто три умерла. Жила бы и дольше, если бы ее муж первым не умер. Она без него не смогла. У них такая любовь была, что все сплетницы рты закрыли, все родственники помирились, дом новый построили, ради них – бабушки Ани и дедушки Вахо. Все к ним приходили – дети, внуки, правнуки. Всем хорошо в новом доме было. А как праздновали фарфоровую свадьбу – двадцать лет! Весь город гулял. Столько фарфора гости надарили, что правнукам хватит. Такие красивые бабушка Ани с дедушкой Вахо сидели, так друг на друга смотрели, что все молодые плакали. Они любили друг друга, за руки держались. Дедушка Вахо бриллиантовое кольцо бабушке Ани подарил. Она так радовалась, целовала кольцо, потом руку дедушки Вахо. Он встал и сказал такие слова про свою жену, что у всех за столом сердце на секунду остановилось. Как он говорил! Какая Ани красавица, какая умница, какое она солнце, появившееся в его жизни. И никто из родственников не посмел возразить. Когда дедушка Вахо умер, ее солнце тоже закатилось. Бабушка Ани не хотела жить, хотя ее все умоляли. Она ушла в тот же год, что и дедушка Вахо. Их похоронили в одной могиле. Надеюсь, на небесах они счастливы. Живут вместе. Дедушка Вахо так и держит бабушку Ани за руку.
– Я боюсь. Не выдержу, у меня сил нет. Совсем. Я не готова еще. Моя бабушка, мамина мама, умерла в шестьдесят девять. И ее мама в этом же возрасте, – призналась я.
– Кто тебе сказал, что твоя мама умирает? – удивилась Бэлла.
– Никто не сказал, – ответила я.
– Если бы умерла, уже бы тебе дозвонились. Похоронщики быстро работают. Родственники еще горе не успели осознать, а уже платить должны. Если никому не нужны твои деньги, значит, мама твоя жива, – резко и справедливо заметила Бэлла.
– Откуда вы знаете?
– Знаю. У меня брат двоюродный умер. Не здесь. Дома. Меня родственники так быстро нашли, будто рядом стояли. До этого десять лет не нашли, так не нашли, что телефон потеряли, знать не знали. Если тебе еще не позвонила троюродная тетка, значит, мама жива.
– У нас нет родственников, – сказала я.
– Э… дорогая, когда человек умирает, родственники всегда находятся…
– Некому находиться.
– Квартира есть? Дача есть? И ты думаешь, никто их не хочет? После смерти моего брата такие троюродные братья-сватьи объявились, что я только успевала знакомиться! Люди вспоминают про кровь, когда им выгодно.
– Вы сейчас как моя мама говорите. Разве не бывает по-другому? Из чувства долга, ответственности, родственных связей, доброты, наконец?
– Не бывает, – ответила резко Бэлла.
– Не вы ли меня только что убеждали в том, что встречаются хорошие люди и надо верить в лучшее? – возмутилась я.
– Ты такая умная, что глупости сейчас говоришь. Так бывает у женщин. Бог их в одном месте одарил, а в другом лишил. Кому мы нужны? Никому. Особенно если с нас нечего взять.
Бэлла забрала у меня телефон и позвонила по тому номеру, который я набирала уже раз сто. Я услышала, что ей удалось дозвониться.
– У меня тут женщине плохо. «Скорую»? Нет! Она мать потеряла! Нет, потеряла не значит умерла! Зачем так говоришь, дорогая? Потеряла, потому что найти не может и переживает так, что ей плохо. В какой больнице потеряла? Зачем звоню, если знаю больницу? Там, где телефон, там и ее мать. А если телефон у тебя, значит, скажи мне номер больницы, куда я звоню по этому телефону. Дорогая, я хочу узнать, что мне делать с женщиной, которая такая бледная, что сейчас умрет у меня на заправке. Ее мать в больницу забрали. Зачем мне проблемы? Просто давай мы сейчас сделаем так, чтобы я еще эту женщину к вам не привезла. Кто я? Бэлла! Нет, не родственница. Нет, она не может говорить, потому что забыла, как дышать. Не имеешь права сообщать не родственникам? Ох! Понимаешь, дорогая, мать женщины, которая сейчас опять умирает у меня на глазах, к телефону не подходила. А теперь ты по нему ответила. Вот и скажи мне, к
Страница 15
да я звоню! «Скорую»? Если не скажешь, какой номер больницы, то я вызову «Скорую»! И милицию вызову, потому что женщина не помнит, куда ей ехать. Себя не помнит! А еще пожарников вызову, потому что Амир опять курит на заправке. Амир! Иди сюда, возьми огнетушитель, поставь рядом и только после этого кури на здоровье. Ты хочешь, чтобы мы красиво сгорели? Так давай сначала эту женщину отправим домой! Амир! Ты меня слышишь? Иди сядь в песочницу! Да, можешь там курить! За что мне такое наказание? Как я скучаю по своему Ашоту! Зачем он меня бросил и оставил вместо себя этого мальчика, которого я даже убить не могу, так люблю! Да, дорогая, конечно, я слушаю. Если бы у тебя была свекровь, которая умела хором говорить сразу со всеми и еще кричать успевала, ты бы тоже научилась, как я. Что? Амир, иди сюда, я тебя убью, и мне легче станет. Дорогая, давай уже ты мне скажешь про номер больницы, и я не возьму грех на душу. О господи, бедной девочке совсем плохо. Так плохо, что я не знаю, что делать. Как какой девочке? Которая мать потеряла! Почему маленькая? Какая полиция?Бэлла замолчала. Меня тошнило после каждого глотка кофе. И после съеденного кусочка шоколадки. Желудок скручивало, рвало желчью. Правда, желчь пахла кофе, который сварила для меня Бэлла. Рядом стояли два молодых человека – Амир и тот парень, который назвал Бэллу девушкой, а потом привез для меня еду и шоколадку с соседней заправки. Мне было стыдно. Но ничего не могла с собой поделать. Я наконец расплакалась. Когда плакала в последний раз? Давно. Или недавно?
Для меня это случилось буквально вчера. Мама говорила – «вот ты вспомнила, сто лет назад это было». Я тогда ответила на телефонный звонок, и вместо мамы услышала голос незнакомого мужчины, который строго спросил, являюсь ли я родственницей такой-то? Да. Являюсь. Дочь. Врач сообщил, что мама попала в аварию и ее везут в больницу. Он терпеливо, несколько раз повторил номер больницы, продиктовал адрес. Но не назвал город, а мне не пришло в голову уточнить. Я искала маму в Москве, а нашла в Подмосковье, причем не в ближайшем. Позже об этом расскажу.
– Прости, дорогая, я не понимаю, что она говорит, – сказала мне Бэлла, возвращая телефон. – Наверное, я плохо понимаю по-русски. Хотя эта женщина ни на одном языке не понимает, раз так себя ведет. Она трубку бросила. Разве так можно делать? Сложно потратить лишнюю минуту, чтобы кому-то стало легче и спокойнее? Если я звоню, значит, мне надо. Или кому-то надо.
Бэлла присела на табуретку и сама чуть не расплакалась.
– Спасибо, что дозвонились. Какой номер больницы, вы поняли? – спросила я.
– Шестьдесят семь или пятьдесят семь. Семь точно. Эта женщина, слушай, такая неприятная. Зачем она в больнице работает, раз такая неприятная? Она очень быстро говорила. И голос у нее такой резкий и злой. Как она замуж выйдет с таким голосом? У меня голова разболелась, а что будет с ее мужем? Надо было ей сказать, чтобы молчала, если хочет замуж выйти.
– Может, она замужем. – Я нашла в себе силы улыбнуться.
– Может, я не на заправке работаю? – хмыкнула Бэлла. – Может, тетя Ника готовить умела? Или дядя Гия ее так любил, что жить без нее не мог? Нет, он ее любил, посмел бы он другое заявить, только сейчас снова жениться собирается. Всем рассказывает, что его Ника взяла с него обещание – он найдет себе женщину, которая о нем позаботится. Слушай, такой фантазер, что книги писать может. Про инопланетян, фантастические. Я, когда такое услышала, смеялась два дня. Если тетя Ника из гроба встанет и новой жене волосы вырвет – вот в это я поверю. Если девочка нервная и не замужем, что я, по голосу не пойму? Да они из машины выходят, я уже все про них понимаю.
– И про меня тоже поняли?
– Конечно, – хмыкнула Бэлла, принимая вызов. – Дети у тебя есть. И сердце разрывается. К маме надо ехать и к детям надо. Муж у тебя есть. Но ты ему не позвонила, когда здесь оказалась. Значит, не хочешь, чтобы он знал. Бережешь его. Или наоборот. Сама все хочешь сделать. Потому что гордая. Или обиду на мужа держишь в сердце.
– Бэлла, вам экстрасенсом надо работать, а не на заправке, – рассмеялась я. – Так что с дядей Гией?
– Ой, он себе жену быстро нашел. Я ему звонила и спрашивала – если я приезжала на похороны тети Ники, можно я на его свадьбу не приеду? Он обиделся и сказал, что я должна принять его новую жену. И обязана забрать его завещание.
– О, может, он вам дом завещает? – спросила я.
– Нет. Дядя Гия такой сплетник, что тете Нике не приходилось с соседками общаться. И всем давно сообщил, что написал в завещании. Дом он жене оставит. Новой. А я должна за его похоронами проследить. Сделать так, как он хочет.
– И что он пожелал? – Мне стало интересно.
– Дорогая. Давай ты сейчас поедешь домой. Потом снова приезжай, я тебе все расскажу. А сейчас позвони мужу или не звони мужу. Но не надо себе зубы заговаривать. Тебе надо ехать, дорогая. А мне надо работать, иначе как я поеду к дяде Гие на свадьбу? – Бэлла ласково подвела меня к машине.
– Да, вы правы.
Страница 16
Я поеду. Не обижайтесь, если не вернусь. Но вы навсегда останетесь в моем сердце. – Я обняла Бэллу.– Да, дорогая, пока бензин не кончится. Но давай ты не будешь сюда возвращаться. Ты ведь здесь оказалась не потому, что тебе заправка понадобилась.
– Мне нужно было оказаться именно здесь. Я в это верю.
– Ой, не начинай давай. Я тебя умоляю. А то я сейчас плакать начну. Тетя Ника тоже так говорила. Верила, что люди не просто так встречаются или оказываются в том месте, в котором не должны появиться. Когда найдешь свою маму, передай ей, чтобы она была здорова. Скажи, Бэлла ей пожелала. И мужу позвони. Когда тетя Ника заболела, я первая узнала. Сразу ей деньги отправила. Все, что было. Копила, чтобы комнату снять, а не угол. Платье хотела купить новое. Тетя Ника так тогда на меня обиделась, на мои деньги. Сказала, она меня ждала, а не чтобы я от нее откупилась. Я спросила: «Разве тебе не нужно, чтобы у тебя все было? Лекарства, уход? Почему нужно страдать и не хотеть лечиться?» Знаешь, что тогда тетя Ника сделала? Отказалась от лечения. Наотрез. Объявила, что она все равно умрет, месяцем раньше, месяцем позже, а деньги пропадут. И ей будет жалко. Вот что за упрямая женщина была, как я ее любила! Тетя Ника мне мать заменила. Позвонила и потребовала, чтобы я приехала и забрала свои деньги. Что она перед смертью хочет меня увидеть. Как я тогда плакала! Я ведь помочь хотела. Пусть бы хоть неделю она еще прожила, мне было бы лучше. Зачем она не захотела лечиться? Мы тогда с ней сильно поругались. Я не могла понять, зачем тетя Ника меня хочет? Зачем не хочет помощи? Разве деньги – не помощь? Я ведь так старалась, копила. Что важнее – сидеть и за руку держать, потому что больше ничего не можешь дать? Или все отдать, лишь бы человек не умер? Не знаю. До сих пор не знаю. Я тогда обиделась на тетю Нику и не поехала. Сейчас бы поехала. Сидела и держала за руку. Ты должна сказать мужу, что он тебе нужен. Детям скажи все честно, не придумывай. И к маме поезжай. Сиди рядом.
– Она не хочет меня, отказывается. Я ей наняла женщину, которая приходит, убирает, продукты приносит, готовит. Так мама ее встречает котлетами, кофе ей варит. Спрашивает, не в комочках ли пюре? Меня она никогда так не встречала. Ни разу к моему приезду не то что котлету не пожарила – чайник не поставила. Они с этой женщиной созваниваются, переписываются. Мне мама не звонит никогда. Иногда мне кажется, что она не помнит дней рождения внуков. Она может выгнать меня из дома. Или, если приехала к нам, уйти, не попрощавшись. Вдруг собраться и хлопнуть дверью. Чтобы потом все за ней бежали и спрашивали, что случилось. Успокаивали, возвращали. Я больше не бегаю. Сил нет. Она всегда верила в формулу «не надо меня жалеть, лучше помогите материально». И меня так воспитала. С детства внушала, что слезы ничем не помогут. Держать за руку и сочувствовать? Я точно знаю, что она скажет: «Иди и заработай на то, чтобы у твоей матери было все – палата, врачи, лекарства. А уж желающих подержать меня за руку, причем за деньги, я и сама найду». Вот приходящая женщина и держит ее за руку. За деньги. А я работаю, чтобы у нее все было – и лекарства, и продукты.
– Ох, дорогая… Не знаю, что тебе сказать. Я тете Нике гроб оплатила, хороший, самый лучший, а мои родственники все равно меня проклинают. Говорят, откупилась. А надо было за гробом идти и волосы рвать. Я спрашивала: «Вы ее тогда в простыне похоронили бы?» Они сказали, что тете Нике все равно, хоть в простыне. То, что я приехала на день позже, мне так и не простили. Знаешь, как я себя успокаиваю? Если бы приехала вовремя, все равно осталась бы виноватой. В любой семье есть тот, кто виноват. И всегда будет, что бы ни сделал.
– Бэлла, спасибо вам за все, – сказала я.
– Пусть господь тебя хранит, девочка, – ответила Бэлла, помогая мне сесть в машину.
Меня выруливали с заправки Амир и тот случайный парень, который привез еду. Они махали руками, указывали, куда я должна повернуть руль. Двадцать лет водительского стажа, примитивная ситуация, с которой даже «чайник» справится. Я была благодарна им за то, что они говорили «правее», «левее», «прямо». Я кивала и благодарила. Мне вдруг стало спокойнее. Я понимала, что должна сначала доехать до дома и узнать, в какую больницу положили маму. Поговорить с мужем и детьми. Привести себя в порядок. А уже потом действовать.
Надо ли говорить, что в Москве оказалось несколько пятьдесят, шестьдесят и прочих седьмых больниц, причем в разных концах города. Дальше я разгадывала квест – в какой из них могла оказаться мама. Гинекологические и детские я отмела сразу. Оставались наркологические, психиатрические, онкологические и инфекционные. Мама с равным успехом имела шанс попасть в любую из них. Подумав, я решила, что зря исключила из списка детские и гинекологические. Мама у меня мастер оказаться в тех местах, где нормальная женщина при всем желании не окажется, даже если сильно постарается. Мама могла договориться, уболтать, загипнотизировать водителя «Скорой», врача и
Страница 17
ельдшера, и они увезли бы ее хоть в роддом. Взяв себя в руки, я все же решила, что детские, гинекологические, а также инфекционные и наркологические окажутся в моем «резервном» списке. Про онкологические клиники я запретила себе даже думать. Психиатрическая больница, скорее, ждала меня, и вряд ли маме было бы там интересно оказаться. Так что, включив здравый смысл, от которого почти ничего не осталось, я решила обзвонить все те больницы, в которых есть кардиология. То есть практически все, в которых Бэлле могла послышаться цифра семь.В нашем роду все женщины по женской линии страдали гипертонией. Бабушка и ее сестра умерли от инфаркта. Мама всегда говорила, что тоже умрет от «разрыва сердца на маленькие кусочки». «У меня в сердце осколок остался» – тоже ее выражение, применяемое в тех случаях, когда я, как ей кажется, недостаточно ласкова. Или если отругала за то, что она не поела с утра, прежде чем отправляться по делам, и ей стало нехорошо по дороге. Или если в миллион сто пятьдесят первый раз твердила, что надо готовить для себя, а не заглушать голод литрами кофе. Что можно залить овсяные хлопья кипятком и впихнуть в себя через не могу. Сварить кусок мяса, наконец.
– Я не могу для себя. Разве ты готовишь только для себя? – удивлялась мама.
– Да, готовлю. Для себя и надо. Если мне хорошо, то и всем вокруг будет хорошо. Да, я готовлю специально для себя, потому что должна быть сыта, весела и здорова. Тогда у меня будут силы. И я смогу позаботиться о муже и детях.
– О ком мне заботиться? – Мама решила разыграть драмтеатр.
– Обо мне. У тебя есть внуки. Ты можешь видеть их чаще, если захочешь.
– Я хочу, но у меня нет сил.
– Потому что надо запихнуть в себя овсянку или хотя бы вареное яйцо, – твердила я.
– Ты стала такой занудной. Тебе самой с собой не скучно? Я не хочу жить так, как ты мне предлагаешь, – с овсянкой и яйцом по утрам.
– Ну запей овсянку коньяком, сразу веселее станет, – ответила я, но уже раздраженно и едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик.
Моя мама из тех женщин, которые не просто наступают на одни и те же грабли дважды и даже не просто пляшут на них, а из тех, кто выступает с цирковым номером «Цыганочка на граблях». Она, например, идет в магазин. По дороге ей становится жарко или вдруг хочется покурить на свежем воздухе. Она распахивает куртку (шубу), срывает с себя шарф (платок), садится на бордюр и курит. После чего проделывает то же самое по дороге домой. Иногда дважды. И наутро просыпается с дикой простудой и температурой.
– Мам, ну сколько можно одно и то же? – спрашиваю я.
– Мне было жарко и вдруг захотелось покурить! – Мама упорно не видит никакой связи между перекурами с голой грудью, припорошенной снегом или политой дождем, и своими простудами.
* * *
Когда я в первый раз испугалась? Когда мама, приехав к нам в гости, выпила кофе, потом встала и долила в чашку кипяток, разбавляя гущу. У каждого человека свои странности, привычки, действия, нарушения в поведении, которые могут насторожить близких. У каждого свой «сигнальный пистолет».
Ну, например, человек читает лекции и вдруг начинает заговариваться, или забывать очевидные вещи, или мучительно подбирать слова. У меня был такой профессор в институте. Он всегда рассказывал на лекциях о том, что не вошло в учебник. Естественно, самое интересное, занимательное. «Остальное вы прочтете», – говорил он, и его лекции по не вошедшему в обязательное пособие материалу были куда интереснее того, что требовалось выучить по учебнику. Как в фильмах, когда вырезанные из картины куски, эпизоды, целые роли кажутся гениальнее всего фильма. И вдруг он стал читать лекции по собственному учебнику, переизданному много раз. Труду, которому посвятил всю свою жизнь. Причем читал с явным, неподдельным интересом. Казалось, он не узнавал ни одной буквы, ни единой запятой. Читал, будто художественную литературу, роман, который вдруг увлек. Спорил вслух, тут же делал пометки на полях, иногда просто сидел и читал собственный учебник. Критиковал автора. Или вдруг подскакивал и рассказывал нам, что вот этот момент, описанный на такой-то странице, спорный. И принимался доказывать, почему именно. Мы по молодости мало что понимали. Посмеивались. И ждали, когда профессор вернется к своим занимательным лекциям. Но он продолжал читать учебник. Иногда еще возвращался к реальности, обращал внимание на аудиторию, а потом просто садился за стол, брал книгу и читал про себя. Внутренний хронометр работал при этом безотказно. К концу лекции, которая проходила в полном молчании, профессор вставал, всех благодарил и уходил. Наверное, если бы в аудитории оказались его близкие, они бы распознали болезнь раньше. Но что взять с нас, студентов? Мы радовались тому, что могли заниматься своими делами. Или, отметившись, сбегали. И профессор не замечал, что сидит в практически пустой аудитории.
Он скончался от неоперабельной опухоли мозга. В последний месяц жизни уже не понимал, как оказался в институте, где проработал всю жизнь. Все
Страница 18
лыбались и списывали провалы в памяти на чудачества пожилого, но великого преподавателя, практически живого классика. Он так и приходил каждый день в аудиторию, садился за стол и читал свой учебник, продолжая делать пометки на полях, где уже не осталось свободного места. Иногда хватался за голову и говорил, что не успеет закончить срочную и важную работу – этот учебник. Естественно, все рвались сдать экзамен именно ему, а не аспиранту или другому преподавателю. Если кто-то из нас рассказывал что-то из его лекций, отличавшихся от учебника, профессор счастливо улыбался, ставил «отл» и говорил, что «это очень любопытно», не признавая собственного авторства. Конечно, мы вовсю пользовались этим приемом и готовились исключительно по лекциям, которые до этого считались вроде как бессмысленными, своего рода художественной литературой, не имевшей отношения к экзаменационному материалу.Когда наконец диагноз был поставлен, родственники профессора хотели сделать как лучше – обеспечить любые клиники, домашний уход, сиделок, лекарства. Но он упрямо рвался в институт, только там успокаивался и не страдал от болей. В конце концов, его решили не мучить – родственники доводили его до аудитории и забирали после лекции. Умер он в институте. Не мы, другая группа студентов подумала, что профессор уснул, и попросту сбежала. Нет, профессор не дочитал свой учебник, но успел заложить страницу закладкой. До конца книги оставалось всего несколько страниц.
Так вот, мама перепугала меня в тот момент до смерти. Она всегда пила кофе. Лучший. Сваренный исключительно в турке. Никакие банки с растворимым, появившиеся в советское время, дорогущие и дефицитные, ее не устраивали. Она покупала зеленые зерна, сама обжаривала их в духовке, молола в ручной кофемолке, добиваясь нужного помола – мелкого или среднего. Впрочем, на электрическую кофемолку она согласилась. Как и на уже обжаренные зерна разных видов. Но турка, джезва – медная, настоящая, с длинной ручкой, оставалась неизменной. Как и специальная ложка для кофе. Мама не терпела «опивок», мутной жижи вместо настоящего кофе. Даже напиток из кофемашины и капсул отвергала категорически. Она в любом городе могла найти место, где ей сварили бы «нормальный» кофе.
Когда мы переезжали, уезжали или просто отправлялись в отпуск хотя бы на неделю, первым делом мама укладывала в чемодан кофе, крошечную электрическую плитку и турку. Она могла забыть мою школьную форму, важные документы, включая паспорт, но турку с плиткой и запас кофе – никогда. Я делаю так же. Турка, ложечка и кофе всегда со мной. Разве что плитку за собой не вожу.
И тут я увидела, как мама не переворачивает чашку на блюдце привычным, доведенным до автоматизма движением – чтобы прочесть рисунок, погадать на желание, рассмотреть, что там предсказывает судьба в кофейной гуще, а доливает в опивки кипяток. И снова пьет.
– Мама, что ты делаешь? – Мне поплохело. – Давай я тебе еще сварю.
– Не надо, крепкий слишком, – ответила мама.
– Мам, я тебе сварю не такой крепкий.
Я буквально вырвала из ее рук чашку и вылила эту муть в раковину. Мама обиделась и замолчала.
– Не пугай меня. Зачем ты так делаешь? Ты еще пакетики чайные начни по два раза заваривать. – Я пыталась взять себя в руки и даже смогла улыбнуться.
– Я не люблю чай, ты же знаешь.
Мама уехала от нас раньше, чем собиралась. Я крутилась на кухне и, когда вышла, увидела, что в прихожей не стоят ее кроссовки, а на вешалке нет куртки. Она со мной не попрощалась. Даже не заглянула на кухню сказать, что уезжает. Мой муж, мамин любимый зять, вызвал такси и усадил тещу в машину. Внуки тоже проводили. А я пекла на полдник шарлотку и запекала яблоки с медом и корицей. Хотела побаловать маму – она всегда любила яблоки в пирогах и запеченные с медом. Мне хотелось выбросить эти яблоки в мусорное ведро.
Про кофе я решила больше не вспоминать. Мама тоже сделала вид, что ничего не случилось. А уехала, как она потом объяснила, потому что не хотела отрывать меня от готовки и прочих домашних забот.
Обзванивая больницы, я вдруг поняла, чего на самом деле боюсь. Не того, что не смогу найти маму, – найду. Я все-таки журналист по профессии. Даже мой взрослый сын убежден – если я чего-то не нашла, значит, этого не существует в природе. Муж тоже уверен, что я черта лысого могу достать в рекордные сроки. Я всегда боялась маминого отношения к смерти и своего тоже. Как бы это объяснить?
Я не боюсь смерти, потому что выросла, глядя на гробы, похоронные процессии. У меня нет страха крови, покойников, включая висельников и утопленников. Мое детство прошло рядом со смертью. Я сама могла в любой момент умереть, как умирали многие дети вокруг меня: тонули в горной реке, подхваченные бурным потоком. Мы бежали звать взрослых, прекрасно осознавая, что нашего одноклассника, или брата одноклассника, или соседа уже не спасут. Повезет, если выловят «у дерева» – так называлось место, где течение немного стихало, река сужалась. Там, преграждая поток, лежало огромное ореховое дерев
Страница 19
и цепляло своими ветвями утопленников. Дерево не убирали ровно по этой причине.Нас, маленьких, старшие друзья водили к этому дереву, чтобы «проверить» утопленника. То есть раньше взрослых обнаружить труп. Кажется, Тамику это однажды удалось, и он считался героем. Я до сих пор помню это дерево – огромное, старое. Самое большое из всех, какие я видела. Ветви полоскались в воде, как белье. Завораживающее зрелище, манящее и пугающее одновременно. Существовал и особый ритуал, вроде посвящения. Правда, только у мальчиков – девочкам разрешалось лишь смотреть с берега. Спасибо за гендерное разделение, которое, наверное, спасло мою жизнь, иначе я бы тоже полезла. Мальчишки шли по стволу дерева и мерялись, кто дойдет дальше и не свалится, не испугается, не свернет назад. Многие падали, но выбирались, цепляясь за ветви. Никто не утонул, но воды все нахлебывались так, что на берегу долго отплевывались.
Если удавалось выжить, не свалившись в реку, то можно было умереть, прыгнув с моста рыбкой. Мост представлял собой шаткую конструкцию. Да, это было единственное место, чтобы потренироваться в прыжках в воду, – самое глубокое в той части реки. Но река мелела, если долго не было дождей. Или по другим неизвестным нам, детям, причинам ожидаемая глубина вдруг оказывалась не глубиной, а так, «по шейку». Кто же проверяет, перед тем как прыгнуть? Никто. Я помню Валерика, своего одноклассника. Он прыгнул рыбкой и сломал себе шею. Умер сразу же.
Смерть поджидала не просто на каждом углу, а ходила следом, по пятам, и это не образное выражение. В моем случае вполне конкретное.
Тутовник. Самые вкусные тутовые деревья росли на кладбище. Мы объедали все деревья. Но самое «вкусное» дерево с белым тутовником цеплялось ветками за линии электропередачи. Нам категорически запрещалось к нему приближаться после трагедии, произошедшей с Артуром. Он полез, чтобы дотянуться до самых крупных ягод, не удержался на ветке и схватился за провод. Его ударило током. Нет, он, к счастью, не умер. Но остался инвалидом, прикованным к креслу, к которому наш учитель-трудовик прикрепил колеса, отпилив ножки. О существовании инвалидных кресел никто, естественно, даже не подозревал. А даже если и подозревал, то откуда им взяться в селе? Артур передвигался в кресле, в котором раньше сидел его дедушка под абрикосовым деревом во дворе. Но мы все считали Артура героем – ведь он говорил, что попробовал самые вкусные ягоды. И никакие другие с теми не могут сравниться. И если бы он мог залезть на дерево еще раз, непременно бы это сделал.
Однажды я нарушила запрет и залезла на это дерево. Дотянулась до ветки и сорвала несколько ягод. Попробовала. Ягоды оказались безвкусными. Обыкновенными. Годящимися только для варенья. Но я никому об этом не сказала, чтобы не подрывать репутацию Артура.
Дети умирали от менингита и кори, туберкулеза и кишечной инфекции. Родители, конечно, горевали, но относились к этому не то чтобы спокойно – скорее с пониманием и смирением – «да, болезнь забрала». Никто не бился до последнего, чтобы найти способ излечения. Не поднимал на ноги всех родственников, которые могли помочь найти врача, перевести ребенка в город, достать редкие лекарства. Наблюдали и готовились к худшему. А еще с маниакальным упорством верили в чудо. Если ребенок вдруг выздоравливал, значит, так надо. Господь, святой Георгий, заговор, который произнесла гадалка, снадобья от знахарки, принятый матерью обет или другие потусторонние силы решили оставить чадо на земле. Для чего-то. К таким детям относились с некоторой опаской и искали ответ – какая миссия у ребенка, который должен был умереть, но выжил? Что он должен сделать в жизни? Для чего он все еще дышит? Такие дети считались особенными, находящимися под невидимой защитой. За них не беспокоились – если один раз не умер, то все болезни и беды обойдут его стороной. Потому что на земле для него уготована особенная жизнь.
Так, кстати, случилось и со мной. Я тоже считалась «особенным» ребенком, которому не грозят ни болезни, ни участь утопленника. Мама, которой в Москве сказали, что я могу не выжить, поскольку родилась недоношенной, а если и выживу, то на всю жизнь останусь больной, отвезла меня в село. Выкармливать, выпаивать.
Когда мама сообщила, что я родилась в «рубашке» – плодном пузыре – и она до смерти перепугалась от такого зрелища, на меня все стали смотреть, как на «заговоренную». Родиться в «рубашке» считалось чудом, редкой удачей и гарантированным счастливым замужеством для девочки. Ведь чего еще желать для дочери, если не счастливого замужества? Конечно, ко мне относились не так, как к другим детям.
Грудное молоко? Кажется, все соседки были моими молочными матерями, причем лет до двух. Подкармливали бы и дольше, если бы бабушка не прикрыла эту молочную кухню. Кормящие женщины очень впечатлительны, и по селу пошел слух, что если новорожденные младенцы станут моими молочными братьями или сестрами, то моя счастливая «рубашка» перекинется и на них. Пусть не целиком, а частично: через молочное
Страница 20
родство удача, защита и счастливое замужество, если младенец – девочка, точно перейдут.При этом я благополучно, как и все дети, обливалась ледяной водой из уличной колонки, объедалась сырыми яблоками и абрикосами до дизентерии, пшенкой, которую ела вместе с цыплятами из их же корыта. В смысле гигиены, отравлений, простуд и прочих детских напастей за меня никто не переживал. Я же уже выжила. С детства слышала про свою «особенность», поэтому очень хотела ходить по дереву, как делали это мальчишки, нырять рыбкой и пробегать перед проходящим поездом по железнодорожным путям – еще один обряд посвящения. Я ведь знала, что не умру. Но я была девочкой, а девочки не допускались к настоящим испытаниям, слава тебе, господи. Зато допускались к острым ножам и топорам.
В десять лет я спокойно отрубала голову курицам, ошпаривала их крутым кипятком, ощипывала и вполне прилично разделывала. Я умела вязать веники, пользуясь острейшим шилом. Несколько раз прострачивала себе пальцы, когда шила на швейной машинке пододеяльники и наволочки. Моими лекарствами на все случаи жизни были слюна и подорожник.
Моей подружке Мадине, не заговоренной, как я, повезло меньше. Она умерла от потери крови. Мое первое настоящее горе, потрясение, боль. Я тогда заболела, очень тяжело. Две недели меня выхаживали и отпаивали травами. Тогда, после смерти Мадины, я поняла, что не бывает особенных детей и я тоже могу умереть в любой момент, как и моя подруга. Перестала верить в ритуалы, заговоры, гадания и в то, что судьба что-то решает за человека. Иногда люди такие идиоты, что судьба вообще ни при чем.
Мадина была лучшей из всех девочек. Она родилась такой красавицей, что с ней невозможно было за ворота выйти. Если тетя Рита, мама Мадины, шла с коляской в сельпо, то уже на полдороги щечки девочки становились пунцового цвета от бесконечных щипков восхищения. Все вещи Мадины были обколоты с изнанки булавками от сглаза. На запястье – красная шерстяная ниточка. Под подушкой – нож, чтобы дьявол не забрал ребенка. К каким только ритуалам тетя Рита ни прибегала, чтобы ее дочь не украли замуж раньше времени. Все известные заговоры произнесла на дочкино счастье. Мадина росла нежной, улыбчивой, мягкой. Всегда послушная, трудолюбивая. Всем подружкам ставили ее в пример. Именно такой должна быть осетинская девочка.
Нет, мы не завидовали ей, не злились – это было просто невозможно. Да, Мадина была одной на миллион, и мы ее за это любили. Но не уберегли. Потеряли, хотя могли спасти. В ее смерти я винила себя, ведь считалась ее лучшей подругой. Почему тогда я не позвала на помощь, почему побоялась? Мне ведь позволялось больше вольностей, чем остальным девочкам. Смерть Мадины меня отрезвила, избавила от последних детских иллюзий, и я перестала хотеть стать идеальной. Очень долго не могла себе простить бездействие, нерешительность, покорность. Надо было кричать, орать во все горло, как всегда делали мои бабушка и мама. А я смолчала.
После болезни я наконец стала такой, как все. Да, не умерла. Но могла. Помогли не обеты, не заговоры и не травы, а таблетки, которые достала бабушка. Врачи, к которым она меня отвезла в город. Достижения медицины, а не магические бобы, заговоренные нитки и пучки трав. Но боль с души так никто и не смог снять – Мадина до сих пор иногда мне снится.
Кажется, были поминки. Или свадьба. Или чей-то юбилей. Девочек позвали помогать женщинам в подготовке – промывать кишки баранов, мыть зелень, резать овощи. Я точно помню, что в тот день промывала текстикулы. Если закрою глаза, эти бараньи яйца стоят перед глазами. Помню, с тазом в руках смотрела, как мужчины разделывают туши. Они бросали мне в таз внутренности. Запах крови, еще горячей, невозможно вытравить из памяти. И пар, который идет от туши, теплый и совсем не противный. Я даже впала в легкий ступор, глядя, как красиво мужчины делают надрезы, как вываливаются из туши внутренности, как их подхватывают и бросают в таз. А я должна следить, чтобы не упали на землю, иначе потом мыть придется в десяти водах.
Мадина резала овощи, кто-то ее позвал, она отвлеклась и, взмахнув ножом, располосовала себе запястье.
Все девочки ходили с порезами – ничего страшного. Когда по пальцу проходишься ножом – это не больно. Куда больнее, если по ногтю, причем посередине. Отрезать невозможно. Заклеить? Кто же будет переводить на твой ноготь дефицитный пластырь? Ноготь, отрезанный ровно посередине, не болит, а нудит. Но если в разрез попадает волос, а он обязательно попадает, когда расчесываешься, начинается настоящий ад. Боль такая, что или хочется остаться без пальца, или отрезать волосы. Потом тянешь этот застрявший волосок через ноготь и не понимаешь, почему вдруг лицо стало мокрое. Слезы льются так, что их не замечаешь. Никакая другая боль для меня лично несравнима с той, когда в отрезанном около кутикулы ногте застревает волос. Твой же.
Мадина, когда увидела, что кровь капает на зелень, огурцы, помидоры, замотала рану тряпкой. Я видела, как она бегала с тазом и мыла овощи. Кажетс
Страница 21
, ее даже хвалили за старание. Я в тот момент промывала кишки и мечтала поменяться с ней местами. Обрабатывать субпродукты считалось наказанием. Кажется, мне влетело тогда за то, что я подмела двор, но забыла подмести дорогу за воротами.Мадина мыла и резала овощи. Она красиво нарезала огурцы и помидоры. Лук у нее выходил идеальным – ровными кольцами. Я же всегда халтурила на овощах, «украшая» неидеальную нарезку стеблями кинзы или базилика. Если резала Мадина, я готова была поклясться – все огурцы будут почищены, а к помидорам можно было подходить с линейкой – все дольки окажутся одинакового размера.
Но Мадина не могла отрубить голову курице. Ее рвало, если ее ставили на кишки. Она рыдала неделю, если мать пускала любимого петуха на бульон. Мадина даже отказывалась есть мясо, хитрила, о чем знали только подружки. Она уже тогда могла бы считаться убежденной вегетарианкой, хотя и слова-то такого никто не знал. Мадина чахла на глазах, худела, но это шло ей только на пользу – тетя Рита говорила, но это Мадина растет удивительной красавицей, тонкой, стройной, «одни глаза на лице». «Не портится» с возрастом, что иногда случается с девочками, прелестными в детстве и теряющими обаяние в период пубертата. Мадина в тот вечер ходила такой красавицей, что тетя Рита подумала приколоть дочке еще пару булавок на подклад – к ней уже начали свататься.
Мадина подносила к общему столу тарелки с овощами, и тетя Рита была счастлива от гордости за дочь. Если девушка так себя ведет, то кому такое счастье достанется? На том вечере отец Мадины получил еще два предложения о помолвке такой прекрасной дочери. И в кого такая красавица уродилась – запястья тонкие, ключицы девичьи торчат так, что с ума сводят. Опять же «одни глаза на лице».
Сейчас я понимаю, что творилось с Мадиной. Тогда нет. Мадину заставляли проявить уважение и съесть мясо, после чего ее рвало. Или не рвало, а она сама вызывала рвоту. Мадина ела овощи и фрукты, которые она же и резала. Но животный белок ее организм отказывался принимать. Она падала в обморок, если видела, как разделывают бычка или барана, что случалось трижды в неделю. Ее тошнило от запаха крови и внутренностей, от мычания, блеяния, пара, грязи, внутренностей в тазу, ног, голов, котлов, в которых варятся субпродукты… Во мне не было брезгливости, в Мадине ее оказалось слишком много для деревенской девочки. Мне было интересно, Мадине нет. Однажды я своровала с мужского стола тот самый деликатес – бараньи текстикулы, которые до этого очищала от пленок и промывала. Мне хотелось попробовать, ради любопытства. Узнать, почему это блюдо считается таким ценным и вкусным, что подается только старейшинам. Мадина оказалась рядом. Я ела с удовольствием, Мадина смотреть на это не могла.
Весь тот вечер она проходила, меняя тряпки на запястье, чтобы никто не заметил. Мы, девочки, ей помогали – шептали или показывали знаками, когда кровь начинала сочиться через тряпку. Нас тогда гоняли по полной программе. Даже присесть не было возможности. Мы с утра ничего не ели и не знали, когда выпадет шанс проглотить хотя бы кусок пирога. Мы все, девочки-помощницы, с ног валились от усталости. Мадина же чуть не падала в обморок, но все это списывали на волнение – ведь ей должно было исполниться уже шестнадцать лет, значит, она переживала за собственное будущее. За кого ее сосватают родители? И когда Мадина замирала на месте, бледнела, это лишь добавляло ей шансов удачно выйти замуж. У нее тряслись руки, что тоже все расценивали как хороший знак – невинность и чувствительность потенциальной невесты. Мадина ходила чуть медленнее, чем положено, и это тоже шло ей в плюс – грациозная, сдержанная, изящная. Не будет бежать впереди мужа. По двору идет, словно плывет, – наслаждение для глаз. Под ноги смотрит, не смеет глаза поднять – опять же, где такое воплощение скромности сыскать?
К концу вечера Мадина стала чуть ли не легендой, а ее отец не успевал подсчитывать, сколько еще предложений получит его дочь. Мадина могла выбирать женихов. Тетя Рита плакала от душивших ее чувств – гордости за дочь и обиды на собственную судьбу. Она в свое время не удостоилась права выбрать мужа. Отец Мадины отказывался от еще вчера казавшихся выгодными предложений. Он смотрел на дочь другими глазами – ведь вправду не девушка, а подарок судьбы для кого-то. Отец Мадины, надо отдать ему должное, не хотел повыгоднее выдать дочь, а мечтал о хорошей семье для нее, желательно из уважаемого рода. Чтобы дочь не месила грязь в огороде и не превратилась к тридцати годам в старуху, измученную тяжелым физическим трудом и бесконечными родами. Он хотел выдать дочь замуж в город. Чтобы ей было легче жить, хотя бы в быту.
Страшное горе для отца – найти свою дочь мертвой. Страшнее ничего не может быть. Наказание, после которого потребуешь ответа от судьбы – «за что?» – и вспомнишь обо всех грехах. Отец Мадины так и не дождался ответа. Ему досталось самое страшное из всех возможных наказаний – он жил с этой болью еще много лет, хотя каждый день молил о с
Страница 22
ерти.В тот вечер отец Мадины наконец выбрал для своей дочери достойного жениха и спешил ее порадовать. Она уедет не просто в город, а в Москву, где ее будущий муж учится в институте. И семья жениха будет только рада, если Мадина продолжит образование – тоже в институте. Они даже обговорили, где девушка может учиться – в медицинском. Там есть связи. Отец хотел сказать, что его дочь мечтала поступить в консерваторию – жить не может без музыки. Это они еще не слышали, как она на пианино играет. И на осетинской гармошке. Но промолчал. Медицинский так медицинский. Пусть забирает пианино и дома для мужа играет. Но родственники жениха вдруг сказали, что если у девочки другой интерес, то они будут только рады помочь. Лишь бы девочка была счастлива. Ведь если она будет счастлива, то подарит счастье и спокойствие их сыну.
Отец Мадины спросил у жены, где его дочь. Тетя Рита спросила у женщин. Те спросили у нас, девочек. Мы не видели Мадину последние пару часов, когда нам разрешили поесть и отдохнуть, перед тем как собрать и перемыть всю посуду. Вот этого я и не могу себе простить. Да, мы с ног валились и накинулись на еду, оставленную на дальней, зимней кухне. Мы даже не болтали, как обычно, а просто пытались успеть поесть перед уборкой. Ведь еще надо было натаскать воды, подогреть, оттереть песком кастрюли. Никто из нас не удивился тому, что Мадины за столом нет. Я тогда подумала, что она сидит с родителями и ее представляют родственникам будущего жениха. Еще порадовалась – вот ведь счастливая, ее будущее уже определено. Мы всегда радовались, когда кто-то из старших девочек «находил свое счастье». Ведь тогда не стоит ни о чем беспокоиться, а просто следует готовиться к свадьбе. Мы видели, как страдали те девушки, которым исполнилось уже двадцать лет и никто не хотел их брать замуж. Они считались старыми и «неудачными». Так что даже я мечтала о том, чтобы меня сосватали, как Мадину, пораньше. Чтобы успокоиться и думать о платье, приданом, покупать в сельпо ткань на занавески, шить наволочки и пододеяльники – готовиться к свадьбе, уже зная, какой дом тебя ждет, какая семья. Переживать о первой встрече с женихом, будто случайной, когда вы вдруг увидите друг друга на улице. А потом, возможно, он назначит тайное свидание. Или вы встретитесь у обрыва – традиционного места встреч помолвленных. В нашем селе, как я теперь понимаю, преобладали достаточно свободные взгляды. Жениху и невесте все же разрешалось познакомиться и повстречаться до свадьбы, узнать друг друга. Никто не видел невесту или жениха прямо в день бракосочетания. А если молодые друг другу не нравились категорически, что тоже случалось, родственники разрывали помолвку, придумывая какой-то нейтральный повод, чтобы не пострадали репутация невесты и данное женихом слово. Но я ни разу не слышала о девушках, насильно выданных замуж, и о том, что мужчина нарушил обещание. Яркое подтверждение тому – моя мама. Сбежав от нескольких женихов, она должна была, согласно традициям и принятым нормам поведения, самостоятельно, безо всякой помощи броситься в Терек раз двадцать как минимум, но ведь ей позволили не броситься. Хотя, возможно, женщины предполагали, что если мама станет топиться в Тереке, то с ней точно ничего не произойдет, а Терек выйдет из берегов и смоет все дома. Или случится еще какое-нибудь стихийное бедствие, что в случае моей мамы могло оказаться вполне реальным развитием событий.
Мадина лежала в дальней комнате хозяев дома, но так красиво и спокойно, будто уснула. Отец нежно потрогал дочь за плечо, та пошевелилась и даже открыла глаза. Он рассказывал ей про жениха и какое ее ждет счастье. Помолвку можно организовать хоть сейчас, а свадьбу позже. Будет время с женихом поближе познакомиться. Спешить не надо, если только сама не захочет побыстрее замуж.
Потом мужчина рассказывал всем, что Мадина кивнула и улыбнулась в ответ на его слова. Он вышел, оставив дочь в комнате – пусть еще отдохнет немного. Тяжелый был день. Нет, он не заметил ни крови, ни перевязанной руки. Ничего не видел. Так радовался своим мыслям, так сосредоточился на том, что устроил дочери счастье…
Я точно помню, что Мадина не мыла с нами посуду. Но тоже не придала этому значения – все мы пытались сбежать и прикрывали друг друга. Сейчас я перемывала тарелки, в следующий раз сбегу, и Мадина перемоет посуду за меня. Было уже совсем поздно, мы относили тарелки на кухню, когда раздался крик Мадининого отца. Он зашел в спальню, чтобы забрать дочь домой. Она была уже мертва. Врач потом сказал, что часа два как мертва. Удивительно, как она вообще столько продержалась с таким глубоким порезом и как никто ничего не заметил. Кровь ведь текла рекой. Позже, убирая двор, мы нашли окровавленные полотенца, которые Мадина прятала за стеной курятника.
Ее отец тогда чуть умом не тронулся. Тетя Рита не плакала. Она замерла и молчала. Ни слова не произнесла. Будто из нее тоже кровь выкачали, а оболочку оставили. Никто не мог понять, почему тетя Рита не рвет волосы, не воет, не стенает. Даже ее
Страница 23
муж не понимал и кричал на тетю Риту, обвиняя в том, что та не голосит на все село. Она же даже на похоронах не проронила ни слезинки. Ходила, стояла, сидела. Все молча. Ни единого всхлипа, ни единого возгласа.Женщины беспокоились за ее здоровье. Думали, тетя Рита умом тронулась от горя, раз так странно себя ведет. Приносили успокоительные отвары, которые тетя Рита молча выливала в огород или в палисадник. Мадина лежала в открытом гробу такая красивая, что слез на кладбище и поминках лилось столько, сколько не было пролито ни до, ни после. Мадину похоронили в белом платье, как невесту. Будущие родственники, приехавшие на похороны, оплакивали ее как родную дочь. Жених, никогда не видевший невесту, посмотрел на ту, которая должна была составить его счастье. Мальчика привезли в знак уважения. Традиции были ни при чем. Семье, которая так и не стала родной для Мадины, хотелось поддержать тетю Риту и отца Мадины. Юноша, увидевший свою невесту в гробу, застыл. Его пытались увести, но он ухватился за край гроба и не разжимал рук. Мне кажется, он смотрел на мертвую Мадину так, как смотрят на картину – шедевр, непревзойденный в красоте и чистоте. Не в силах отойти, оторвать взгляд. Не знаю, как сложилась его жизнь. Возможно, ему подобрали другую невесту, но я точно знаю – перед его глазами всегда стояла Мадина. Такое не забывается.
За тетей Ритой ухаживали все соседки. Приносили еду, посылали девочек подмести двор, прополоть грядки на огороде, помыть полы в доме. Она сидела на маленькой зимней кухне и перекладывала кружева, отрезы ткани, сортировала пуговицы, сматывала ровными кружками ленты, клубки пряжи. И все еще не произнесла ни единого слова, не выдавила из себя ни единой слезинки.
Соседки сокрушенно качали головами. Мол, Рита еще молодая, рано ей с ума сходить. Лучше бы уж кричала, плакала, легче бы стало, чем так замороженной сидеть и нитки мотать. И никто из женщин не заподозрил главного. Не понял, почему Мадинина мать застыла, перестала жить и дала обет молчания.
Никто не догадался, что тетя Рита приняла смерть старшей дочери как должное, неизбежное. Как принесенную жертву.
Рождение и смерть в моем детстве всегда лежали на одной чаше весов. «Стеллочка пришла на смену дяде Володе», «Алик умер, а ему на смену пришел Берти». В деревне, где я выросла, верили в то, что новая жизнь зарождается, если господь забирает старую. Когда в семье умирал прадед или дед, все молодые женщины рода – от невесток до внучек и правнучек – ждали наступления беременности. Дух умершего должен был войти в душу младенца и уступить ему место на этом свете. Если умирал молодой, талантливый мужчина или женщина, славящаяся красотой, добротой, старики упорно твердили: «Значит, понадобились на том свете». И это «понадобились» никак не расшифровывалось. Вопросы: «Почему именно моя дочь?», «За что меня так наказывает господь, что забирает единственного сына?» – считались неуместными, даже неприличными. Их женщина могла прокричать в подушку. Так, чтобы ее не слышали соседки. Эти вопросы они могли выплакать со слезами. Но не дай бог произнести их вслух. Это означало навести проклятье на весь род. Тогда судьба начнет забирать без всякого разбора и очередности.
Конец ознакомительного фрагмента.


