Читать онлайн “Преступление доктора Паровозова” «Алексей Моторов»
- 02.05
- 0
- 0
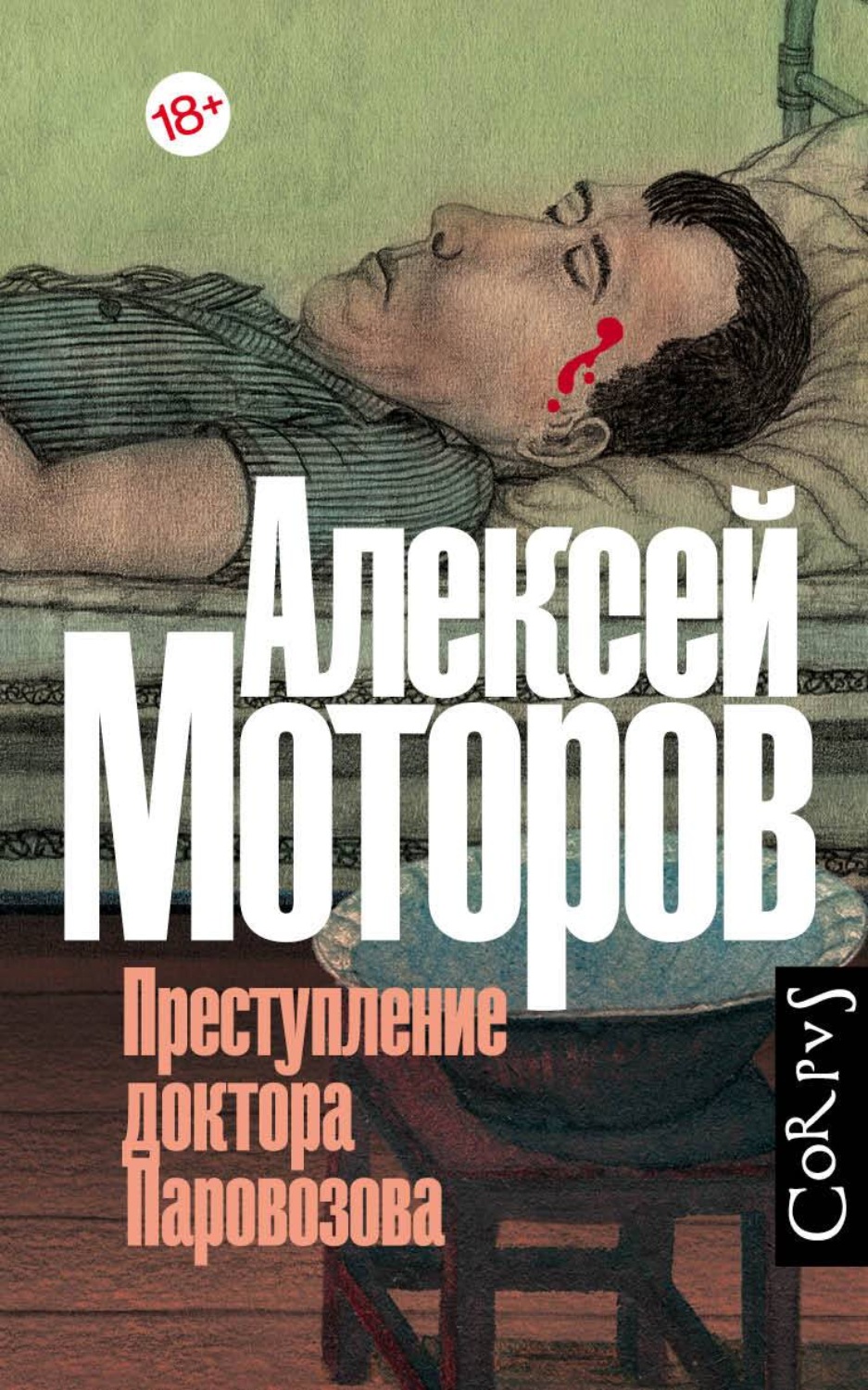
Страница 1
Преступление доктора ПаровозоваАлексей Маркович Моторов
Паровозов #2
Алексей Моторов – автор блестящих воспоминаний о работе в реанимации одной из столичных больниц. Его первая книга “Юные годы медбрата Паровозова” имела огромный читательский успех, стала “Книгой месяца” в книжном магазине “Москва”, вошла в лонг-лист премии “Большая книга” и получила Приз читательских симпатий литературной премии “НОС”.
В “Преступлении доктора Паровозова” Моторов продолжает рассказ о своей жизни. Его студенческие годы пришлись на бурные и голодные девяностые. Кем он только не работал, учась в мединституте, прежде чем стать врачом в 1-й Градской! Остроумно и увлекательно он описывает безумные больничные будни, смешные и драматические случаи из своей практики, детство в пионерлагерях конца семидесятых и октябрьский путч 93-го, когда ему, врачу-урологу, пришлось оперировать необычных пациентов.
Алексей Моторов
Преступление доктора Паровозова
© А. Моторов, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
Издательство CORPUS®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Моей внучке Соне
У истории своя правда, у легенд – своя.
Виктор Гюго
Девяносто третий год
Прямой эфир
Два танка выкатились на середину моста и там затормозили, качнувшись и клюнув носом, словно деревянные лошадки. Не мешкая, обе башни начали разворачиваться влево к огромному светлому зданию, потом замерли, как бы принюхиваясь своими орудийными стволами. Картинка была нечеткой, мешал утренний туман, впрочем, нет, не туман, там что-то горело впереди, заволакивая перспективу. Вдруг танки беззвучно дернулись, выплюнув каждый серое облачко дыма, и тут же на стене Белого дома распустились цветки разрывов.
Д-У-У-У-Х-Х-Ф-Ф-Ф!!! – донеслось через пару секунд со стороны Нескучного сада. И сразу злым двойным ударом в мембрану оконного стекла: ТУ-ДУМ-ТУДУМ!!!
Бутылки с полиглюкином на средней полке шкафа задрожали мелкой дрожью, сбившись в кучу и стукаясь друг о друга.
– Ох, ничего себе! – не выдержал кто-то из ординаторов. – Боевыми стреляют!
– А ты как хотел, – мрачно произнес анестезиолог по фамилии Веревкин, – чтоб они праздничный салют устроили?
Я тут же вспомнил, как мой Рома, когда был совсем маленьким, при первых залпах салюта всегда норовил спрятаться в укромное место. В шкаф или в кладовку.
– Тише, больного разбудите, черти! – показав пальцем на еще спящего в остатках наркоза мужика, негромко сказал доцент Матушкин.
– Сейчас его и без нас разбудят! – кивнул в сторону телевизора Веревкин. – Да и хватит спать, война началась!
– А я еще вчера говорила, что нужно койки освобождать и всех, кого можно, выписать! – оглянулась на всех Людмила, старшая операционная сестра. – Теперь уж поздно, пусть лучше здесь побудут.
Да, правильно, пусть здесь переждут. Больница не самое плохое место, когда в городе начинаются военные действия и прочие катаклизмы. Два года назад, голодной осенью девяносто первого, буфетчица нашего роддома, возмущаясь отсутствием аппетита у рожениц, наваливала им полные миски каши и орала: «Жрите кашу, жрите, дуры! Ведь там, – она тыкала огромным черпаком в сторону окон, – ведь там не будет!»
– Ого, смотри-ка, БТРы пошли! – воскликнул ординатор второго года Коля Плакаткин. – На БТРах клевый пулемет стоит, КПВТ называется, дом насквозь прошить может!
Коля так воодушевился этим клевым пулеметом, что подскочил и стал тыкать пальцем в экран, полностью перекрыв всем обзор. Только я что-то еще видел, потому как стоял очень удобно, за спинкой койки: телевизор находился как раз напротив. На Плакаткина тут же зашикали, и он отошел. Где-то там, за окном, раздались отголоски пулеметной очереди.
В крохотную палату послеоперационного отделения с маленьким телевизором на холодильнике набилось человек пятнадцать. Здесь, в урологическом корпусе Первой Градской, это отделение гордо называлось «реанимацией». Наверное, для тех, кто настоящую реанимацию не видел.
– Эти коммунисты сами хороши! – вдруг зло сказала Людмила. – Помните, когда в мае на проспекте заваруха случилась? Тогда еще омоновца грузовиком задавили. Так потом двое прибежали к нам с разбитыми головами и давай по матери всех крыть, перевязку требовать. Мы, говорят, из «Трудовой России», за вас, суки, кровь проливаем. А главное, поддатые оба. А я не выдержала и одному, самому борзому, отвечаю: ты на себя посмотри, чмо болотное, кто еще из нас сука! «Трудовая Россия» – она трудиться должна, а не по пьяной лавочке на митингах горлопанить! Они сразу хвост-то и поджали, притихли. Конечно, потом перевязала их, мне ж не трудно.
– Похоже, они горлопанить закончили! – хмыкнул Веревкин. – Нынче эти ребята к решительным действиям пер
Страница 2
шли. Видели, как вчера мэрию захватили? Как они там людей избивали? На Смоленке вообще нескольких милиционеров убили. Хорошо хоть с телевидением у них номер не прошел. Слышал, неплохо их там шуганули!– Говорят, у Останкина человек сто постреляли, если не больше! – сообщил похожий на боксера-легковеса Саня Подшивалко. – Ну и жизнь, без бронежилета на улицу не выйдешь!
– Такому крутому парню, как ты, Сашок, никакой бронежилет не нужен! – пошутил Плакаткин. – Тебя можно с голыми руками на танки посылать!
Все заржали, отчего послеоперационный мужик заворочался и что-то промычал.
– Чего веселитесь? – решил призвать всех к порядку Матушкин. – Смотрите, что творится, наверняка сейчас к нам навезут – мало не покажется! Кто дежурит-то сегодня?
– Да вот, господин Моторов! – кивнул на меня мой напарник по палате, здоровенный Игорек Херсонский. – Держись, Леха! Когда вам трудно – мы рядом!
Игорек всегда, даже с больными, разговаривал рекламными текстами, чем успел всех основательно достать.
– А вторым кто? – спросил Матушкин, потому как урологи дежурят всегда по двое.
– Витя Белов! – вздохнул я. Витя был неплохим парнем, работать с ним было нормально, если только он на дежурстве не поддавал. Тогда он превращался в полного дурака, и следить за ним нужно было в оба. Для меня оставалось загадкой, мобилизуют ли сегодняшние события Виктора Андреевича или, наоборот, расслабят.
– Ты не давай ему до киоска бегать, – словно услышав мои мысли, посоветовал Матушкин. – Не время сейчас, да и подстрелить могут.
Я представил себе, как Витя ползет под обстрелом к корпусу, вместо коктейля Молотова в каждой руке сжимает по бутылке паленой водки, а танковые снаряды ложатся все ближе.
– Вчера, от тещи ехал, видел в метро на «Пушкинской» патруль баркашовский. Пятеро, свастика у каждого на рукаве, – поделился врач третьей палаты Чесноков. – Документы у пассажиров проверяли. То ли евреев искали, то ли еще кого.
– Докатились! Гестаповцы по Москве разгуливают! – произнес Веревкин. – Хорош, ничего не скажешь, этот говенный Верховный Совет, если его фашисты охраняют! Там, похоже, вся мразь собралась. Ну, ничего, сегодня их как крыс передавят!
– А я читал, баркашовцы вроде за русских людей, – шмыгнув носом, неуверенно сказал Саня Подшивалко. – Они только против мирового сионизма.
– Ты, Саня, явно с головой не дружишь, – заявил Веревкин. – Нельзя быть за русских людей – и со свастикой. Из-за таких вот, со свастикой, половина пацанов моего поколения без отцов остались. Я считаю, если в нашей стране свастику нацепил – то можно сразу без суда и следствия к стенке ставить.
– Да там не только они, там и казаки! – нахмурился Херсонский. – Казачков-то за что? Казачки они всегда верой и правдой!
– Игорь, что ты несешь? Какие казачки? Нету никаких казачков. Их всех еще в гражданскую порешили, – раздраженно сказал Матушкин. – Сейчас не казаки, а урки ряженые, алкашня, клоуны в лампасах. А им еще, этим придуркам, автоматы выдали.
– Это Ельцин во всем виноват! – раскрасневшись, выпалила Людмила. – Ему народ доверился, а он, говорят, только и делает, что ханку жрет!
Послеоперационный больной при упоминании Ельцина приоткрыл на мгновение глаза, мутным взглядом мазнул по экрану телевизора, где в прямом эфире продолжались боевые действия, и снова задремал.
– Да ладно тебе, Людка, – примирительно сказал Чесноков. – Ельцин нормальный мужик. А раньше что, лучше было? Ты ж сама коммунистов не жалуешь!
– Раньше, Володь, из пушек по домам не палили, – отрезала Людмила, – и по телевизору это безобразие на всю страну не показывали!
И как бы подтверждая справедливость ее слов, опять за окном раздалось упругое ТУДУМ-ТУДУМ-ТУММ!!!
Все дружно уткнулись в телевизор. Один из верхних этажей Белого дома уже горел, и оттуда валил черный дым. Танков стало уже четыре, да и бронетранспортеров прибавилось. Какие-то люди в военном и гражданском разбегались кто куда.
Тут оператор дал крупный план набережных. Людка всплеснула руками, Чесноков ахнул, Саня Подшивалко открыл рот, Херсонский присвистнул, а Коля Плакаткин произнес негромко: «Едрена матрена!»
По обе стороны реки, буквально рядом со стреляющими танками, толпились зеваки. Среди сотен, если не тысяч любопытных я успел рассмотреть несколько мамаш с детскими колясками, женщин с собачками на поводке, старушек с сумками на колесиках и даже парочку велосипедистов.
– Нет, ну действительно! Край непуганых идиотов! – потрясенно развел руками Матушкин. – Они, оказывается, в цирк пришли! Да, сегодня работы много будет. Мне рассказывали, если в Америке перестрелка случается, все в радиусе километра на землю падают и руками голову прикрывают! Даже негры!
Протиснулся Дима Мышкин, под расстегнутым халатом какой-то уж совсем невероятный пиджак, подаренный, как и многое другое, старшим братом-банкиром.
– Мне тут на пейджер сбросили, что за сегодня доллар на сто рублей подорожал! – поправив красивые дымчатые очки, с важным видом оповестил всех Дима и зачем-то посмо
Страница 3
рел на свой золотой «Ролекс». – Кто успел бабки в баксы перевести, неслабо наварить сможет.– Да чокнулись все на этих баксах! – с осуждением зыркнула на Мышкина Людка. – Только везде и слышишь: «Баксы, баксы…»
– П-и-и-и-и-и-ть! – слабо простонал послеоперационный больной. Все на какое-то мгновение притихли, а Людмила принялась смачивать ему губы марлечкой, намотанной на ложку.
За окном опять гулко ударило, на этот раз особенно сильно.
– Совсем сдурели! – чуть не выронив ложку, возмутилась Людмила. – Они бы еще бомбить начали!
Тут дверь распахнулась, и заведующий мужским отделением Маленков, не обращая внимания на телевизор, громко спросил:
– Моторов здесь?
– Здесь, Владимир Петрович! – выглядывая из-за огромной спины Херсонского, отозвался я.
– Ты вот что, командир! – фирменным окающим говорком приказал Маленков. – Давай-ка ноги в руки и бегом в хирургический корпус! Там в операционной паренек лежит, его менты здорово побили. Сейчас брюхо вскрыли, оказалось, что мочевой пузырь ему в лоскуты разнесли. Помоги хирургам, а главное, катетер Петцера захвати, а то у них своих нет! Переоденешься прямо там, пижаму тебе выдадут! Если что – звони!
Поздний ужин
Надо же, мне все-таки удалось вернуться к нашему корпусу живым и, как ни странно, здоровым. Если не считать халата, ничего не пострадало, ну а может быть, именно белый халат меня и спас. И, окрыленный надеждой, я на эту мраморную приступочку перед дверью даже не запрыгнул, а взлетел. Обычно двери на ночь запирают, но чем черт не шутит, вдруг забыли? На всякий случай я дернул обеими руками за вертикальную ручку. Так и есть, закрыто, и внутри света нет. Лишь стекла задребезжали. Я на ощупь нашарил звонок на стене и вдавил кнопку. Со стороны это наверняка выглядело красиво и трагично. Ночь, фигура в белом на темном крыльце, в обрамлении четырех белых колонн.
Да, звонок тут, конечно, знатный присобачили. Трели такие пронзительные, что на проспекте слышно. Этим звонком можно общегородскую воздушную тревогу объявлять.
Только сейчас я в первый раз оглянулся. Они были здесь, вся стая, уселись в двух шагах от крыльца полукругом, лишь дыхание слышно, некоторые тихонько поскуливали. Я снова позвонил, подольше. Да что там, все умерли, что ли? Такие дела вокруг творятся, а они дрыхнут. А если попробовать по двери ногой колотить? Самый большой пес нервно зевнул и со стуком захлопнул пасть, белые клыки сверкнули в темноте, как татарские сабли.
Наверное, это он мне халат разодрал, сволочь, хотя, может, и нет. Уж больно экземпляр здоровенный, похоже, кавказская овчарка, сейчас много породистых собак на улицу выкидывают, прокормить трудно. Правда, в потемках не очень-то видно, да и отгадывать породу собаки, которая тебя хочет сожрать, не самое время. Такой огромный барбос должен был меня вместе с халатом проглотить, целиком. Я еще раз позвонил и снова принялся что есть сил ногой дубасить.
Эх, нужно было наших по телефону предупредить, вот лапоть, сам виноват. А собачкам точно звук звонка не нравится. Сидят, не нападают, смотрят, что дальше будет. Сколько же их тут? Десятка два, не меньше, и все крупные и, похоже, очень голодные. Моих шестидесяти пяти кило им ненадолго хватит. А может, у них чисто спортивный интерес, они же меня как окружили кольцом, так и гнали, словно дичь. Ведь собирался по проспекту идти, да хирурги отсоветовали, мол, мало ли на кого нарвешься, на патруль какой-нибудь, костей не соберешь. Того парня, которого мы сегодня с хирургами утром штопали, как раз такой патруль встретил.
Что там произошло, не совсем ясно, но чем-то он сильно стражам порядка не понравился. Потому как молотили они его дубинками долго и от души.
Хотя кто их знает, может, они теперь так со всеми, у кого документы проверяют? Вчера во всем городе ни одного мента не осталось, как крысы по щелям попрятались, а сегодня они отрываются – за тот свой страх вчерашний.
А парень лежал на тротуаре пару часов, пока «скорая» не приехала, ну, ему еще повезло, нынче день такой, что мог до следующего утра ждать, если бы выжил, конечно.
Еще бы, разрыв печени, селезенки, тощей кишки, пневмоторакс, сотрясение мозга, да и мочевой пузырь ему порвали до кучи, потому меня и вызвали в помощь. А документы, кстати, у него в карманах нашлись. Паспорт и студенческий билет Горного института. Он тут рядом совсем, институт этот.
К тому моменту как я прибежал, хирурги ему уже в брюхо влезли, свое почти все сделали, меня ждали. Пузырь шить не так уж долго, тем более мне один из хирургов ловко ассистировал. Потом сам немного на крючках постоял, помогал. И только решил сворачиваться, стали раненые с Пресни поступать, а там сплошные огнестрельные, на любой вкус. И сквозные, и слепые, и рваные от рикошета. Наглядная иллюстрация к учебнику по военно-полевой хирургии. Так что пришлось остаться надолго, реаниматологи местные зашиваться начали. Вот тут-то и пригодилась моя реанимационная юность – кровь ведрами переливать, подключичные катетеры вставлять, плевру дрени
Страница 4
овать.Один мужик, которому голень пулей раздробило, все никак не мог успокоиться, повторял как заведенный: «Там рядом стреляют, а они, суки, матрешками торгуют!» Это он арбатскими торговцами возмущался. Я все-таки не выдержал и спросил: ладно, хрен с ними, с торговцами, ты-то зачем туда полез? Он глаза отвел и пробормотал: «Да интересно ж посмотреть. Когда еще такое будет!» Действительно. Веская причина, чтобы всю оставшуюся жизнь на протезе скакать.
Потом опять в операционную отправился и шил, и на крючках повисел. И когда я в урологию решил вернуться, стояла глухая ночь.
Нет, надо было все-таки по Ленинскому идти, как Мишаня. Наш медбрат Мишаня слыл человеком божьим. С тех пор, как в одном из корпусов восстановили храм, ни одной вечерней службы не пропустил, став ревностным прихожанином. А после молитвы возвращался всегда по проспекту, вдоль ларьков. Ларьки стояли плотно, через каждые десять метров. Ассортимент в них был как под копирку: сигареты, водка, пиво, «сникерсы» да «марсы». Стоило это немало, но все равно здорово, идешь как по Бродвею, вокруг «Мальборо», «Кэмел» да кока-кола. Тут даже если не купишь, так хотя бы поглазеть можно.
Мишаня обычно брал в киоске водку подешевле, бутылку пластиковую кока-колы и в подвале, тряся бородой, распугивая крыс, все это в два приема выдувал. Вот как на него слово божье действовало. Один раз, правда, переборщил, купил с каких-то шальных денег здоровую бутылку «Абсолюта», так и бродил всю ночь по корпусу, словно зомби, глаза блестят недобрым пламенем, борода черная лопатой, ни дать ни взять Емельян Пугачев, сбрендивший при осаде Оренбурга. Циститные барышни, наталкиваясь на Мишаню в темноте, сильно нервничали.
А меня патрулями застращали, я и пошел по территории. Идти неблизко, от хирургии до урологии – почти троллейбусная остановка, где-то там посередине меня в кольцо и взяли. Сначала даже не почувствовал всю ответственность момента. Ну, выскочили из темноты здоровые собаки, погавкали, потом еще другие набежали, а когда стало понятно, что я для них добыча, было уже поздно. Назад не вернешься, ночь, кругом ни души, фонари не горят, ни черта не видно, все корпуса закрыты. Пришлось идти в кольце собачек, которые теперь не гавкали, а злобно рычали, дышали адским огнем, шерсть дыбом. Еще бы! От меня же после операций запах для них возбуждающий. Свежая кровь, свежее мясо.
И когда одна из псин, решив перестать церемониться, сзади рванула за халат и он с треском разъехался, я только и успел подумать, как же сейчас может нелепо окончиться моя жизнь. От шальной пули – даже по-геройски, от дубинок патруля – ну еще туда-сюда, а когда тебя съедают псы, да еще на работе, это никуда не годится.
Непонятно, почему они меня сразу не загрызли, наверно, мой белый халат их сбил с толку: днем этих собак часто подкармливали санитарки и буфетчицы, женщины, как правило, сильно пьющие, но сердобольные.
Я опять позвонил, теперь морзянкой. Три коротких, три длинных, три коротких. SOS – спасите наши души! Это почему-то подействовало. Буквально через полминуты зажегся свет в коридоре, затем в прихожей возле гардероба. За дверным стеклом появилась лохматая голова. Я выдохнул.
– Что нужно? Чего трезвонишь? Вот я милицию вызову!
Сонька, дежурная медсестра.
– Сонька, зараза, открывай быстрее, пока меня здесь не загрызли к едрене фене!
– Ой, доктор, это вы, что ли? Вы?
– Да! Я это, я!!! Сонька, быстрее открывай, говорю!
– А-а-а, так это вы, доктор? А у меня ключа все равно нету!
И ушла ключ искать. Ну что ты будешь делать! Слава богу, вернулась быстро, засовом загремела, крюком зазвенела, ключом заворочала.
– А мы думали, вы в хирургии до утра останетесь!
Думали они, оказывается. Сонька открыла наконец дверь.
Я ее вдавил внутрь грубо, не по-джентльменски, и в предбаннике оглянулся на этих друзей человека в последний раз.
– Лучше погляди, какие барбосы. Чуть не сожрали!
Сонька посмотрела на собак из-за моего плеча. Многие уже встали и потрусили куда-то во мрак вслед за вожаком. Наверняка искать очередного лопуха на ужин.
– Эти? Эти могут! – уверенно сказала Сонька. – Весной двух бомжей у четырнадцатого корпуса насмерть загрызли. Вы, доктор, напрасно тут ночью ходите!
Как будто я тут променад перед сном решил устроить. Бомжей, значит, загрызли, а доктора уважают. А может, и не уважают. Может, доктором как раз и побрезговали.
Я нашарил сигареты и прикурил. А пальчики-то дрожат! Понятное дело – выброс катехоламинов в кровь. Эх, жизнь наша – сплошная биохимия!
Бомжи. Новая московская напасть. С каждым месяцем их все больше. Еще несколько лет назад никто о таком и не слыхивал. А сейчас они везде. А уж вокруг нашей больницы и подавно. Ну, это и понятно. Тут корпуса заброшенные, и кухня рядом, а заболеет кто всерьез, так совсем удобно. В приемном покое, если такого бомжа кладут на кушетку, с него в разные стороны блохи начинают выпрыгивать. Сам много раз видел. Обычно в таких случаях монашек просят – так у нас сестер милосердия назыв
Страница 5
ют из общины при церкви. Они к таким подойти не гнушаются, а остальные блох боятся.Бывало, бегаешь из корпуса в корпус, как заглянешь в оконные проемы полуразрушенных зданий, становится страшновато от копошения этих тел в лохмотьях.
Хотя есть вещи куда опаснее бомжей. Например, на прошлой неделе вышли на крыльцо покурить, сначала никто не понял, что за хлопки такие, а когда человек мимо пробежал с пистолетом, сообразили. Оказалось, какие-то отморозки на цветочников наехали.
Недавно азербайджанцы корпус неподалеку в аренду взяли под хранилище, там их бандюганы и постреляли. Теперь так коммерческие вопросы решаются. Некоторые потом приходили смотреть, как один из этих бедолаг лежал на холме из гвоздик, прямо как Ленин в мавзолее.
Я спустился в подвал, открыл свой шкафчик, лампочка еще, как назло, перегорела, долго шарил в потемках, достал запасной халат, не очень чистый, сильно мятый, зато целый. Еще в начале сентября замок со шкафчика сорвали, сперли заварку и сахар. Между прочим, купил на последние деньги. Хотел на дежурстве, как приличный, не халявный больничный сахар грызть, а свой. А главное, увели мой любимый японский фонендоскоп, только халаты с колпаком и оставили. Хотя чего уж теперь переживать.
– Сонька, пожрать что-нибудь осталось?
– Ой, доктор, а вы не ужинали? – Сонька сочувственно так спрашивает.
А я и не обедал, да, в принципе, и не завтракал, но говорить об этом не стал. Не из деликатности, а просто лень.
– Давайте я найду что-нибудь, я быстро! – Сонька – баба добрая, правда, малость бестолковая.
– Да ладно тебе, Сонь, не суетись, спасибо. Да и что тут найдешь, в два часа ночи? Лучше спать иди.
Я еще минут пять ее прогонял, наконец ушла. А сам на кухню отправился, а вдруг там что-нибудь да осталось.
Не успел выключателем щелкнуть, как пол на кухне зашевелился и брызнул во все стороны. Это потревоженная стая огромных тараканов побежала от меня по щелям прятаться. Тараканы здесь, как и все остальное, какие-то доисторические. Невероятных размеров, черные, под ногами хрустят, словно битое стекло. Пришлось взять паузу, пусть себе бегут в свои тайные квартиры.
Теперь можно спокойно, не бегая по членистоногим, плеснуть воды в чайник, плиту включить. Немного погодя огромный алюминиевый чайник весело засвистел, создавая некое подобие домашнего уюта. Начал было по кастрюлям шарить, съестное искать, да уже нет, конечно, ничего. Все пусто, только в одной ко дну прилипли холодные резиновые макароны. Греть неохота, тарелок чистых нет, но ничего, мы не гордые, можем прямо из кастрюли поесть. С неимоверным удовольствием я опустился на стул, поставил кастрюлю себе на колени и стал скрести ложкой по днищу.
Сразу Женя Лапутин вспомнился, мой давнишний приятель. Мастер парадоксальных вопросов.
– Ты заметил, что коммунисты очень любят макаронами закусывать?
Мы с ним раньше в другой больнице работали. Женька в нейрохирургии, а я в реанимации.
– А почему, Жень, макаронами и почему коммунисты?
– Да блюют они у меня в смотровой этими самыми макаронами! Я точно знаю, если ко мне коммуниста после ноябрьской демонстрации привозят, обязательно будет макаронами блевать! Наши коммунисты в глубине души итальянцы, без макарон не могут.
Справедливости ради нужно сказать, что Женька уже никаких блюющих макаронами коммунистов не лечит, у него давно другой контингент. Он нынче известный хирург-пластик и одновременно с этим модный писатель. Как это уживается в нем, непонятно. Хотя неординарные личности они своей особой жизнью живут, так что удивляться тут нечему.
Вдруг, откуда ни возьмись, появилась Сонька. Принесла сахар, заварку, печенье и даже сырок плавленый. Тут и чайник весьма кстати закипел.
– Соня! Откуда богатство такое? Магазин грабанула?
– Да у больного одного попросила, из палаты Сергея Донатыча, он в туалет встал, а я тут как тут! Говорю, доктор наш голодный пришел, всю ночь раненых оперировал, даже не ужинал. Он мне и дал, что у самого было.
– Слушай, тебе бы не медсестрой, а снабженцем работать! Давай уж тогда бери кружку, вместе посидим.
– Доктор, а раненых много сегодня?
– Хватает. Чувствую, еще и завтра везти будут.
– А кто они, раненые эти? Как его… баркашовцы?
– Да какие еще баркашовцы, так, прохожие, зеваки. Поглазеть сдуру пришли, там их и подстрелили. А боевиков – тех наверняка в тюремном лазарете пользуют.
– Да что ж такое делается, в Москве по людям стреляют! Из танков стреляют!
– И не говори, – вяло соглашаюсь я. – А что там по телевизору показывали вечером?
– Так арестовали этих, и Руцкого, и Хасбулатова, в автобус посадили и увезли. А Белый дом как загорелся, так его, говорят, до сих пор потушить не могут. Зато к ночи ближе уже и стрелять перестали. Вот вы, доктор, когда сейчас шли, выстрелы слышали?
– Утром шел, палили вовсю, а сейчас вроде нет. Знаешь, когда на меня собаки налетели, я уж, честно говоря, не прислушивался! Ладно, Сонь, ты спать иди, спасибо за чай, я и сам скоро лягу. Ключ от двери оставь, хочу пе
Страница 6
ед сном воздухом подышать. Как у нас, все спокойно? Послеоперационных перевязали? Виктор Андреевич где?– Да вроде нормально, всех перевязали, а Виктор Андреевич третий час как отдыхает! – Сонька заговорщицки подмигнула и указательным пальцем погладила себя по горлу.
Хорошо, что Витя спит, а не колобродит, как обычно, а то мне урезонивать его совсем не хочется.
– Спокойной ночи, доктор!
– Никогда, слышишь, Сонька, никогда не желай спокойной ночи на дежурстве. Плохая примета!
На кухне грязной посуды – как после банкета на триста персон. Все потому, что буфетчица пьет уже второй месяц, а новую поди еще найди. А мне ведь завтра над этими тарелками и кастрюлями умываться.
Еще в начале сентября бригада больничных слесарей поснимала все рукомойники и унитазы для замены на новые. Только потом что-то у них случилось – то ли раковины и унитазы кончились, то ли их сперли, то ли деньги, на них выделенные, пропили. Во всяком случае, больше ни один слесарь у нас не появлялся, а умываться теперь можно лишь в кухне над цинковым корытом мойки. И унитаз остался один на два этажа, и это в урологическом отделении, слава которого гремела когда-то на всю Москву.
Ладно, нужно перекурить и двигать на боковую, пока есть такая возможность. Пойду-ка на улицу, хоть и начало октября, а день сегодня теплый был, да и ночь почти как в августе. И если бы не пальба да не собачки – тут у меня пробежал холодок по спине, – так вот, если бы не пальба и не собачки, день был бы просто замечательный.
Я включил все лампы в предбаннике у гардероба, открыл засов, замок и осторожно выглянул наружу. Тихо, как бывает ночью на даче, недоставало лишь шума далекой электрички. Дверь на всякий случай не стал прикрывать, мало ли, а вдруг опять сафари приключится.
Свет из дверного проема высветил желтую полосу на асфальте, чуть впереди проступили очертания гипсового фонтана. Старожилы рассказывали, что он еще в конце восьмидесятых работал, создавая некую гармонию со старинным зданием корпуса. Но сейчас, как и все остальное, фонтан пришел в полное запустение и там только мусор и окурки.
Странно, дежурство уже на убыль, а пачка почти полная. Это потому, что в хирургии перекуров было – раз-два и обчелся.
Как утром вышел из метро, так минут пять стоял у ларьков, раздумывал, что лучше: сигарет купить или пару пирожков? Все-таки суточное дежурство. Вдалеке канонада, пушки палят, пулеметы, а я тут решаю глобальные вопросы бытия.
Сигареты все-таки перевесили. Потому что доктору стрелять закурить как-то несолидно, а поесть больничной кашки – это еще можно. Кто ж знал, что с кашкой не выйдет? А все из-за того, что нужно было в буфет сразу отправляться, а не пялиться в телевизор.
Где-то там, над макушками деревьев, в стороне Москвы-реки, было видно далекое зарево. Значит, еще не потушили Белый дом. Завтра с утра нужно где-нибудь новости послушать. А еще после утренней конференции неплохо бы сбегать в хирургический корпус, глянуть, как тот студент, жертва проверки документов, с ушитым мочевым пузырем. Вот попаду сейчас в чашу фонтана сигаретой, тогда все с ним будет хорошо!
Я прицелился, щелкнул – окурок, прочертив красивую дугу, залетел прямо в чашу, только искры брызнули. Отлично! Если процесс пойдет как надо, не исключено, что его уже с аппарата снимут, тогда он и говорить сможет. Будет, как обычно в таких случаях, глазами хлопать и слабым голосом у всех спрашивать, как он здесь оказался.
Я поднялся на ступеньку и тут запнулся: А ТЫ сам-то как здесь оказался???
Нет, если б кто другой, я бы не удивился, но меня-то как угораздило? Я ведь, сколько себя помню, всегда боялся врачей, не говоря уж об этих страшных инструментах. Потому что все это – шприцы, иглы, скальпели, щипцы, крючки – точно придумали для того, чтобы именно мне причинять нечеловеческие страдания. Я позорно дрожал от страха, даже когда у меня брали кровь из пальца. Но страшнее всего – это читать всякую наглядную агитацию, смотреть на жуткие картинки, развешанные по стенам в поликлиниках, где самым впечатляющим был плакат, изображавший жертв пьяного зачатия.
И когда на даче, в сарае, нашелся многотомник с иллюстрациями «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне», мне потом этот военный опыт ночами снился. Ну и как же так получилось, что я в свои детские страхи окунулся с головой?
Самое интересное, что я полжизни работаю по больницам, а подобный вопрос возник у меня почему-то только сейчас.
Я закрыл дверь на все замки, выключил свет, бросил ключ на пост. Тихо, больные все спят. По дальней лестнице поднялся на второй этаж, к одиноко стоящему у дверей в операционную старому кожаному дивану. Пошарил рядом в тумбочке, вытащил замызганное одеяло и такую же подушку. Лег, не раздеваясь, только обувь и халат скинул.
Наверно, я никогда не полюблю Первую Градскую, как любил когда-то свою Семерку. Она мне и больницей-то не кажется, а каким-то историческим памятником. Было бы правильнее на ее месте краеведческий музей открыть. Тут так много всего сл
Страница 7
чилось за двести лет – нужно Нестором быть, чтобы это описать. Лишь недавно профессор Лазо рассказывал, что когда французы вошли в Москву, Наполеона здесь лечили от гонореи. Значит, вот какой насморк помешал Бонапарту одержать убедительную победу под Бородином.В этих древних стенах хорошо кино снимать, а не больных лечить. Недавно в нашей перевязочной снимали эпизод, где, по сюжету, мертвый Сталин в морге лежит. Вот для таких душевных фильмов Первая Градская самое место. А работать тут как-то не очень. У докторов ни кабинетов, ни ординаторской, ни комнаты отдыха нет. Врачебные столы стоят в общем коридоре, мы сидим пишем свои истории болезни, вокруг больные ходят, посетители, пристают с вопросами, каждую секунду за халат дергают.
Хорошо еще, что так, а то рассказывают, что при академике Лампадкине столы врачей находились прямо в палате. Это чтобы присутствие пациентов доктора дисциплинировало. Нужно было бы приказать и операции проводить прямо в палатах, чтобы и пациентов к дисциплине приучать. Все бы шелковыми стали!
В последнее время здесь вообще бардак невероятный, впрочем, как и везде. Часть докторов в поисках лучшей жизни подалась кто в челноки, кто в медицинские кооперативы. Те, что остались, либо начали бухать, как самоубийцы, либо отчаянно зарабатывать деньги на тех, кто за последние годы преуспел. Беда в том, что богатых пациентов в Первую Градскую нужно еще умудриться заманить, поэтому на таких идет настоящая охота. А зарплата нынче такая, что моей, например, хватает ровно на два блока самых дешевых сигарет.
Ладно, хватит о грустном. Вроде я собирался поразмышлять о другом. А именно о превратностях своей жизни. Так на чем я остановился? На том, почему именно сегодня вопрос о выборе профессии пришел мне в голову. Ну, значит, некогда было раньше об этом размышлять, вот почему! Хотя нет, одна попытка случилась у меня лет десять назад.
В то время я работал медбратом в реанимации, и часа в три ночи на центральный пульт больницы пришло сообщение, что на трассе по направлению к Домодедово лоб в лоб на гололеде сошлись аэропортовский «Икарус» и ночное маршрутное такси. В обеих машинах пассажиров под завязку, и всех, кто выжил, везут к нам. Мы к Домодедово ближайшие.
Нужно было срочно освобождать места для вновь поступающих, распихивать стабильных больных в другие отделения, готовиться к массовому поступлению покалеченных людей, а мне досталось отвозить трупы в морг. Обычно умершие ждут своей скорбной очереди до утра, но сейчас не та ситуация. С минуты на минуту тут такое начнется, что только держись, поэтому даже каталки, на которой эти трупы лежат, будут задействованы как койки.
Загрузил я двух покойников на каталку и повез их в подвал. Санитаров тогда всех повыгоняли, вот и приходилось самому этим заниматься.
Подвал в нашей больнице был что надо. От одного конца, где роддом, до другого, где морг, полкилометра, не меньше. Пока дойдешь, можно всю жизнь вспомнить. Добрался я до морга, а там сразу все пошло не слава богу. Обычно стоило лишь нажать на звонок, сразу же спускался лифт с местным санитаром-алкашом, но сейчас я до посинения давил на кнопку, а наверху никакого движения не наблюдалось.
Пришлось подниматься по лестнице в потемках, оставив у лифта каталку с мертвецами. Хорошо, что хоть дверь на боковую лестницу не заперли.
В комнатке, где я нашел бесчувственное тело санитара Сашки, надрывался телевизор. Через равные промежутки он издавал резкий и противный сигнал, а надпись на экране услужливо мигала: «Не забудьте выключить телевизор».
Я вздохнул и начал Сашку в чувства приводить. Толкал, пихал, один черт – не разбудил. А когда заметил на столе три пустые водочные бутылки, то сразу бросил это бессмысленное занятие.
Поэтому все сделал сам. Поднял каталку на лифте, перетащил в одиночку трупы на секционный стол, нашел журнал, записал туда данные. А перед тем как спуститься на лифте с каталкой, я в санитарской комнате все-таки выключил телевизор. Не забыл.
На обратном пути решил перекурить по дороге и тут обнаружил, что прикурить-то мне и нечем. Сигареты есть, а спички не захватил. Конечно, можно было в морг вернуться, на столе у Сашки пошарить, но возвращаться – плохая примета, дороги не будет. Надо же таким растяпой быть! В отделении уже не покуришь. И вдруг остановился и на все это как бы со стороны посмотрел.
Вот стою я ночью в подвале около морга, вокруг ни души, сам весь такой – сорок четвертого размера, впереди конца этому подвалу не видно, одинокие лампочки еле светят, как в тоннеле метро, да еще что-то с противным звуком капает из труб. И я переживаю, что не взял спички!!! Ну, дела! Сказал бы кто-нибудь мне лет пять назад, что так будет, не поверил бы никогда! Да я от одной мысли со страху бы окочурился. Какая нелегкая занесла меня в этот подвал? Да как такое вообще произойти могло???
Но ответить себе я тогда не успел, потому что уже добрался до реанимации, а там такое творится, мама дорогая! Первые «скорые» в гараж заехали, только успевай поворачива
Страница 8
ься!Значит, приходилось все-таки задумываться о странностях своей судьбы. С чего вдруг закрутилась эта карусель? Где же она, эта отправная точка?
Я лежал на диване в больничном коридоре, смотрел в потолок, а мимо меня в темноте бродили больные. Так всегда по ночам – кому в туалет, кому покурить, у кого ночные боли, а у кого просто бессонница. Все они шаркали, кашляли, кряхтели, сморкались, что-то бормотали, а я все пытался понять, что привело меня на этот вот диван.
Путевка в жизнь
Ну и руки у меня стали! Не руки, а грабли. Сухие, потрескавшиеся, в каких-то царапинах, ссадинах, такое впечатление, что совхозная земля въелась в них навечно. Всего-то три недели прошло от начала моей трудовой биографии, а будто всю жизнь только и делаю, что руками навоз мешу. Я их и щеткой тру через каждые полчаса, и ногти до мяса состриг, а ничего не помогает. Теперь с такими граблями на гитаре не очень-то поиграешь, ну да все равно не с кем. Хоть в совхоз опять иди редиску дергать и в пучки увязывать.
Все потому, что из наших трех восьмых классов решили собрать лишь один девятый. Новая директриса оповестила нас об этом еще в апреле. Согнала всех в актовый зал и обрадовала.
– Отберем, – говорит, – в девятый класс самых достойных: отличников, спортсменов, комсомольцев и…
– Красавцев!
Насчет красавцев – это уже я подсказал. Меня всегда пробирало на публичные шутки. И в тот раз все загоготали, к моему огромному удовольствию. Все, кроме директрисы.
– А тебя, – сощурилась директриса, – КРАСАВЕЦ, я на пушечный выстрел к девятому классу не подпущу!
Тут все еще сильнее заржали, и я по инерции.
– Ну а что вы хотите? – спросила мою маму наш классный руководитель Татьяна Ивановна. – Новый директор – человек с амбициями, не может же она оставлять без последствий плоские остроты учеников. Так что ситуация серьезная. Действительно, для всех желающих мест не хватит, будет конкурс, где все зависит от успеваемости и общественной работы, а у Алеши, извините, ни того ни другого. Даже не знаю, что делать, хотя сыну вашему, разумеется, нужно в институт поступать. Но тут сами понимаете, если у директора предубеждение!
– Да это из фильма цитата, – завопил я, – комедия, «Кавказская пленница», там еще Шурик этот, в очках!
– Вот пойдешь в ПТУ, будет тебе комедия, – отрезала Татьяна Ивановна.
При слове «ПТУ» мама охнула и схватилась за сердце. Честно говоря, в ПТУ мне и самому как-то не сильно хотелось.
– Значит, так! – повернулась в мою сторону Татьяна Ивановна. – Списки девятиклассников директору подает классный руководитель в середине мая, и рядом с каждой фамилией нужно указать положительные качества кандидата. Скажи-ка, Алеша, у тебя какие достоинства, кроме того, что ты, хм… красавец?
– Я, – говорю, – Татьяна Ивановна, помимо того, что красавец, еще и по химии отличник, у меня весь класс контрольные сдувает. Успеваю четыре варианта за полчаса отщелкать. И что без такого красивого все будут на химии в девятом классе делать, ума не приложу!
Тут меня мама за рукав дернула.
– Химия. – Татьяна Ивановна задумалась. – Одной химии мало, нужно еще что-нибудь. Ведь ваш ансамбль на танцах играет, это раз! Так и напишем!
– Да какой ансамбль, Татьяна Ивановна, – пожал я плечами, – Вовка Антошин в ПТУ уходит, а Юрка Вагин с родителями в другой район переезжает. Так что все, нет уже никакого ансамбля, остались только мы с Лешкой Бакушевым!
Мама сделала страшные глаза и снова дернула меня за рукав.
– Ладно, это не важно, напишем, что ты в художественной самодеятельности активное участие принимаешь, – сказала Татьяна Ивановна. – Кстати, у нас же ветераны будут на День Победы из Людиновского подполья, вот вы им на концерте и сыграйте!
А у нас школа имени Алексея Шумавцова, героя-подпольщика из города Людиново, и ветераны подполья этого к нам каждый год приезжают, традиция такая.
– Значит, за вами выступление, а главное, назначу-ка я тебя командиром пятой трудовой четверти, – объявила Татьяна Ивановна. – Напишу, что у тебя авторитет среди учеников.
– Мечтаю, – я даже руку к сердцу приложил, – мечтаю, Татьяна Ивановна, стать авторитетным командиром-совхозником, может, агрономом потом заделаюсь в совхозе нашем.
И тогда мама дернула меня за рукав в третий раз.
Так я и попал на бескрайние поля совхоза под названием «Огородный гигант», правление которого находилось в небольшой избушке недалеко от метро.
Четыре года назад, когда мы с мамой переехали на Коломенскую, все дивились: вроде Москва, дома стоят высокие. А чуть к реке подойдешь – жизнь какая-то прямо деревенская. Пьяные компании с гармошкой орут «Арлекино», пацаны костры жгут на берегу Москвы-реки, моторки по реке плывут, тарахтят, а на другом берегу огромное стадо коров. Начали считать – шестьдесят три коровы насчитали.
Теперь мы на том берегу и работаем, где коровы пасутся. Нас туда на пароме с нашего берега возят вместе с совхозниками.
А концерт мы тогда с Лехой Бакушевым перед ветеранами здорово отыграли, сделал
Страница 9
попурри из военных песен и на две гитары разложили. Некоторые ветераны плакали, а одна тетка вся в орденах даже нас с Лехой расцеловала. Я играл, а сам все глазом на директрису косил. Вроде понравилось ей, сволочуге, а в конце хлопала вместе с остальными – вот она, волшебная сила искусства!Помимо тех незаурядных личностей, которых отобрали в девятый класс, с нами в совхозе человек десять дурачков добровольцев трудятся, те, что в техникумы и ПТУ собрались уходить. Им, судя по всему, делать не фига, так они с нами за компанию укроп пропалывают.
В первый же день один из этих добровольцев, Ленька Коршиков, подрался с паромщиком, и за это его с практики отчислили. Так он теперь нас до парома провожает, а после работы у пристани встречает. Ленька в нашу Татьяну Ивановну влюблен еще с пятого класса, поэтому, когда паромщик что-то там фамильярное позволил себе, тут же в лоб от Леньки и получил.
Сначала мы все пахали как заведенные, то есть стояли на карачках и дергали сорняки, а мордастые совхозные тетки на нас покрикивали. Потом народ, как всегда, расслабился и стал ходить с пятое на десятое, некоторые и вовсе с родителями на курорты разъехались. А я, как негр на плантации, каждый день с утра пораньше – на родные совхозные поля. Только мне одному нельзя ни сачковать, ни прогуливать. Только я за девятый класс отрабатываю.
И когда в пятницу нам объявили, что трудовая четверть закончена, я даже растерялся. Вроде бы цель достигнута, директриса про свой пушечный выстрел и не вспоминает, все одноклассники разъехались кто куда, а мне сказали, что теперь работа в совхозе – дело не просто бесплатное, а сугубо добровольное, но если вдруг захочется с понедельника дергать редиску – милости просим. Ну, тут уж пусть они в другом месте дураков поищут.
А я ведь каждое лето сначала в лагерь пионерский уезжал, а потом с мамой в Пущино-на-Оке. Но в этом году мы с ребятами еще зимой сговорились всем квартетом в один пионерский лагерь двинуть, к Халтурщику нашему.
Халтурщиком прозвали Михаила Николаевича, руководителя гитарного кружка при ЖЭКе, где мы четверо, Вовка Антошин, Лешка Бакушев, Юрка Вагин и я, короче, весь наш школьный ансамбль, занимались около года.
Хотя почему Халтурщик? Нормальный мужик, ноты модных песен приносил, шлягеры с нами разучивал, чаем с халвой угощал. Он еще по вечерам в клубе завода «Динамо» на танцах играл на бас-гитаре. Наверно, поэтому. Мы же дети, а дети все добрые.
Так вот, Михаил Николаевич еще до новогодних каникул пообещал, что в начале июня поедет музыкальным руководителем в лагерь один пионерский, где есть аппаратура настоящая. И если там играть будет некому, то он вызов сделает и путевки всем четверым.
Ведь мы даже и не мечтали на настоящей аппаратуре играть. По такому случаю не то что в незнакомый пионерлагерь, а к черту на рога можно было отправиться. Во всяком случае, мне так казалось. Поэтому я как ненормальный лета ждал, секунды считал. И когда июнь наступил, каждый вечер молчавший телефон взглядом гипнотизировал.
Первым откололся Юрка Вагин, он уже две недели как переехал в другой район, сообщив к тому же, что ему больше хочется с родителями куда-то на Украину на все лето махнуть.
Тут и Лешка Бакушев заявил, что скоро июль, а нам один хрен никто не звонит, поэтому он в «Звездочку» уезжает, куда всю жизнь они с братом ездили, у них отец полковник-ракетчик, и лагерь пионерский тоже ракетный. Взял и отчалил в «Звездочку» свою.
Ну и напоследок лучший мой друг, Вовка Антошин, на которого я больше всех рассчитывал, вдруг собрался в какую-то «Дружбу». Он там, в этой «Дружбе», уже год назад был, по блату. И, вернувшись, потом целый год с восторгом то время вспоминал. И даже блат мне показал у себя на дне рождения. Блатом оказался очень веселый, смуглый, кудрявый парень по имени Вадик, который всю дорогу ржал. Наверно, это здорово, когда у человека хорошее настроение, но меня почему-то постоянно подмывало ему по кумполу треснуть.
И когда в пятницу стало окончательно ясно, что можно сидеть у телефона хоть до зимы, но никакой Михаил Николаевич уже не позвонит, вот тогда я загрустил. Да и без ребят мне ехать уже никуда не хотелось. Понятно, что в том лагере нашлись другие гитаристы и барабанщики. Сейчас же каждый второй – Джими Хендрикс или, на худой конец, Ричи Блэкмор.
Поэтому, чем торчать в Москве и киснуть, решил я Вовку Антошина навестить. Прямо завтра и навестить, чего откладывать. Я в такой семье вырос, где откладывать надолго не привыкли. Если какая мысль кому в голову приходила, так ее сразу в жизнь и воплощали. Нет, могли, конечно, подождать, но не более пяти минут.
Вовкина мать дала адрес «Дружбы», рассказала, как и с какого вокзала ехать на электричке, как потом добираться автобусом.
– Мы ведь туда сами завтра поедем, – сообщила она, – тебя бы взяли с удовольствием, нам Ленку нужно отвезти, она у нас болела, только вчера поправилась. Но Маргарита Львовна, мама Вадика, как узнала, что мы на машине собрались, решила нам компанию составить, да
Страница 10
ще мужа своего прихватить. Так что, сам понимаешь, места нет. Маргарита, она дама крупная.– Честно говоря, напрасно ты едешь, – добавила тетя Валя. – Родительский день только в следующую субботу, нас-то с Маргаритой куда хочешь пропустят, а тебе Вовку, скорее всего, даже не позовут, так и будешь за забором весь день торчать.
Да ладно, думаю, уж я как-нибудь забор перелезу, не велика хитрость, главное – завтра Вовке сигарет купить.
С утра пораньше я двинул на Рижский вокзал, нашел там электричку в сторону Волоколамска и в дикой духоте и давке добрался до платформы Новоиерусалимская. Посмотрел расписание автобуса на столбе, зачем-то бумажку из кармана вытащил, чтобы свериться. Мне бумажки ни с телефонами, ни с адресами никогда нужны не были, я всегда и так запоминал. Но тут дело серьезное, поэтому все должно идти по правилам. Ну, как я и думал, нужный автобус почти через час отправится, а Вовкина мать сказала, что пешком идти, наверное, тоже с час. В общем, без разницы, что автобус ждать, что пешком чесать.
Я и пошагал. Хорошо на своих двоих идти. И покурить по дороге можно, и деньги сэкономить на проезде. Нашел поворот, где столб вкопан с указателем «Зеленый Курган», закурил «Приму» свою и двинул. Иду себе, птички поют, кузнечики стрекочут, а я курю, мечтаю: «Эх, Вовка, должно быть, сейчас обалдеет от моего визита, я бы уж точно обалдел, если бы он так ко мне в лагерь заявился!»
А дорога пустая, я и пошел прямо по шоссе, а не по обочине. И так резво шлепал, наверное, с полчаса, пока прямо передо мной не затормозила идущая навстречу знакомая машина со знакомыми номерами.
Я ее узнал бы из тысячи. «Жигули», «трешка» синего цвета, или, как поправлял все время Вовка, цвета «космос».
– Далеко ли собрался, Алексей Батькович?
Это Вовкин отец, Виктор Владимирович, или просто дядя Витя, вышел из машины и за руку со мной поздоровался.
– Да вот, – говорю, – хочу Вовку проведать, как он там, не загнулся ли еще на перловке в лагере своем.
– Понятно, – кивнул дядя Витя, – а чего пешком идешь, автобус же есть?
– А у меня, – отвечаю, – пешком быстрее получается, чем автобус ждать.
Про покурить я, разумеется, не стал говорить. Про то, что мы курим все почти год, никто из наших родителей не знал. Да и нечего их расстраивать, у них своих забот полон рот.
– Прыгай уж тогда в машину, на заднее сиденье устраивайся, да поедем.
На переднем сиденье сидел человек, и когда я залез в машину, он повернулся и стал меня разглядывать, причем один его глаз смотрел на меня, а другой куда-то в сторону. На нем был до ужаса грязный белый халат, и весь он был какой-то встрепанный, как воробей. Интересно, кто он такой? Ну точно, что не из знакомых дяди Вити.
– Ты кто такой? – вдруг скороговоркой произнес человек. – Ты пионер! И почему ты, пионер, ходишь по дороге? Хочешь, чтобы тебя из лагеря выгнали, а тебе это надо? Ступай обратно, тебе таки что, там плохо? Какой завтрак был, какой обед скоро будет!
– Да нет! – засмеялся дядя Витя. – Это не пионер, это моего сына товарищ, навестить его приехал.
– Не пионер? – изумился человек. – Как не пионер, почему не пионер?
Посмотрел еще некоторое время на меня одним глазом и, уже отвернувшись, укоризненно головой покачал, не представляя себе, как это можно не быть пионером, а просто ходить по дороге безо всякой пионерской цели.
Тут машина тронулась, и мы поехали к станции, то есть в противоположную от лагеря сторону.
Куда же меня везут, встревожился я, в Москву, что ли?
– Не волнуйся, сейчас одно дело сделаем, и я тебя в лагерь доставлю. – Дядя Витя мое замешательство в зеркало заднего вида увидел и подмигивает.
Какое же у него может быть дело с таким странным мужиком? Минуты через три мы подъехали к какому-то дому у станции, а человек в халате выскочил из машины и на бегу бросил: мол, никуда без меня не уезжайте.
– Кто это, – спрашиваю, – что за смешной дядька такой?
– Да завхоз из пионерлагеря, Генкин его фамилия. Попросил меня за хлебом съездить, – говорит дядя Витя. – Шофер лагерный сегодня поддал малость, вот Генкин стоял у ворот, караулил, а когда мы подъехали, то меня сразу захомутал. Так что будешь за грузчика, а я перекурю пока, да и радикулит мне в спину вступил, тяжести поднимать неохота.
Тут Генкин выскочил из дверей, схватил меня за руку, поволок в какую-то подсобку, и мы начали с ним лотки с хлебом таскать да в «Жигули» на заднее сиденье складывать.
Обратно мы домчались с ветерком да с музыкой, дядя Витя магнитолу врубил с Полем Мориа и прибавил газу. Как въехали через главные ворота, так до столовой и докатили. Это вам не через забор перелезать.
Генкин сразу свистнул каким-то бесхозным пионерам, и те моментально перетащили лотки с хлебом на кухню. Дядя Витя вышел из машины, захлопнул дверь, вытащил красивую зажигалку «Ронсон» из кармана джинсового батника, закурил, огляделся и говорит:
– Эх, хорошие тут места! Я прошлой зимой здесь две недели провел!
– Интересно, что вы забыли, Виктор Владимирович, зим
Страница 11
й в летнем пионерском лагере? Снежных баб, что ли, лепили? – спрашиваю, а сам горжусь собой: «Какой же я остроумный!»– Да зимой тут клиника, ну типа санаторий, так я в ней лежал, обследовался, да заодно и отдохнул, – объяснил дядя Витя. – Ладно, пойду скажу, чтобы Вовку нашли и к тебе привели, а заодно проверю, как там Ленка устроилась.
Ленка – это младшая Вовкина сестра, ей всего одиннадцать. И дядя Витя ушел, оставив меня караулить.
Какой-то, думаю, маленький этот лагерь, несолидный, вот я бывал в таких здоровых, что конца и края не видно.
Когда, два года назад, от завода ЗИЛ ездил, там только из нашего класса семь человек было. И одного одноклассника, Серегу Смирнова, за смену мы так и не нашли. Там больше сотни отрядов оказалось, да еще десять отрядов в спортлагере на той же территории, я как раз в нем и находился, мне в ту пору довелось спортсменом быть.
Похоже, «Дружба» эта от совсем уж маленькой организации, какой-нибудь картонажной фабрики или комбината бытовых услуг. Не успели мы от ворот пару сотен метров проехать, как вроде уже и конец, дальше дорога заканчивалась. А центральная аллея пионерского лагеря от завода ЗИЛ тянулась аж на четыре километра, с тайной гордостью за гигантский завод подумал я.
Тут, откуда ни возьмись, Вовка Антошин нарисовался, ткнул мне, не глядя, руку, как будто мы с ним десять минут тому назад расстались, оглянулся и спрашивает деловито, но негромко, чтобы не услышал никто:
– Сигареты привез?
– Да привез, привез тебе сигарет, – успокаиваю, – целых четыре пачки «Примы», купил утром на Рижском вокзале.
– Слушай, а что, с фильтром купить не мог, что ли? – недовольно нахмурился он, потом подумал-подумал и говорит: – Ладно, пошли к бревнышку, там и передашь «Приму» свою, а то здесь народу много, засекут.
– Ладно, – пожал я плечами, – как скажешь, пошли к бревнышку.
Иду, а сам думаю, надо же Вовка какой молодец, вроде как он мне одолжение делает, что сейчас у меня сигареты заберет. Хотя у Вовки так часто, потому как чужим вниманием избалован, привык, что центр вселенной, а так вообще он парень хороший, особенно с глазу на глаз.
Пока мы шли к этому бревнышку, с ним, наверное, с десяток человек поздоровалось, вот какой он тут человек известный.
Добрались до цели, и правда, в лесочке у забора пара бревен лежит. Судя по окуркам, самое злачное пионерское место.
Вовка быстро всю «Приму» по карманам рассовал, мы сели, закурили, он дым выдувает, молчит, задумался о чем-то. Потом докурил, посмотрел на меня и спрашивает:
– Леха, у тебя деньги есть?
А сам глядит с большим сомнением, так как по его масштабам денег у меня отродясь не водилось.
– Есть немного, пятьдесят копеек, – говорю, – а на фига тебе здесь деньги, в карты играть собрался?
– Сдурел? – хмыкнул он. – Какие карты, просто тут в деревне, рядом, в магазине, «Яблочко» продается по рубль тридцать две за бутылку клёвая вещь, пьется легче, чем портвейн, а кайф тот же. Сегодня хотели гонца послать, а денег не хватает, так что давай хоть полтинник свой.
– А как же я до дома доберусь, Володь? – спрашиваю. – Билет на электричку сорок копеек стоит, да еще на метро и на автобус по пятачку нужно, у меня же все рассчитано! Я пешком буду неделю обратно тащиться!
– Да не дрейфь, – Вовка мне снисходительно подмигнул, – я уже с отцом договорился насчет тебя, как король на тачке поедешь! Тебя прям к подъезду довезут! Место одно появилось в машине свободное, Ленка же в лагере остается, а ты вроде не толстый, должны все уместиться.
– В общем, да, за последние три дня, как мы с тобой не виделись, вроде не растолстел, – соглашаюсь. Конечно, если на машине, это другое дело, тем более что мы в одном дворе живем.
Ну, значит, отдал Вовке все деньги свои, мы опять закурили, тут-то он мне и говорит:
– У нас здесь в лагере, Леха, аппаратура офигительная, новая, пару недель как купленная, и я в ансамбле, который тут собрали, на басу играю, вчера первая репетиция уже была.
Я аж дымом поперхнулся.
– Да откуда она взялась, аппаратура эта? Тем более офигительная! Врешь, поди? Неужто не хуже, чем та, что в ГУМе?
– Да все, что продается в ГУМе твоем, – говно полное, такой аппарат, как у нас, только у профессионалов! – важно отвечает Вовка. – На это дело целых сорок тыщ жахнули, не поскупились, а та рухлядь, что мы с тобой видели, лишь для сельских танцев сгодиться может.
Тут мне немного обидно стало, ведь мы с ним столько вечеров потратили на то, что просто ездили по Москве в те немногие магазины, где продавались гитары, усилители, колонки. Стояли молча у прилавка и вздыхали, разглядывая это. Иногда нам везло, какой-нибудь счастливчик покупал себе электрогитару, и ее проверяли, втыкали в усилитель, и сначала продавец, а потом и покупатель пробовали играть, с умным видом обсуждая детали, а мы как завороженные слушали.
Потому что у нашего ансамбля только и было что раздолбанный ударник-тройник, два слабеньких усилка по тридцать рублей, на которые все три восьмых класса по полт
Страница 12
ннику сбросились, и обычные деревянные гитары со звукоснимателями.Нас однажды чуть было не прирезали, когда мы вечером по осени возвращались из ГУМа через Александровский сад. Я больше всего именно музыкальную секцию ГУМа любил. Там гитары на стене висели близко к прилавку, и когда продавец отворачивался, можно было гитару погладить или за струну тихонько пальцем подцепить.
И когда мы к арке под Троицким мостом проходили и до входа в метро оставалась сотня метров, тут нас и встретили. Их было человек семь-восемь, много старше нас, по виду подмосковная урла, все в кирзачах и тельняшках под расстегнутыми ватниками. После того как они нас быстренько в кружок взяли, один из них, видимо, главный, во время традиционного осведомления насчет бабок нож вытащил и Вовке прямо к животу приставил. Я, помню, даже испугаться не успел, а от возмущения чуть не задохнулся. Потому что жил неподалеку, на улице Грановского, у бабушки с дедушкой, и знал, как эти места охраняют и милиция, и те другие, в штатском.
Похоже, эти совсем уж залетные были, если у стен Кремля на гоп-стоп решились. И от понимания того, что все они дебилы конченые, я их совсем не испугался. А просто одной рукой отвел нож, к Вовкиному пузу приставленный, а другой круг этих придурков раздвинул, сам протиснулся, еще и Вовку пропихнул, и мы пошли себе, нам даже вслед никто ничего не вякнул. Они, скорее всего, не ожидали такой реакции и оторопели от нашей наглости. А я в тот вечер у Вовки ночевать остался, отец у него в очередном рейсе был, и мы до полуночи не спали, болтали о разном. У нас после пережитого вроде как братские чувства друг к другу возникли.
Так что можно сказать, мы от своей любви к гитарам чуть с жизнью не расстались, а теперь Вовка так презрительно об этом говорит, называя все то, на чем мы тогда почти свихнулись, полным говном. Да и вижу, он мне и не рад особенно, так, приехал, сигареты привез, деньги дал, могу и отваливать.
– Ну а гитары-то у вас какие? – чтобы как-то поддержать беседу, спрашиваю, хотя знаю, что обязательно приврет.
– Гитары наши, – говорит, – это вообще полный финиш, все импортные, даже двенадцатиструнка есть. Я же тебе говорю, мы таких и в руках никогда не держали, и близко не видели. Здесь гитар целых два комплекта. На одних репетируем, на других на танцах играть будем.
– Значит, у тебя, Вовка, две импортных бас-гитары? – не сдаюсь я.
Эх, чувствую, заливает он, конечно, быть такого не может. Мне даже легче стало.
– И что, можно на все это богатство ваше посмотреть? – Подмигиваю, а сам понимаю, что сейчас он какой-нибудь предлог придумает, чтобы отмазаться, и на этом проколется.
Но Вовка вдруг так легко говорит:
– Да не вопрос. Пойдем посмотрим.
Окурок щелчком отбросил, не спеша с бревнышка встал, джинсы свои фирменные тщательно отряхнул и пошел не оборачиваясь. Когда мы танцплощадку проходили, что к клубу пристроена была, он небрежно через плечо обронил, мол, через пару дней здесь на танцах шороху дадим.
Но на дверях клуба здоровый амбарный замок висел, Вовка задумчиво его в ладони покачал и вздохнул:
– Ну, значит, не судьба!
Да, конечно, трепач ты, Вова, дешевый! Два комплекта гитар, профессиональная аппаратура, в такой дыре, конечно, ага! Сейчас все ему скажу, чего мне стесняться!
Тут он куда-то в сторону поглядел и вдруг улыбнулся:
– Ага, вот Юрка Гончаров идет, он нам клуб и откроет!
В самом деле по тропинке к клубу направлялись двое взрослых парней с микрофонными стойками в руках, один нес три стойки, второй две. И кто, интересно, из них Юрка Гончаров? Наверно, тот, который три стойки тащит! И точно, Вовка тут как раз у него спрашивает:
– Ого, Юр, какие стойки фирменные, откуда?
– Да их нам на время из Москвы привезли, – отвечает Юра. – Это институтские стойки, лето кончится – отдадим.
Я, разумеется, не понял, что за «институтские» стойки, а Антошин закивал с умным видом. Пока Юра по карманам шарил, ключ искал, Вовка ему и говорит, что товарищ из Москвы приехал, хочет на аппаратуру взглянуть, можно ли?
– А отчего же нельзя? – удивился Юра. – Такое не грех и показать.
И даже всучил мне одну из стоек. Тут дверь наконец открыли, и мы вошли.
– Борька, включи свет, ни хрена не видно, сейчас все ноги поломаем, – сказал Юра.
Второй парень, который оказался Борей, залез куда-то на сцену и там рубильником щелкнул. Загорелись большие плафоны, мы по лесенке вошли на сцену, где оказалась еще одна дверь, обитая цинковым листом.
Юра опять долго рылся в карманах, наконец нашел и от этой двери ключ, вставил в замочную скважину, два раза провернул, потом плечом на дверь налег – она тяжело открывалась – и вошел внутрь. Там тоже пришлось включить рубильник, но Юра продолжал стоять в дверях, и мне за его спиной ничего не было видно. Но тут он отодвинулся и объявил радостно:
– Вперед, заходите!
И я зашел первый за ним…
Наверное, так чувствовал себя Али-Баба в разбойничьей пещере или граф Монте-Кристо, когда нашел сокровища кардинала Спада. Ошеломляюще
Страница 13
чувство восторга от увиденного усиливалось пониманием того, что все это никогда не будет моим даже на время.Что и говорить, прав был Вовка Антошин: ничего мы такого не видели с ним раньше и близко, а тем более, уж конечно, не держали в руках.
Отсвечивали хромом усилители, блестели темным лаком колонки, сверкали медью тарелки, отливала перламутровой зеленью отделка барабанов, стояли в ряд педали для электронных эффектов. Да сколько же тут всего! Я даже задохнулся от восторга!
Но главное лежало в метре от меня на сдвинутых колонках. Там была гитара – именно такая, как я себе представлял МОЮ гитару! У нее было все как в самых смелых мечтах. И три звукоснимателя, и стальной, плавно загнутый вибратор, и тонкий гриф с односторонними колками, да и цвет мне очень нравился, такой от темно-красного до черного.
А еще от всего изобилия, стоящего в этой комнате, исходил удивительно сильный и приятный запах, так может пахнуть, наверное, лишь мечта…
– Ну чего застыл? Понравилось? – раздался откуда-то издалека Вовкин голос, который вывел меня из оцепенения.
Стоит очень довольный и собой, и произведенным эффектом. А я и ответить в тот момент ничего не мог, только молча глазел на все великолепие, в два яруса сложенное в клубной подсобке. А палочек-то барабанных, а медиаторов, а микрофонов!
И как я себе представил, что придется уезжать от этого фантастического зрелища, то такая тоска меня взяла, хоть вешайся! Я даже попросить гитару стеснялся. Тем более с моими-то руками сейчас не на такой сумасшедшей красоты гитаре играть, а продолжать в совхозе «Огородный гигант» редиску дергать!
– А ты сам-то на гитаре играешь? – будто услышав меня, спросил этот Юрка Гончаров.
И я было приготовился что-то промямлить, потому что игра моя на фоне таких сокровищ, конечно, лажа полная, как вдруг случилась удивительная вещь.
– Да он вообще чумовой соло-гитарист, – вдруг объявил Вовка, – он ОЧЕНЬ хорошо играет, быстро, за ним и угнаться никто не может! Ты, Юрка, не обижайся, но мне кажется, у него даже ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ТЕБЯ, получается!
Ох, и ни фига себе! Что происходит? С чего бы ему про меня такие вещи говорить, у нас ведь совсем по-другому заведено!
Потому что все только и делают, что Вовку нахваливают, а он снисходительно эти восторги принимает. А тут, пожалуй, первый раз в жизни он так прилюдно про меня и такое, ну дела!
– Так нам же соло-гитарист позарез и нужен! Володь, мы же только вчера говорили, что играть некому на соло-гитаре! Что ты раньше-то молчал? Если у тебя товарищ такой, ему путевку сделать можно было, – сказал Юрка.
Ну а теперь Вовка в своем репертуаре: стоит, плечами пожимает, мол, я и забыл, что какой-то соло-гитарист нужен, подумаешь, всего ж не упомнишь.
Не надо, не надо было Юрке при мне про путевку говорить! Оказывается, я мог в этот лагерь поехать, в ансамбле бы играл, да еще в одном отряде с Вовкой был бы!
– А сейчас, сейчас нельзя, чтобы вот… путевку? – пролепетал я дрожащим голосом, а сам думаю: да конечно нельзя, какая там путевка, смена уже началась, поезд ушел, дорогой товарищ.
– Тебя как зовут? – спрашивает Юрка Гончаров, а я от переживаний никак не могу сообразить, как же меня зовут.
– Его Леша зовут, Леша Мотор! – снова Вовка пришел мне на помощь.
– Мотор? – удивился Юрка. – Смешная какая фамилия у тебя, Леша!
Тут Вовка опять за меня говорит, что Мотор никакая не фамилия, а фамилия Моторов, а Мотор – это, значит, кличка такая.
– Тебе бы, Леша, Калмановича насчет путевки поспрашивать, – говорит Юрка. – Его мать сегодня в лагере, она по путевкам главная.
– Точно, – говорит Вовка, – нужно Калмановича найти. Стой здесь, никуда не уходи, я за ним сбегаю.
Взял и правда убежал.
Не устаю на Вовку удивляться: взял и из-за меня побежал! Да, сегодня день какой-то уж совсем необыкновенный!
– Все, мужики, пошли на улицу, пора к обеду готовиться. Закрывай лавочку, Борька, – сказал Юра и ключи тому протянул.
Все дружно двинулись на выход, а я немного отстал и у всех за спиной осторожно гитару пальцем за первую струну подцепил и прислушался. И она мне тихонько ответила…
Калмановичем оказался тот самый Вадик, который был тогда у Вовки на дне рождения, только там он, видимо, себя в незнакомой компании чувствовал скованно, а здесь уж точно нет.
– Ну, давай, что ли, закурим, – говорит Вадик, имея в виду, конечно, мои сигареты. – Слышал, тебе надоело одному в Москве бухать? И правильно, бухать нужно на лоне природы и под строгим надзором, а то мало ли чего, правильно, Генкин?
Произнеся это все, Вадик сразу заржал.
Ага, значит, тот молчаливый крупный полный парень по имени Борис тоже Генкин, наверное, родственник тому завхозу, с которым я сегодня за грузчика работал.
– Ладно, пойдем маман мою поищем, пора из тебя человека делать, – опять рассмеялся Вадик. – Будешь на линейку ходить, по столовой дежурить, за водкой бегать!
Тут уже все закатились, и даже Боря Генкин.
Маму Вадика Калмановича, Маргариту Львовну, мы нашли недалеко от клуба.
Страница 14
Это была крупная женщина с фиолетовыми волосами и с какими-то, как и у Вадика, негритянскими чертами лица. Она прогуливалась по аллее рядом с крепким широкоплечим мужиком, о чем-то с ним переговариваясь. Немного в стороне стояли Вовкины родители, мы к ним и подошли.– Сейчас поедем, – говорит дядя Витя. – Нужно еще Маргариту домой завезти, машину на стоянку поставить и к футболу успеть. А вы чего от Маргариты-то хотите, признавайтесь, что задумали?
– Да вот, – отвечает Вовка, – Леха в лагерь намылился, хочет в ансамбле играть, так мы ее решили попросить.
– Ну что же, дело хорошее, – улыбнулся Вовкин отец. – Попросите, а я рядом постою, для страховки!
Тут и Маргарита Львовна подошла к нам: что, мол, поедем уже? И Вадика своего по головке погладила:
– Поедем мы, сынуль, веди себя хорошо.
А Вадик захихикал и говорит, что Леша тебе кой-чего сказать хочет, и меня к своей маме в спину подтолкнул.
– Слушаю тебя внимательно, лапочка! О чем ты меня хочешь спросить?
Маргарита так строго это слово «лапочка» произнесла, что у меня опять язык отсох.
– Так я… мне бы путевку., на гитаре… – пролепетал я, а Вадик тут же закатился.
– Скажи-ка, лапочка, у тебя родители в нашем институте работают? – спрашивает меня Маргарита.
– В каком нашем институте? – не понял я. При чем тут какой-то «наш институт»?
– Да ты с луны, что ли, свалился? – возмутилась она. – Наш институт – это Первый медицинский институт, лапочка, стыдно не знать! И лагерь от этого же института. А у тебя родители-то врачи?
– Нет, – говорю, – не врачи.
Ну, все, похоже, пролетел я с путевкой. Понятно, здесь нужно иметь родителей-врачей, чтобы в лагерь этот поехать.
– Не врачи? А кто? – продолжает Маргарита Львовна. – Кто родители-то твои?
– Химики, – развел я руками, – и мама химик, да и отец тоже.
А Вадик от такого известия так развеселился, что даже захрюкал. Вот черт, угораздило же меня с родителями, неужели трудно им было врачами стать, я бы сейчас без проблем на такой чудесной гитаре играл…
– Не у нас на кафедре работают? – опять Маргарита Львовна допытывается.
– Нет, – отвечаю, – не у вас.
Тут Маргарита замолчала, посмотрела на дядю Витю, потом опять на меня.
– И что же мне с тобой прикажешь делать, лапочка? Нужно подумать!
Сердце у меня вспорхнуло, как потревоженный воробей. Подумайте, конечно, подумайте, дайте мне путевку, я хороший, я каждый день буду по столовой дежурить, я даже курить брошу, только дайте мне хоть иногда на той гитаре играть!
Видимо, Маргарита что-то почувствовала. Посмотрела на Вовкиного отца и говорит:
– Ладно, пойду с Мэлсом поговорю.
И отправилась снова к тому широкоплечему мужику, с которым пять минут назад под руку прогуливалась.
Вернулась буквально через минуту и говорит, что нормально, есть еще свободные койки в первом отряде, но нужно торопиться, пока кто-нибудь умный их не занял.
Как же мне хотелось прыгать, орать, петь от счастья, расцеловать всех, включая Вадика, но я неимоверным усилием воли сдержался.
– А как зовут начальника лагеря? – тем временем спрашивает Вовкина мама. – Что-то я не расслышала.
– Его Мэлс зовут, то есть – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. – Пояснила Маргарита Львовна. – Так его мама с папой назвали, он, наверное, до сих пор им спасибо говорит.
Все сразу понимающе засмеялись, ну и, конечно, Вадик громче всех.
– Слушай меня, лапочка! – строго сказала Маргарита. – Сегодня суббота, завтра воскресенье. В понедельник делай что хочешь, но до обеда возьми в поликлинике справку, называется 286-я форма. И с этой справкой не позднее пяти часов подъедешь в здание профкома на Большой Пироговке, знаешь, где это?
– Нет, – честно признался я, – но я найду, Маргарита Львовна, найду эту Большую Пироговку, язык до Киева доведет.
– Горе ты мое! – вздохнула она. – Пироговку не знает!
А Вадик присвистнул и пальцем у виска покрутил. Видимо, совсем уж неприлично не знать эту самую Пироговку.
– Значит, так! – терпеливо стала объяснять мне Маргарита Львовна. – Доедешь до «Кропоткинской», а там на пятом или пятнадцатом троллейбусе до остановки «Трубецкая», где за ректоратом, в деревянной избушке, профком и найдешь. Спросишь Александру Мартыновну, я ей позвоню сегодня, скажешь, что от меня. Отдашь ей за путевку двенадцать рублей, да смотри, справку, ради бога, не забудь, и во вторник милости прошу в лагерь, только пусть тебя кто-нибудь из родителей привезет.
А перед тем как мы сели в машину, Вовка отозвал меня в сторону и наказал привезти сигарет и, по возможности, денег.
Кто шагает дружно в ряд?
Так или иначе, но во вторник я бодрым шагом, насколько позволял мне тяжелый чемодан, направлялся пешком от станции Новоиерусалимская в пионерский лагерь «Дружба» от Первого медицинского института.
Естественно, меня никто не провожал, да мне это и ни к чему, потому как и не покурить в дороге, да и вообще я ведь теперь взрослый, мне через десять дней уже пятнадцать стукнет.
Самое главное – я успел утром переложить в с
Страница 15
бранный накануне чемодан шестьдесят пачек «Примы», купленных мною вечером понедельника в магазине «Военторг» и спрятанных под диваном. Наскоро попрощавшись с мамой, я вывалился с чемоданом на автобусную остановку, полную народа.– Леха! Ты куда намылился с чемоданом? Тебя что, из дома выгнали? – Это мой одноклассник Витька Ципкин с балкона орет.
Люди на остановке внимательно стали оглядывать меня и мой чемодан.
– Да нет, я в лагерь уезжаю, в пионерский, – кричу я Витьке, – в ансамбле буду на гитаре играть!
– А тебя Агафон вчера весь день искал, сказал, если найдет, то изувечит! – весело продолжал орать Витька. Народ на остановке стал смотреть на меня с еще большим интересом.
– Пусть меня поймает сначала! – так же весело закончил я разговор, потому что уже подошел автобус и нужно было втискиваться в него с чемоданом.
Мой сосед по дому Агафонов Сережа, по кличке Агафон, был лет на пять меня старше. Пришел тут из армии на побывку и давай кругом свои порядки армейские устанавливать, чтобы, значит, все честь ему отдавали. Дошла очередь и до меня. Мы вечером на прошлой неделе в беседке детского сада сидели, я, как всегда, на гитаре тренькал. Тут и появился Агафон, здорово поддатый, и с ходу начал требовать, чтобы я перед ним встал и взял под козырек. Вокруг меня девочки, ну я ему и сказал пару слов. А он, хоть и бухой был, но запомнил. Так, значит, вовремя я в лагерь уезжаю!
Спустя несколько лет с Агафоном произошел весьма любопытный случай. Он сидел у себя дома на кухне и, расположившись за столом, занимался тем, что по своему обыкновению пил водку, запивая пивом. И только он взял паузу для перекура, как вдруг его старшая сестра вернулась с работы, вошла на кухню, полюбовалась натюрмортом и говорит:
– Кончай тут за столом дымить, дома и так дышать нечем, лето на дворе, ступай на балкон!
А жили они на двенадцатом этаже. И вот Сережа Агафонов встал, отодвинул табурет и решительно отправился курить на свежий воздух. Видимо, он не затормозил в нужный момент, потому как перекувырнулся через балконные перила и вывалился. И все это на глазах у сестры.
Но каким-то непостижимым образом он упал не на газон, а к соседям, что жили этажом ниже. Соседи, которые мирно ужинали и смотрели увлекательный телефильм «Следствие ведут знатоки», немало подивились, откуда у них на балконе взялся Агафон, да к тому же переколотивший им все банки с огурцами.
Не удивился лишь Агафон. Он нетвердой походкой прошел через кухню в прихожую и ретировался из соседской квартиры. Когда ему удалось своими ключами открыть дверь, то дома на кухне он обнаружил свою сестру в состоянии полной невменяемости.
Еще бы! Только что ее ненаглядный брат Сережа свалился с двенадцатого этажа. Вот она сидела на табуретке и отрешенным взглядом смотрела на опустевший балкон. А братец, живой и невредимый, подошел к ней сзади да еще по плечу похлопал.
После чего Серега Агафонов надолго стал местным героем.
А мой одноклассник Витька Ципкин всего через год станет папой, но сейчас ни он, ни я об этом даже не догадываемся.
Как и три дня назад, мне стало неохота ждать на станции автобуса – еще бы, ведь меня в лагере МОЯ гитара дожидается! Я и рванул с места в карьер, но минут через десять уже выдохся. А коварный автобус еще меня и обогнал на полпути.
Да, думаю, что-то я погорячился. Устроил себе кросс по пересеченной местности с чемоданом!
Все чаще и чаще стал останавливаться, чтобы передохнуть.
Ну, вот и лагерь, с дороги видно мачту с флагом на линейке, последний перекур – и все!
Тут я услышал какие-то заполошные крики и посмотрел, откуда же они доносятся.
Недалеко от главных ворот оказался небольшой прудик, и в этом пруду плескались парень и девушка, это они весело и задорно кричали – в основном девушка. Тут парень поднырнул и что-то там сделал такое, отчего девушка стала вопить еще громче. Парень в два гребка добрался до берега, вылез из пруда, размахивая чем-то пестрым. Я, вытянув шею, стал наблюдать, уж больно интересно мне стало, что же они там делают.
– Отдай, Эдик, отдай, придурок, пионеры же увидят, идиот!!! – надрывалась девушка, стоя по шею в воде.
– Пусть смотрят! – засмеялся этот Эдик. – Нам от пионеров скрывать нечего! Пионеры – наша боевая смена! Тебе есть что пионерам показать!!!
Быстро натянув шорты и надев шлепанцы, он подбежал к кустам и повесил там то, чем так победно размахивал над головой. Я пригляделся и увидел, что это лифчик от купальника.
После чего Эдик добежал до ворот лагеря и был таков.
Девушку я почти не разглядел, она стояла ко мне спиной, одна голова над водой виднелась.
А парня я хорошо рассмотрел и запомнил. Я на него потом буду каждый день натыкаться.
Это был вожатый четвертого отряда Эдик Зуев.
У главных ворот меня встречали. Да, меня встречали, как это ни удивительно. Три девочки и пацан, все примерно мои ровесники, ну, может быть, кто-то на год помладше.
– Ждем, с самого утра ждем! – весело сказала одна из девчонок, а остальные согласно закивали,
Страница 16
олько парень, сохраняя независимость, тренькал очень фальшиво на гитаре и смотрел куда-то мимо.– Тебя ведь Леша зовут! – продолжила все так же весело девчонка, а остальные опять закивали, не давая мне возможности отрицать сей очевидный факт. Ох, ничего себе, вот она, слава, впереди меня бежит!
– Нас Володя Антошин тебя встретить велел, сказал, что если парень с чемоданом явится, в джинсовой куртке с вышивкой, то это точно будет Леша Мотор!
Ну да, точно, на мне моя куртка джинсовая от того польского костюма, который удалось у дяди Вовы выклянчить. Я этот костюм третий год таскаю, джинсы износил, куртку еще нет, а вышивку эту мне совсем недавно одноклассница сделала между экзаменами.
– Сначала сходи в изолятор покажись, так все новенькие делают, а потом в корпусе устраивайся, тебе там Вовка с Вадимом койку застолбили, а меня, кстати, Викой зовут, – продолжает девчонка.
– А меня Леша, – отвечаю.
Тут все засмеялись, кроме парня, и уже хором:
– Да мы же сказали, что знаем, как тебя зовут, ты ведь на гитаре в ансамбле приехал играть, поэтому ждем не дождемся, когда тебя услышим!
Похоже, Вовка всем про меня рассказал, такую рекламу сделал. Да что это с ним, наверное, сигареты ждет, не иначе! Вот как найдут сейчас полчемодана сигарет, будет мне ансамбль!
– Так, Белый, – скомандовала Вика, – проводи Лешу в изолятор, и хватит тут при нем бренчать, не позорься!
И остальные согласно зашумели, мол, и правда, чего позоришься, не видишь разве, что тут виртуоз с чемоданом стоит!
– Да ладно, ладно! – неохотно встал со стула этот Белый. – Ишь, раскудахтались!
А девчонки, вместо того чтобы возмутиться, весело рассмеялись.
Какие-то здесь у них отношения особенные, хорошие, у нас в классе совсем не так.
И вообще странно все пока, они же, должно быть, дежурные на главных воротах, а значит, обязаны стоять у этих самых ворот в белых рубашках, в красных галстуках и каждому встречному-поперечному салют отдавать. А тут все одеты кто во что горазд, а галстук, тот вообще лишь один на четверых, у Белого, да и то такого вида, будто его год не гладили и не стирали.
Белый закинул гитару за плечо, и мы отправились в изолятор. По дороге он сообщил, что Белый – это от фамилии Беляев, что я его, если угодно, могу звать Сашей, Шуриком или, как все, Белым. Ну а Вовка меня не встречает, так как начался конкурс песни и он там выступать должен.
Тут мы уже к изолятору подошли.
– Ты постереги мой чемодан, Шурик, – попросил я.
Не хватало еще, если прямо сейчас в изоляторе досмотр вещей сделают и мою «Приму» найдут. Мало ли какие у них тут порядки, в «Дружбе». Все-таки от медицинского института лагерь, не шутки.
Но никакого желания рыться в чемодане докторша не изъявила, так, пару вопросов задала, путевку у меня забрала, ну и на вшивость проверила, в буквальном смысле.
И пошли мы с Сашей Беляевым в корпус, где меня забронированная койка ждала. Саша успел мне рассказать, что вожатые у нас на отряде хорошие, Ирка с Володей, особенно Володя классный.
– Ну, ты и сам все поймешь со временем, – добавил Белый, – таких людей не часто встретишь, как наш Володя Чубаровский.
А что таких людей, как Саша Беляев, тоже не часто встретишь, это я понял почти сразу.
Саша Беляев был ярко выраженным пионером-вундеркиндом. В то время ему только исполнилось четырнадцать, и он закончил седьмой класс.
Он бегло болтал по-английски, обсуждал какие-то неведомые книги, объяснял другим пионерам разницу между преждевременной эякуляцией и эректильной дисфункцией и декламировал стихи Бродского.
Но самое главное, Саша Беляев был настоящим художником, он потрясающе рисовал.
В дружбинскую историю Белый попал навечно, окрестив станцию Новоиерусалимская Доусоном.
Замызганную подмосковную платформу с кафе-тошниловкой «Ветерок», где портвейн «Иверия» в розлив под яйца вкрутую, он назвал именем легендарного поселка старателей Клондайка. И многие поколения после нас продолжали свои набеги на Доусон, ощущая себя героями Джека Лондона.
Мое бесконечное уважение Саша Беляев завоевал после одного случая.
У нас пионервожатой в одном из младших отрядов была Чика, Маринка Чикина, симпатичная девушка отчетливых форм.
Однажды Белый подошел к ней, долго переминался с ноги на ногу, смотрел на нее как-то грустно, а потом и говорит:
– Можно ли тебе, Марина, задать деликатный вопрос?
– Да, Саша, ну чего тебе, говори, – нетерпеливо ответила Чика, а она торопилась куда-то.
– Марина, скажи, пожалуйста, – спросил очень печально Саша, – а тебе бюстгальтер не жмет?
Мы прошли в абсолютно пустой корпус, где на втором этаже находились спальни нашего первого отряда.
– Вот и койка твоя, – показал мне на кровать у двери Саша Беляев, – а та, через проход, – моя, так что соседями будем. А теперь пошли на конкурс песни, там и своего Антошина увидишь. Он, кстати, один из главных исполнителей!
На той самой танцплощадке при клубе, которую я еще в субботу приметил, собралась тьма народа, судя по всему, весь лагерь.
Страница 17
Пищали малыши-октябрята, пихались мелкие пионеры, пионеры постарше сохраняли достоинство, лишь иногда позволяли себе невинные шалости, вроде запустить во впереди сидящего конфетным фантиком. Вожатые, совсем молодые парни и девушки, урезонивали свои отряды, а чуть в сторонке, судя по отсутствию пионерских галстуков, расположились прочие сотрудники лагеря.Я нашел свободное местечко, сижу, жду, а сам думаю, что знаю я все эти конкурсы песни, друг на друга похожие. Сейчас начнется «Орленок, орленок, взлети выше солнца» или, в крайнем случае, «Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень».
В свои неполные пятнадцать лет я был опытным пионером, то есть человеком, который совершил более двадцати лагерных ходок. А в первый раз мне вообще всего шесть было, еще в школу не ходил. Потому как очередные семейные сложности и сидеть со мной некому, а добровольно я ни за что бы не поехал. Меня каждое лето запихивали в разные пионерлагеря, иногда на все три смены, и всякий раз я отправлялся туда как на каторгу.
Как-то и вспомнить об этих лагерях особо нечего. Разве что моего друга Мишу Кукушкина, как он меня десятилетнего учил курить махорку, которую спер у нашего художника. Мишка ловко сворачивал самокрутки, потом по приставной лестнице лазил прикуривать на чердак клуба, где он под потолком, за неимением спичек, развесил на продольной балке длинную веревку, запалив ее с одного конца. Веревка так тлела неделю, если не больше. Я курил, кашлял, и мы оба смеялись. Или как в том же году наш пионервожатый Саша вдруг предложил мне и еще троим пацанам из отряда сходить с ним за грибами и мы набрали их центнер, а вечером повара нажарили нам целый противень.
И только недавно я начал какое-то подобие удовольствия получать от всей этой лагерной жизни, вот, например, в спортлагере два года назад. Там, конечно, было здорово. Жили мы не в корпусах, а в палатках, откармливали нас как поросят, все пацаны из нашей палатки быстро стали моими друзьями, а я каждую ночь пересказывал им детективы, которых помнил целую кучу. У меня всегда память хорошая была. Правда, часто оказывалось, что я рассказывал эти страшные истории самому себе, потому что остальные к тому времени дрыхли без задних ног.
А в основном нас вечно мучили всякими смотрами строя, смотрами песни, пионерскими вахтами, встречами с ветеранами, приездами шефов, спартакиадами, возложением цветов к памятникам и разными конкурсами. Кроме того, нужно было фигурно заправлять койку, при виде вожатых вскидывать руку в салюте, а в «Орленке», куда я ездил до пятого класса, пионеры, по замыслу начальника, должны были ходить всю смену исключительно в белых рубашках и галстуках. И при появлении начальника лагеря по фамилии Каютов истошно голосить, типа:
Раз-два, три-четыре,
Три-четыре, раз-два!
Кто шагает дружно в ряд?
Это смена комсомола,
Юных ленинцев отряд!
Начальнику очень нравилось такое проявление пионерского задора. На перекрестке у лагеря стоял одинокий синий щит с надписью: «П/л „Орленок“». А снизу кто-то приписал белой краской:
каютов – идиот!
Вот и теперь я приготовился услышать что-то из стандартно тоскливого, до тошноты, пионерского песенного набора.
Тут кто-то вышел и объявил, что финальным в конкурсе песни будет выступление первого отряда. Все радостно захлопали, и я в том числе.
Первый отряд показался буквально через минуту, постепенно выползая из боковой двери. На всех пионерах были белые халаты, причем не то что не по росту, это мало сказать, а размеров этак на пять больше, чем нужно. У некоторых, самых мелких, халаты волочились, как шлейф, по земле, подметая сцену.
Привидения изображают, догадался я и приготовился было заржать, но, увидев очень серьезные лица зрителей, передумал.
Я даже Вовку Антошина в халате узнал не сразу, а только тогда, когда он с каким-то длинноволосым парнем выбрался из общей кучи и они с гитарами наперевес подошли к краю сцены. Я, чтобы он заметил, стал на месте подскакивать, и рукой помахал. Тут Вовка на меня посмотрел и кивнул так сдержанно, что, мол, узнал тебя, не суетись, а сам принялся гитару подстраивать.
Наконец он подмигнул своему напарнику, и они заиграли какое-то очень веселое вступление, типа «Поспели вишни в саду у дяди Вани!».
И весь отряд дружно подхватил:
Наш медицинский институт
Ругают там, ругают тут,
Что, дескать, техникой живем
И вас, врачей, не признаем.
Не словом, делом вам ответим,
Когда появится больной,
Первый, второй и третий
Четвертый, пятый и шестой!
По реакции зрителей стало понятно, что это какая-то очень знакомая песня, и пионеры с вожатыми, и обслуживающий персонал – все дружно улыбались, а многие подпевали. В конце, когда были слова про то, что тебя куда-то пошлют, далеко на север, но ты в таежном лазарете вспомнишь, как тебе было когда-то весело с первого по шестой курс, почти все встали. А тот мужик, начальник лагеря, который Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, встал первым и хлопал потом дольше всех.
Какая интерес
Страница 18
ая песня, и почему здесь ее все распевают, даже малыши, а я впервые слышу? Мне тогда был еще незнаком этот шутливый гимн Первого медицинского института. Как оказалось, существовал еще гимн, серьезный, но его я услышал чуть позже.Ну а когда овации стихли, Вовка с тем волосатым парнем переглянулись и после короткого вступления другую песню начали. Я сначала ушам своим не поверил, когда они запели уже без отрядного хора, а так, дуэтом.
Лица стерты, краски тусклы —
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень – на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Ничего себе, это же знаменитые «Марионетки», песня подпольной группы «Машина времени»! И где? На конкурсе песни в пионерском лагере! Ну, сейчас их уроют, как пить дать, у нас в школе даже на танцах директриса запрещала подобное играть.
Я осторожно взглянул на начальника лагеря, на Мэлса этого, но тот продолжал как ни в чем не бывало улыбаться и кивать головой в такт музыке.
Эх! Да мне тут с каждой минутой все больше и больше нравится, я точно сюда не зря приехал!
Ну все, последний аккорд взят, и долгие, как писали в газетах, продолжительные аплодисменты. Вовка спрыгнул со сцены и протиснулся ко мне.
– Вот познакомься, – говорит и на того парня показывает, с которым «Марионеток» дуэтом исполнял. – Это Балаган, а это, – продолжает он, – тот самый Леша Мотор, который и будет нашим соло-гитаристом.
– А когда, – спрашиваю, – играть-то будем, может, прямо сейчас и начнем?
Вовка со смешком Балагану говорит:
– Лехе-то неймется, у него с субботы руки чешутся! Репетиция после тихого часа, так что терпи!
– Пошли лучше, – говорит этот Балаган, – перекурим, а то обед скоро, а мы весь день сегодня фигней маемся, придумали тоже конкурс, не выпить, не покурить!
Мне он сразу понравился, веселый, с юмором. А Антошин, как узнал по дороге, что я кучу сигарет притаранил, тоже веселый стал.
– Живем! – Вовка даже руки потер. – Живем, Балаган, хватит уже бычки подбирать!
А я что, я ничего, мне не жалко!
– Давай, – говорит, – сразу сигареты перепрячем, пока их у тебя из чемодана не сперли. Отнесем Генкину, у него надежно, как в швейцарском банке, никто не возьмет.
Интересно, у какого Генкина мы сигареты прятать будем? Оказалось, что у младшего, он тому завхозу родным сыном приходится, как Балаган объяснил. Пока Генкину сигареты передавали, я скромно на улице стоял. Затем обедать пошли, а после – курить на бревнышко, где почти пол-отряда собралось. Меня там всем представили, а в честь знакомства у меня каждый по разу закурить стрельнул, пачка сразу и кончилась.
Потом, как положено, тихий час настал, где по обыкновению никто и не думал спать, а все дружно трепались, но только, в отличие от других лагерей, никто из вожатых не забегал в палату и не орал дурным голосом, призывая ко сну. А больше всех куролесил, конечно, Вадик Калманович. Вожатых своих я, кстати, так и не увидел, всем распоряжался парень лет семнадцати, Игорь Денисов, который, как оказалось, был помощником вожатого и барабанщиком ансамбля.
И наконец, после тихого часа мы двинули в клуб на репетицию. Игорь Денисов подловил Вадика в коридоре и очень строго ему сказал:
– Так, Калманович, дуй в столовую, возьми полдник на нашу долю, да смотри не сожри по дороге!
Вадик немедленно заржал и в столовую умчался, а мы в клуб отправились. Меня всю дорогу подмывало в галоп пуститься, но пришлось идти как все – солидно и не торопясь.
В уже знакомой подсобке нас ждал руководитель лагерного ансамбля Юра Гончаров.
Мне была выдана МОЯ гитара, к которой прилагался усилитель «Родина», две колонки размером с холодильник и двойная педаль эффектов, что позволяла гитаре визжать и квакать на все лады! Принимая эти сокровища, я так увлекся, что не сразу заметил Борю Генкина, который скромно сидел в уголке с паяльником в руке и что-то колдовал. Оказалось, помимо того что он киномеханик, Боря в нашем ансамбле наиважнейший член коллектива – инженер-техник, то есть человек, который будет паять нам провода, чинить колонки и усилители, а во время выступлений следить за звуком и светом.
Боря протянул мне руку и представился очень коротко, но весьма дружелюбно и как-то застенчиво.
– Борис, – кивнул он, а после того, как я ему сообщил, что меня зовут Леша, сказал мне так же немного смущенно, что, дескать, помнит, и добавил, улыбнувшись: – Мотор!
Тут Юра Гончаров заявил, что сегодня он решил провести репетицию не за закрытыми дверями в клубе, а на сцене танцплощадки. Мол, публичные репетиции будут нам мешать халтурить. Все сразу невероятно обрадовались, а я, наоборот, жутко разволновался. Не хватало еще облажаться при всем честном народе.
Когда мы выволокли аппаратуру на сцену танцплощадки, нас там уже ждал весь лагерь. Казалось, народу тут собралось еще больше, чем на песенном конкурсе. В толпе то тут, то там мелькали ребята, которые по каким-то неуловимым признакам опознавались как «местные». Пришли из свое
Страница 19
деревни музыку послушать.Сидячих мест хватило немногим, остальные просто стояли, смотрели на нас, переговаривались. Хорошо, что минут пятнадцать ушло на подключение, настройку – как раз хватило, чтобы унять дрожь в коленях. Я обхватил левой рукой удивительный, непривычно тонкий и длинный гриф, правой пощелкал переключателями на корпусе, а Боря Генкин помог подтянуть на нужную высоту гитару, отрегулировав ремень.
Ну а потом как начали: и «Листья желтые», и «Дом восходящего солнца», и из «Крестного отца». И я сразу забыл про свой мандраж, потому что никогда мне еще не доводилось извлекать такой чистый, красивый и мощный звук. К тому же благодаря педали гитара и вовсе чудеса стала творить – и визжала, и квакала, и плакала. А я как будто на ней всю жизнь играл, а не впервые в руки взял. И когда мы, солируя по очереди, с нашей клавишницей по имени Оля сыграли одну очень красивую мелодию из Джо Дассена, то все хлопали минут пять, не меньше, особенно деревенские. И Оля каждый раз, поднимая на меня глаза от электрооргана, улыбалась весьма приветливо. А она ничего. Симпатичная. Даже очень.
Сразу после репетиции ко мне подбежал молодой мужик в пионерском галстуке, весь какой-то невероятно подвижный, весело зыркнул и, пританцовывая на месте, энергично затряс руку. Я сразу же почему-то догадался, что это и есть наш вожатый Володя Чубаровский.
– Ну что, вижу, в полку акселератов прибыло, не надо представляться, все уже сам про тебя знаю. Молодец, хорошо играешь. Еще какие таланты есть? Нет? Ладно, не переживай, найдем! Куришь? Как не куришь? Ты мне-то не заливай, все вы, акселераты, не курите! А я тебе, кстати, занятие придумал! Будешь роль одного красавца исполнять на конкурсе инсценированной песни!
При слове «красавец» я, понятное дело, заржал. Смеюсь, не могу остановиться. Эх, знал бы Володя, сколько я из-за этого вынес! Одного только укропа сто километров прополол!
– Так, ты чего гогочешь, может, у тебя какая психическая травма была, нет? А, не знаешь, ну не знаешь, тогда другое дело, тут мы тебе поможем, за нами не заржавеет! Мы тебе быстро диагноз поставим! У нас, – Володя понизил голос, – ВСЕ с диагнозами, веришь?
Тут я от смеха даже икать начал.
– Все ясно, – объявил Чубаровский обступившим нас пионерам, – у нового акселерата по кличке Мотор истерический припадок! Держите его, кто поздоровее, а я пока за валерьянкой в изолятор сбегаю.
Тут уже у всех этот самый истерический припадок случился, а Володя Чубаровский и вправду куда-то убежал.
– Ну, что, классный здесь аппарат? – подмигнув, произнес Вовка во время перекура на бревнышке. – Это тебе не наши деревяшки в радиолу втыкать!
Надо же, он про тот зимний поход вспомнил, которому мог бы позавидовать Иван Сусанин.
Дело в том, что у Вовки – как всегда, у первого из нас – еще в седьмом классе появилась хоть и обычная деревянная ленинградская гитара, но со звукоснимателем. И в то же воскресенье, как только он получил от отца такой царский подарок, Вовка загорелся ее подключить, чтобы послушать, как здорово она играет. За неимением усилителя и колонки мы отправились с ним в тридевятое царство, куда-то под Домодедово, в родовую Вовкину деревню, за антикварной радиолой «Ригонда». Была зима, конец января, мороз стоял под тридцать, уже стемнело. В автобусе, который пришлось прождать сорок минут, мы оказались единственными пассажирами.
Мы все ехали и ехали в этом стылом автобусе по безлюдному Каширскому шоссе, а справа и слева проплывали унылые пустыри с редкими подъемными кранами и островками новостроек Орехова-Борисова. Часа через полтора автобус высадил нас у кромки какого-то бескрайнего поля и, взвизгнув дверями, покатил в ночь, лишь огоньки его задних габаритов еще светились какое-то время.
В кромешной тьме, набрав полные сапоги снега, мы наконец добрались до цели. В мертвой, черной деревне не было ни одного светлого окна, ни дыма из труб, ни собачьего лая. Как будто они тут все умерли. Перелезая через забор, я ухитрился порвать свое хлипкое пальтецо.
Окоченевшими руками мы долго, по очереди, пытались отпереть двери. В доме оказалось еще холоднее, чем на улице. Потом мы никак не могли включить свет. Может, с пробками что случилось, а скорее по всей деревне вырубили – обычное дело. Нашли какой-то свечной огарок, прошли в горницу. На стене, на покрытом кружевной скатертью невысоком комоде, в неровном дрожащем свете колыхалась тень здоровенного ящика. Той самой радиолы. Древней, как изваяние египетского Сфинкса.
Мы с трудом перебросили радиолу через забор, погрузили ее на санки и двинулись в обратный путь. И тут началась метель. Наверно, надо было сразу повернуть назад, снова отпереть дом, попытаться растопить печку, пересидеть, в крайнем случае – переночевать. Сначала возвращаться было неохота, затем не позволила гордость, ну а потом стало поздно. Следы наши моментально занесло, мы пробирались наугад по целине, постоянно проваливаясь по пояс, снег летел нам в лицо, не давая возможности хоть что-то разглядеть впереди,
Страница 20
а эти проклятые санки с кое-как привязанной радиолой через каждые три метра заваливались набок.Должно быть, тому, который на небесах, стало жалко наших родителей, а может, нам просто повезло, не знаю, только минут через двадцать мы вдруг почувствовали под ногами твердый асфальт шоссе. Тут и пурга прекратилась. Еще через час нас, окоченевших, с санками, подобрал автобус и где-то после полуночи, хоть и замершие до одеревенения, но, как ни странно, живые и здоровые, мы сидели у Вовки на кухне, пытаясь негнущимися пальцами оторвать от стола кружки с горячим чаем.
Когда на следующий день мы подрубили Вовкину деревяшку к огромной «Ригонде», звук из динамиков оказался в два раза тише, чем от самой гитары. «Советское – значит отличное!» – сказал Вовка и сплюнул. В общем, да, хотя удивительно, что этот ящик вообще заработал после всех приключений.
Через пару дней я вдруг сообразил, что у Вовки дома стоит роскошный, мощный японский комбайн «Панасоник». Который – уж тебе не «Ригонда». Наверное, Вовке просто не захотелось в такую хорошую штуку гитару втыкать. А вдруг дорогая вещь испортится? Жалко ведь. Ну и правильно.
Вторую нашу вожатую Иру я увидел первый раз во время ужина. Вернее, сначала мне снова пришлось столкнуться с Володей Чубаровским, который стоял на крыльце столовой, и когда я поравнялся с ним, он шутливо осведомился у меня, закончились ли у меня припадки и как я себя чувствую, вызвав у меня очередной приступ смеха.
– Да ты не псих! – внимательно приглядевшись, вдруг завопил Володя, и вокруг нас опять собралась толпа.
– Расколол, расколол я тебя, банщик! – радостно продолжил он фразой из какого-то фильма. – Вы, батенька, симулянт, самострельщик!
– Товарищи! – совсем уж громко закричал Володя и стал вдруг картавить, как Ленин. – Товарищи! Великовозрастный пионер Мотор недолго прикидывался безобидным психом, пытаясь ввести всех в заблуждение. На самом деле он оказался закоренелым симулянтом! Вместо того чтобы дежурить со всем отрядом по столовой, он, надев личину простого музыканта, развлекал пионеров буржуазной музыкой, развращая наивные души юных строителей коммунизма!
В таком духе он говорил еще минут пять, ко всеобщему восторгу.
– Ну, ничего, после ужина останешься в столовой, будешь Ире помогать! – приказал в конце своей тирады Володя и подвел меня за руку к этой Ире, а сам вдруг куда-то исчез.
В отличие от Володи Чубаровского, Ира была девушка спокойная и, даже можно сказать, обычная. Немного полноватая блондинка, с простым добродушным лицом.
Выяснилось, что Ира тоже неведомым образом знает, как меня зовут. Она только уточнила, москвич ли я. Получив самое горячее подтверждение с моей стороны, Ира кивнула, как мне показалось, с легким осуждением. В столовой она ходила между столами, то и дело покрикивая на всех:
– С хлебом, с хлебом ешьте, паразиты, да что же такое делается! Калманович, Некрасов, я кому говорю, а ну давайте с хлебом!
– Привыкла у себя в деревне хлебом скотину откармливать! – негромко сказал Шурик Беляев.
Все заржали.
– А почему в деревне? – удивился я. – Разве она в деревне живет?
– А ты что, сам не видишь? – ответил Шурик. – Погляди на нее, село селом.
Ира Опанасенко жила не в деревне, она была родом из города Мелитополя, где весной так красиво цветет черешня, знаменитая на всю страну. Вот из этого Мелитополя она привезла особый южный говор и стойкое предубеждение ко всем москвичам.
На своем курсе Ира была недосягаемой легендой после знаменитого случая на семинаре по анатомии. Кафедра анатомии Первого медицинского, надо сказать, была своеобразным чистилищем, а для многих студентов и голгофой. Даже кафедры биохимии и фармакологии, при всей их мизантропии – да и что там скрывать, при всем их диком сволочизме, – были лишь жалкой пародией на отшлифованный веками, утонченный садизм кафедры анатомии.
Девиз анатомов «Здесь мертвые служат живым» воспринимался тут неоднозначно, чтобы не сказать наоборот.
Доцент Бочкин выделялся даже на фоне своих коллег. Это был вдохновенный садист-энтузиаст, за версту чуявший свою жертву и никогда не добивавшей ее сразу, а так – постепенно, смакуя…
Кстати сказать, специализацией Владимира Яковлевича была область мужских гениталий, и горе тому студенту, а особенно студентке, если они допускали хоть малейшую неточность в ответе на эту важнейшую из тем.
В тот день, вероятно, не так расположились звезды или еще что, но Ира Опанасенко к семинару готова не была. Тема была очень простая – анатомия мужских половых органов, – а вел семинар конечно же Владимир Яковлевич Бочкин. Не знаю уж, почему Ира не прочитала учебник, подозреваю грешным делом, что она решила выехать на своем скромном женском опыте, но только когда вся группа подошла к столу, а Владимир Яковлевич ткнул пинцетом в препарат и спросил весело: «Опанасенко, что это?» – Ира поняла, что ее жизненный опыт сейчас не поможет.
– Это. это половой член, – покраснев как рак, прошептала она.
– Милая, вот когда ты расстегнешь штаны своего
Страница 21
риятеля, тогда и будешь так вздыхать: «Это половой член!» – передразнил Иру Бочкин. – Попрошу по-латыни, голубушка!– Penis, – еще тише произнесла Ира, исчерпав таким образом все свои знания по этому архиважному вопросу.
– Прекрасно! – расцвел, предвкушая острое наслаждение, Владимир Яковлевич и показал пинцетом на головку. – Какая часть члена, голубушка, и попрошу сразу по-латыни!
– Это… это… это… шапочка! – заливаясь слезами, прорыдала Ира.
– Шапочка!!! – не веря своему счастью, завопил восхищенный Бочкин. – Иди ко мне, моя Красная Шапочка, я твой Серый Волк!!!
Ира убегала из большого секционного зала в рыданиях, а в спину ей неслось:
– Куда же ты, моя Красная Шапочка! Не забудь отнести своей бабушке пирожок и горшочек масла!!!
К слову сказать, Ира Опанасенко сейчас работает гинекологом и конечно же живет в Москве. Очень простой случай для психоанализа.
Весь лагерь смотрит фильм «Земля Санникова», а мы сидим в клубной подсобке за сценой. Я, Вовка Антошин, Балаган и Игорь Денисов, слушаем Юрку Гончарова, который говорит нам, что к первому выступлению нужно придумать название ансамбля, а то ансамблю, как кораблю, без имени никак. Для этой цели взята записная книжка с буквами, и один из нас, стоя спиной к остальным, ее быстро листает, а второй, отвернувшись, командует:
– Стоп!
Слепой выбор падает на букву «О».
– Онанисты! – радостно кричит Денисов, и все, включая Юру Гончарова, заливисто хохочут.
– Действительно! – утерев слезы, внимательно глядя на нас, говорит Юра. – Название в самую точку! Но не пойдет, к сожалению! Давайте что-нибудь пионерское, только не онанисты… а оптимисты!!!
На том и порешили.
– Мотор, – взяв гитару в руки, говорит Юра, – подыграй-ка, хочу тряхнуть стариной, квадрат сбацать, в до мажор!
Юрка играет, я аккомпанирую, у него получается весьма неплохо.
– Вот так! – говорит мне Денисов почему-то с каким-то вызовом. – Понял?
– А теперь давай ты, Леха! – подмигивает Вовка, и уже я играю, а Юрка подыгрывает, только в ми мажоре.
– Вот ТАК!!! – победно говорит Денисову Балаган, а Юра, отложив гитару, с уважением жмет мне руку.
Потом все сидим и курим молча, прислушиваясь к звукам фильма за дверью.
Первая ночь в лагере. Я лежу, пытаясь вникнуть в интеллектуальную беседу между Сашей Беляевым и его соседом. В данный момент они говорят о каком-то новом ультразвуковом оружии массового поражения, а до этого Саша пересказывал какой-то комикс из западного журнала, причем почти весь текст он произносил по-английски.
Все по очереди ходят попарно в туалет на перекур, а Игорь Денисов, как помощник вожатого, эту процедуру регламентирует.
– Так, Калманович, – начинает Денисов, – ты пойдешь курить лишь в том случае, если покажешь мне свои сигареты. Не антошинские, а именно свои.
Все смеются, в том числе и сам Вадик, потому что все знают, что своих сигарет у него отродясь не водилось.
– Некрасов, куда собрался, ты же курил недавно! – продолжает следить за порядком Денисов.
– Куда, куда? Да на кудыкину гору! – дерзко отвечает Вася Некрасов, нескладный долговязый парень с кудрявой, как у Калмановича, только русой головой. Он идет, а за ним волочится по полу метра на три кусок туалетной бумаги.
– А, вот оно что! – понимающим тоном говорит Денисов. – Тогда иди!
Некрасов открывает дверь, и свет из коридора освещает его оранжевую майку с надписью Adidas.
– Ух ты! – восхищается кто-то. – А маечка-то у тебя, Вась, адидасовская!
И уже из коридора, просунув голову в палату, Вася назидательно произносит:
Коли майка – «Адидас»
Так любая баба даст!!!
Вася Некрасов был законченным типом пионера-раздолбая. Сын легендарного доцента с кафедры фармхимии, Некрасов-младший наглядно демонстрировал всем, что и природа должна отдыхать.
Васька постоянно влипал во всякие истории. Если он выходил за территорию, то его обязательно засекал начальник лагеря Мэлс Хабибович. Если он курил у бревнышка, то именно в тот момент, когда по лагерю шла высокая парткомовско-месткомовская комиссия и кто-нибудь как раз убежденно заявлял: «Ну и конечно же у нас в лагере никто не курит, даже вожатые». Тут-то перед начальством и представал во всей красе восседающий на бревне Василий Некрасов, у которого дым валил аж из ушей. Ну а стоило ему выпить, то он и вовсе валялся без чувств на дорожке между старым и новым корпусом, до смерти пугая видавших всякое наших пионервожатых.
Кроме всего прочего, на тот момент он являлся единственным пионером в нашей палате, у кого имелся реальный опыт полноценной любви.
– Расскажи, Вась! – требовали остальные, и Вася рассказывал.
– Ну, значит, вечером прихожу к Маринке, а она мне и говорит… – начинал он свой рассказ, беря пятиминутные паузы и в этих паузах громко чмокая губами. – А она мне говорит, значит, что предки у нее на дачу свинтили на машине. – И опять минуты на три чмокания. – Ну, мы это, музыку слушали-слушали, а потом она меня спрашивает: хочешь, я тебе чего покажу? Ну, я ей: а чё? Покажи… – И
Страница 22
снова принимался чмокать.Тут обычно кто-нибудь не выдерживал и орал:
– Ты кончай, Некрасов, томить, можешь побыстрее?
– Спешка, она, знаешь, где нужна? – остроумно парировал тот. – Дайте лучше закурить!
И к нему сразу выстраивался лес рук. Выбрав сигарету получше, Вася опять долго чмокал и курил. Настрелял он так за смену не менее пяти пачек.
А в конце рассказа обычно кто-нибудь всегда спрашивал у него:
– А вообще, как это все?
– Ну а чё, нормально, тока это самое. телка, значит, опытная должна быть, а то. запутаться можно!
Через полторы недели эта телка по имени Марина приедет навещать своего ненаглядного на родительский день, и он, вспомнив, что еще в начале смены ради такого случая зашил, спасая от шмона, в своей подушке презервативы, начнет вспарывать все подряд подушки в палате, которые, конечно, к тому времени будут уже перепутаны из-за ежедневных подушечных боев. Так что Вася найдет искомое где-то только на десятой. Вспоротые подушки будут обменены – когда тайно, а когда и с угрозой – на целые у второго отряда, а те, не будь дураками, произведут это же с третьим. Так что до конца смены по корпусу будут летать перья, свидетельствуя тем самым о несокрушимости любви.
Мне досталось идти курить с каким-то высоким парнем, с которым к тому моменту я еще не успел познакомиться. Когда мы с ним заперлись в туалетной кабинке, он представился.
– Шурик, – кивнул он, – Шурик Опанасенко.
Потом помолчал и с какой-то даже гордостью добавил:
– А у нас в городе негров по-черному метелят!
А я подумал, что уж больно много сегодня Шуриков, аж в глазах от них рябит, а сам тем временем спрашиваю:
– В каком таком городе?
– Да в Мелитополе, мы же с Иркой, нашей вожатой, – говорит этот Опанасенко, – родные брат с сестрой!
Теперь понятно, откуда у Шурика такой говор интересный, например, он не «город» произносит, а «хород».
– А что, много ли у вас негров в Мелитополе? – спрашиваю для поддержания светской беседы.
– Да немного, почти и нет, – со вздохом отвечает он, – негров этих.
Ясно, значит, уже всех отметелили по-черному, а сам вижу, что Шурика этого мучит что-то. Я его еще на танцплощадке приметил, когда мы репетировали. Он по центру сидел на лавочке, в темном свитере, в такую-то жару, и поверх воротник белый от рубахи выпустил. Он слушал, как мы играем, в основном смотрел на меня и выглядел почему-то очень печальным. По виду Шурик был, скорее всего, самым старшим парнем в отряде, не считая Денисова, у него уже вовсю усы росли.
– А ты законно на гитаре играешь, – горестно сказал он после длинной затяжки.
– Как я играю? – не понял я. – Законно?
– Ну да, – ответил Шурик, – законно – здорово значит. – Потом опять затянулся и говорит: – Это же я должен был вместо тебя в ансамбле играть, моя Ирка с Юркой Гончаровым договорилась, но тут ты приехал. – Шурик опять на меня так грустно посмотрел. – Не, я все понимаю, – продолжал он, – играешь ты законно, вы, москвичи, должны друг за друга быть, но ведь Ирка же договорилась…
Тут он докурил и в сердцах бросил окурок в унитаз.
При чем, думаю, здесь москвичи? Сейчас я ему скажу, что нет у нас никакого московского братства, но не успел.
Потому что, как только мы вылезли из кабинки, на пороге сразу возник взрослый толстый парень, судя по галстуку, вожатый, с сильно опухшей, как после затяжной пьянки, физиономией.
– Вы что тут делаете, уроды? – злобно заорал он, тряся жирными щеками. – Курите, что ли? А ну пошли отсюда оба, и чтобы я вас больше не видел! А не то из лагеря у меня вылетите в два счета!
И пухлый вразвалку вышел, громко хлопнув дверью.
– Кто такой? – поинтересовался я. – Важный какой начальник, наверное?
– Да какой там начальник! – говорит Опанасенко. – Так… Хуторской!
Какой еще Хуторской? Это что, такая характеристика у человека? Есть городской, есть деревенский, вот хуторской, на хуторе живет, одичал совсем, на пионеров по ночам бросается!
– Да нет, – отвечает Шурик Опанасенко, – это Виталик Хуторской, вожатый третьего отряда, гнида еще та, ну ты с ним еще встретишься.
И ведь действительно встретился.
Оптимисты в оранжевых жилетках
Я начал с ходу включаться в лагерную жизнь, каждый час делая большие и маленькие открытия. Например, я понял, почему все наши пионервожатые такие молодые, самому старшему – двадцать с копейками. Просто они были студентами Первого медицинского института, или, как они сами говорили, Первого Меда. Кроме того, всех санитарок, грузчиков, кочегаров тоже набирали из числа студентов.
В основном все они учились на лечебном факультете, которых в Первом Меде, оказывается, существовало два. Первый и второй лечебный факультет. Как пояснил мне Вадик Калманович, на первом учились те, у кого была волосатая лапа, а на втором – волосатая, но не такая мохнатая. Некоторые были студентами сан-гига, который расшифровывался как санитарно-гигиенический. Был в институте, как оказалось, и какой-то фармацевтический факультет, но все говорили о нем с легким пре
Страница 23
рением.В общем, наши вожатые были будущими врачами, и это вносило неповторимый колорит в лагерную жизнь. Разговоры, которые я жадно слушал в вожатских комнатах, куда меня часто приглашали, были невероятно захватывающими:
– Один раз в Тареевке, на практике, астматику в вену эуфиллин вколол, а жгут распустить забыл, гематома надулась, понятное дело, а он как увидел – и брык с копыт! Ну, думаю, что делать? Не дай бог, помрет, практику не засчитают!
– А я в анатомичке в бак с мозгами пинцет уронил. Целый час по локоть в формалине шарил, среди мозгов искал, так и не нашел!
– На втором курсе у меня в таком баке студенческий билет утонул. Ничего, потом новый выдали.
– А нас с Костей Чилингариди в Боткинской попросили труп в морг отвезти, и мы с этим трупом в лифте застряли. Нас только через два часа вызволили, так Костя до сих пор лифтом не пользуется.
– Зимой на терапии дают мне мужика, типа: «Ставьте, доктор, ему диагноз!» Ладно, думаю, сейчас преподаватель отвернется, так я у самого больного и спрошу, с чем он лежит. Ну, все же так делают. А он, падла, глухонемым оказался, представляете, какой облом!!!
Тут все обычно начинали заливисто гоготать, и я заодно. И очень быстро почувствовал, что страшно всем этим ребятам завидую, так, по-хорошему, потому что все они при очень важном деле состоят и сами все какие-то очень славные и веселые.
Повара, шоферы, докторша в изоляторе и завхоз Лев Маркович Генкин хоть студентами и не являлись, но, как мне казалось, горько об этом сожалели.
Что же касается пионеров, то здесь все было куда сложнее. В основном это были дети и внуки сотрудников Первого Меда, причем известных врачей, профессоров, даже академиков. Мне их показывали, и кто-нибудь из вожатых обычно говорил негромко: – Видишь пацаненка в синей майке, белобрысого? Так вот, мне его дедушка, профессор Афонин, редкостный самодур, по гистологии в прошлом году двоечку влепил, ни за что. Стипендии меня лишил, козел старый!
Ездили сюда и дети простых медсестер или санитарок, и ребята из города Зеленограда, их в лагерь привозил специальный автобус. Кто они такие и почему ездили именно в наш лагерь, никто толком объяснить не мог, но что к медицине их родители не имели отношения, это точно.
Еще были деревенские, по нескольку человек на отряд. Они все жили неподалеку, на Глебовской птицефабрике, и на нас, москвичей, смотрели как на инопланетян. Большинство их разговоров сводилось к тому, когда и чей батя по пьяни утонул в Истринском водохранилище, а также про то, как неведомый мне Платон отмудохал трех мужиков разом на платформе в Манихино.
Были и детдомовские, всего с десяток на весь лагерь. Они смотрели как на инопланетян даже на деревенских, держались всегда вместе, и считалось, что здорово воровали.
Ну и последняя категория – так называемые блатные, разношерстная публика, куда, кстати, входили и мы с Вовкой Антошиным.
Центральной фигурой нашего лагеря был завхоз Лев Маркович Генкин. Он приехал в «Дружбу» в год ее основания и привез с собой жену и годовалого Борьку. Таким образом, глядя на Борьку, можно было прикинуть, сколько же лет самой «Дружбе».
Лев Маркович постоянно занимался разнообразной кипучей деятельностью, я никогда не видел его праздным или даже просто спокойным. Разговаривал он как персонаж из одесского анекдота.
– Послушайте, юноша! – начинал Генкин, заставая меня курящим на перилах в беседке. – И что вы ломаете эту хорошую беседку, таки же не вы ее строили, правда? А коли у вас чешутся руки, так запишитесь в кружок, вас там в два счета научат делать самолет! И хватит курить, вы же пионер, а не босяк, кому это понравится, если пионер будет ходить по лагерю и дышать на всех табаком?
От своих грузчиков Генкин требовал честности и дисциплины, да и сам он, похоже, не воровал. Помню, как с ним в восьмидесятом работала пара грузчиков, Вадим Горелик и Шурик Лаврентьев. Генкин подъезжал к продуктовой базе и всегда норовил влезть первым, что не всегда устраивало ожидающий народ, людей простых и без особых затей, снабженцев и их водителей.
– Товарищи дорогие, разойдитесь! Дайте мне дорогу, чтобы получить продукты для детей, и таки всем нам будет хорошо! – начинал из кабины голосить Генкин.
И конечно, как всегда, находился кто-то, кто начинал выяснять, а что же будет, если Генкин постоит в очереди.
– Ой, тогда всем нам будет очень плохо! – сокрушался Генкин. – Так плохо, что б ни мне, ни вам не видеть!
– А что же такого плохого будет? – начинали презрительно ухмыляться шоферюги, мол, морочит нам старик голову!
– А то, – говорил Генкин, – что я еще ничего, но вот мои бандиты, чтоб им было пусто, могут обидеться, и тогда, ой, мама дорогая, всем будет очень, очень плохо!
– Да какие еще бандиты? – начинали ржать шоферюги и снабженцы. – Чего ты плетешь?
– Эх, не хотел я выпускать моих бандитов, эти гои опять кого-нибудь покалечат, опять кого-то к доктору повезут, но таки же вы сами просите, я вам их покажу, мне не жалко!
С этими словами он открывал
Страница 24
узов, откуда с диким ревом выскакивали Вадим с Шуриком, два здоровенных мордоворота, загорелые, бородатые и в тельняшках.Когда в восьмидесятых годах в Подмосковье начались перебои с бензином и на бензоколонках выстроились километровые хвосты, Генкин садился на нашу лагерную машину, а это была обычная карета «Скорой помощи», которую нам выделял институт на лето из своего гаража. Он подъезжал в начало очереди, врубив загодя и мигалку и сирену, выскакивал оттуда на ходу в белом халате и кричал:
– Граждане! Все отойдите от моей машины! Я везу очень заразного больного. И если я его не довезу, по всей области начнется карантин!
При этом он выхватывал у какого-нибудь растяпы шланг, а шофер тем временем бежал в кассу.
– Очень, очень заразный больной! Не подходите, если вы, конечно, не хотите заразиться и таки же умереть! – объяснял он разбегающимся от него в разные стороны людям, заливая бензин не только в бак, но и во все мыслимые и немыслимые емкости литров этак триста.
Да и вообще, с ним мы всегда жрали от пуза, он умудрялся какие-то совсем необыкновенные продукты доставать. То бананами всю столовую завалит, то целый грузовик воблы откуда-то привезет.
Я потом часто встречал Генкина в Москве на Большой Пироговской, всегда здоровался, он кивал в ответ, но я не уверен, что узнавал. Нас таких у него было полно с пятьдесят девятого года!
Мне кажется абсолютно понятным, почему, когда Генкин постарел и перестал ездить в «Дружбу», лагерь вскоре закрыли. Это был ЕГО лагерь.
* * *
К нашему первому концерту мы успели разучить пяток популярных детских песен, с которыми было не страшно выступать в присутствии комиссии, что, по всем оперативным сведениям, должна была нагрянуть в лагерь.
Кроме того, нам даже спешно сшили форму, а сделала это родная бабушка Вадика Калмановича, которая, как оказалось, вела в лагере кружок кройки и шитья, причем она по всем правилам сняла с каждого из нас мерку, закалывая куски бумаги булавками. Больше с меня мерку не снимали ни разу в жизни.
Если я не ошибаюсь, сшить нам должны были красивые красные рубахи, самого правильного, как всем тогда казалось, цвета для нашего названия «Оптимисты». Но красной материи не оказалось, нашлась только желто-оранжевая, да и той было недостаточно, поэтому на сцене мы предстали не в рубашках, а в оранжевых жилетках. Выглядели мы со стороны как бригада по укладке шпал, которая решила сбацать что-нибудь этакое в обеденный перерыв.
Наш руководитель Юрка Гончаров очень волновался перед премьерой, ну еще бы. Ему же доверили кучу аппаратуры на сорок тыщ, а он каких-то олухов к ней вынужден допустить.
Мы его, как могли, успокаивали, мол, Юра, расслабься, аппаратуру не спалим, про голубой вагон и про Чебурашку исполним, не вопрос.
– Смотри, Леха, – сказал он мне очень строго, – не вздумай на бис свои «Семь-сорок» сыграть. Говорят, в субботу проректор приедет. Вот он меня сразу из института и попрет как еврейского националиста.
Юра был невысокого роста, говорил негромким голосом, всегда сильно прищуривался, как обычно делают близорукие люди, которые стесняются носить очки. Под хорошее настроение он мог изобразить, как пьяный мужик с баяном ходит по вагонам, или исполнял частушки собственного сочинения. Помимо баяна, он хорошо умел играть почти на всех инструментах, даже ударных, демонстрируя это в вожатском ансамбле.
Барабанщик Игорь Денисов, крепкий семнадцатилетний парень, самый старший член нашей банды, поначалу пытался нами командовать, правда без успеха, но вскоре мы уже были с ним на равных и даже начали на него покрикивать на репетициях.
– Денисов! – орал кто-нибудь из нас. – Ты что, твою мать, долбишь как дятел, не слышишь разве, что тут переход?
Игорь потом отрывался на отрядных пионерах, где он числился помощником вожатого, а это пусть и маленький, но пост.
Нам Денисов врал, что поступил в институт, но, странным образом, никогда не мог вспомнить его названия. А знающие люди утверждали, что Игорь учится в каком-то техникуме и просто набивает себе цену.
За клавишами у нас сидела Оля Соколова, по которой вздыхала половина пионеров первого отряда. Оля любила распускать свои длинные черные волосы, заливисто смеялась, да и вообще была неизменно весела и приветлива. На ритм-гитаре играл Саша Тихонов по кличке Балаган. Балаганом его прозвали еще давно, почему-то имея в виду недотепу Шуру Балаганова из «Золотого теленка». Почему – при всем богатстве фантазии понять невозможно. Балаган был невероятно остроумный, постоянно хохмил, знал дикое количество песен и очень нравился девочкам. Говорят, сам Аркадий Северный, запрещенный артист-песенник, доводился ему дальним родственником. На гитаре у него получалось, кстати, так себе, но за общим шумом могло сойти. Нас с Вовкой Балаган был старше на год, он перешел в десятый класс, и это было последнее его пионерское лето. Я, как и все, звал его Балаган, а реже Шурик, потому что Шуриков и Саш в нашем отряде был явный перебор.
Ну а басистом был мой лучший друг и однок
Страница 25
ассник Вовка Антошин. Песен Вовка знал немного, остроумием не блистал, светских бесед не поддерживал. Но, несмотря на это, девочкам он нравился не меньше, чем Шурик Балаган, да и вообще был человеком заметным. Вовка был вежливый и обаятельный, особенно на людях, никогда не суетился перед вожатыми и даже проявлял по отношению к ним некую снисходительность. А самое главное, он был всегда сногсшибательно одет. Таких шмоток, какие привозил из далеких стран Вовкин отец дядя Витя, шофер «Совтрансавто», не было ни у кого. Глядя на него, все дружно начинали сомневаться насчет того, сгниет ли он вообще когда-нибудь, этот вечно загнивающий капитализм.Шурик Опанасенко моментально выделил Вовку из числа остальных пионеров и наряжался в его барахло всю смену, меняя гардероб чуть ли не ежедневно.
Что касается вокала, то здесь была полная чехарда. Перед каждым концертом мы прослушивали разных девочек в среднем по три от отряда, каждая из которых мнила себя Валентиной Толкуновой, но, выходя на сцену, они пели мимо нот и жевали микрофон.
Несмотря на Юркины опасения, наше первое выступление прошло вроде нормально. Во всяком случае, никто не облажался, аппаратура не подвела, после каждой песни нам дружно и долго хлопали, особенно поварихи и малыши-октябрята. Да и партийное начальство института осталось довольно. Но когда Боря Генкин дал нам прослушать магнитофонную запись, которую он сделал из зала, впору было спокойно переименовывать нашу группу из «Оптимистов» сразу в «Пессимистов».
Денисов дубасил не в ритм, у Балагана явно не строил инструмент, Вовку, того вообще не было слышно, моя гитара, наоборот, оглушительно и не к месту квакала. А наши горе-вокалистки пели про листья желтые, которые с тихим шорохом под ноги ложатся, настолько гнусавыми голосами, что нам захотелось самим с тихим шорохом лечь куда-нибудь и там застрелиться от позора.
Но на том концерте для меня случилось событие куда более важное, чем наше собственное выступление.
Уже были спеты все песни, прочитаны все стишки, вызвал смех до колик своими хохмами Володя Чубаровский, концерт заканчивался. И в финале на пустую сцену с баяном вышел Юра Гончаров. Он внимательно посмотрел в зал и начал играть.
И на первых аккордах зрители вдруг стали подниматься с мест. Сначала – сидевшие рядом со сценой члены институтской комиссии и начальник лагеря Мэлс Хабибович, за ними встали вожатые и остальные студенты из обслуживающего персонала, а потом и все прочие, включая малышей из восьмого отряда.
Вспомни, друг, как ночь перед экзаменом
Проводили мы с тобой без сна
И какими горькими слезами нам
Обходилась каждая весна!
Вспомни, друг, как мы листали наскоро
Пухлые учебников тома,
Как порой встречали нас неласково
Клиники, больницы, роддома!
Весь зал пел, песня набирала силу, и уже мощный хор звучал под стенами нашего клуба. Они все стояли и пели с такими лицами… Ну, можно сказать, с прекрасными лицами, а у многих на глазах блестели слезы.
И хотя наш клуб был настоящей развалюхой, а Юрин баян старым и разбитым, казалось, что все мы стоим и поем во дворце или даже в храме.
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвою расстаются москвичи.
Пускай сегодня мы еще студенты,
Мы завтра – настоящие врачи!
Это был гимн Первого медицинского института.
Никогда раньше я не видел, чтобы люди с таким волнением, с такой гордостью пели не про свою профессию даже, а про самое важное, самое главное дело своей жизни, и сам тогда, не знаю почему, вдруг почувствовал к этому всему важному и главному свою причастность…
* * *
Быть музыкантом ансамбля оказалось очень почетно. Сразу становишься заметной фигурой, особенно в масштабах нашей маленькой «Дружбы». Ходишь по лагерю, а все тебя уже знают, даже повара и кастелянши просят в следующий раз исполнить их любимые песни.
А Сережа, личный шофер Мэлса Хабибовича, тот и вовсе стал моим закадычным приятелем.
Сережа был настоящей стоеросовой дубиной – коренастый, мощный, с длинными, как грабли, руками. К тому же огненно-рыжий, громогласный и очень злой. В лагерь он приехал с женой, которая была на сносях, выходила из комнаты редко и обязательно в сопровождении супруга. Передвигалась она, всегда низко опустив голову, и никогда ни с кем не разговаривала. За нее это делал Сережа.
– Ну, ты, урод, в жопе ноги, не видишь разве, что тут беременная женщина идет! – орал он любому встречному пионеру. – Сойди с тропинки, придурок, пока я тебе пасть не порвал!!!
Ко мне Сережа, по загадочной причине, относился подчеркнуто хорошо, даже постоянно угощал сигаретами, а курил он только дефицитную «Яву». Ему понравилось присаживаться на лавочку, где я сидел и тренькал на гитаре, и долго, в подробностях рассказывать о своей армейской жизни. Сережа служил десантником и принимал самое деятельное участие в Пражских событиях шестьдесят восьмого года.
Через пару дней я стал избегать ничего не понимающего Сережу. Как-то больше не хотелось слушать эти рассказы о подвигах наших танкист
Страница 26
в и десантников на улицах Праги. Мне было трудно объяснить, но передо мной постоянно возникала моя бабушка Людмила Александровна Добиаш, подолгу разглядывающая одну и ту же картинку в альбоме.– Злата Прага! – восклицала бабушка, показывая рисунок красивого города с мостами через реку, башнями и соборами.
– Вот земля твоих предков, Алешенька, – объясняла бабушка, – как же мне хочется хоть одним глазком, хоть когда-нибудь увидеть ее!
Бабушка никогда не увидит свою Злату Прагу, за нее это сделал Сережа в шестьдесят восьмом.
Родительский день
Ровно через десять дней после моего приезда в лагерь мне исполнилось пятнадцать лет. Когда об этом событии было объявлено на утренней линейке и для вручения подарка я был вызван на подъем флага, то был встречен такими овациями, которых не слышал в свой адрес прежде никогда. Хлопали и кричали «Ура!» не только старшие отряды, но и малыши, и даже часть обслуживающего персонала.
Дежурным вожатым в тот день был Виталик Хуторской, ему и была предоставлена честь официального поздравления. Он с нескрываемым равнодушием вяло помял мою руку в своей потной ладони и протянул маленькую коробочку с подарком. Я взял ее, так же равнодушно поблагодарив, и машинально на эту коробочку посмотрел. Потом я опять посмотрел на Хуторского, потом опять на коробочку.
– Чего застыл? – тихо, чтобы никто не слышал, сквозь зубы процедил Виталик. – Давай шагай, добавки не будет!
У нас существовала пионерская загадка насчет того, кто же это такой, вонючий, толстый, волосатый, на ХУ начинается, на Й заканчивается. Ответ – вожатый третьего отряда Виталик Хуторской.
Сбоку на коробочке с моим подарком, вязью, тремя буквами было написано ХУИ! Именно ХУИ, то есть во множественном числе, и когда я пустил эту коробочку по рядам, весь первый отряд стал валиться от хохота на газон, как от солнечного удара. Слава богу, что линейка в этот момент закончилась, а то бы не сносить нам головы, Виталик не терпел шуток от пионеров.
В столовой именной подарок Хуторского мне вернул Шурик Беляев, показав, что с другого боку маленькими буковками значилось: Волоколамская фабрика «Художественное изделие». Вот такая аббревиатура – и это в чистое советское время.
А в коробочке был меленький деревянный истуканчик вроде матрешки, кстати, такой… пенисообразный. Фигурку я потерял почти сразу, а коробочку хранил много лет и всем ее показывал.
Ну а празднование моего пятнадцатилетия в неформальной обстановке, за неимением наличных средств, было решено отложить до родительского дня, который должен был состояться совсем скоро, а точнее сказать, назавтра.
Как же я всегда ждал родительского дня! Часы считал, минуты. Единственное радостное событие в череде тусклых лагерных будней. Ведь это означало, что приедет мама, а значит, я получу частичку дома, из которого меня так безжалостно вырвали. И чем младше был, тем острее была разлука. А когда мама уходила от главных ворот на автобус и я бежал за ней вдоль забора, казалось, сердце разорвется от горя.
А тут, в «Дружбе», я вдруг с удивлением почувствовал, что и думать забыл о таком событии, как родительский день. Только накануне и вспомнил, когда вокруг стали говорить о том, что нужно бы завтра слупить с родителей деньжат под каким-нибудь благовидным предлогом. Вспомнил и устыдился.
С самого утра я немного волновался, а вдруг маме скажут, тот же Мэлс Хабибович или Чубаровский, что я балбес и разгильдяй. Ведь я уже разок попался за территорией, далеко не всегда находился в палате после отбоя, а позавчера самовольно покинул пост на главных воротах во время дежурства. Но напрасно я переживал. Мэлс Хабибович, завидя нас, дружески с мамой побеседовал, его водитель Сережа так вообще подъехал на своем зеленом «москвиче», вышел и церемонно пожал мне и маме руки, а детдомовец Леня, тот и вовсе выдал номер:
– Я, – заявил Леня, – сразу понял, что Мотор ваш – классный пацан! Пока он здесь не нарисовался, мне ни одна собака закурить не давала, приходилось бычки у бревнышка досасывать. А когда я у него покурить стрельнул, так Леха всю пачку протянул, не стал жлобиться, как некоторые!
– Алеша, неужели ты куришь? – в священном ужасе всплеснула руками мама.
То, что курит малыш Ленька, ее не удивило.
– Да вы не беспокойтесь, мамаша, – сразу начал утешать ее Леня, – я вот, знаете, сколько раз бросал, и не сосчитаешь! И Леха ваш бросит, никуда не денется!
И ведь действительно бросил. Через двадцать лет.
Под конец появился Володя Чубаровский.
Он сообщил маме, что пионер я неплохой, можно сказать, хороший, что могу далеко пойти, если, конечно, меня не остановят те, кому положено останавливать, и что надо было меня отправить в «Дружбу» лет пять назад, тут бы из меня вообще пионера-героя сделали.
Перед тем как попрощаться, я получил от немного ошалевшей мамы три рубля на якобы покупку нового пионерского галстука и туманные карманные расходы. Скотина я все-таки.
А вечером мы немного выпили. Нет, конечно, не в хлам, а так, больше для
Страница 27
орядка. Три бутылки портвейна «Кавказ», которые тайными тропами доставили гонцы – незаменимые в таком деле Вадик Калманович и Саша Беляев, – были торжественно откупорены перед ужином.Пьем за территорией у забора – от бессознательного нежелания осквернять святую пионерскую землю. При этом подтягиваются все мальчики из нашего отряда, а кроме того, значительная часть девочек. Неофициальная часть празднования моего дня рождения прошла без особых безобразий.
После ужина в клубе крутят кино. Мы с Олей Соколовой стоим в тесной будке киномеханика, куда нас по доброте душевной пустил Боря Генкин, и смотрим на далекий экран через амбразуру в стене. Для Борьки нам приходится делать вид, что нас очень интересует фильм, который все видели уже тысячу раз. Амбразура маленькая, поэтому мы тесно прижимаемся друг к другу. Через какое-то время я хоть и нерешительно, но обнимаю Олю, правда, так, чтобы этого не заметил Борька. Она кладет мне голову на плечо, я улыбаюсь, мне щекотно от ее волос, в темноте стрекочет кинопроектор.
А через несколько дней наш отряд ушел в поход.
Гиблое место
Походы в пионерском лагере, скажу я вам, это редкостная ерунда. Меня все время удивляли дурачки, которые покупались на такую туфту. Впрочем, в лагере совсем иная шкала ценностей, чем на воле. Поэтому приходится наблюдать, как малозначительный предмет или событие приобретают совсем другой окрас, когда живешь за забором, пусть и в пионерлагере.
Помню, как-то в начале смены я поинтересовался у ребят из отряда, чем уж так хорош пионерлагерь «Березка», где нам предстояло провести почти месяц после седьмого класса. Мороженое, ответили мне. Какое мороженое, не понял я. Тогда они охотно пояснили, что здесь раз в смену дают мороженое. Что дают? «Да мороженое! – с идиотическим восторгом снова ответили мои подельники. – Неужели не понимаешь? Настоящее, в картонном стаканчике!»
Согласитесь, удивительно, когда четырнадцатилетние парни, между прочим, члены ВЛКСМ, некоторые даже с усиками, искренне считают, что раскисшего стаканчика молочного мороженого раз в месяц более чем достаточно для полного счастья. А ведь они не в тайге, они в Москве жили, где всякого мороженого завались в любой палатке.
Я видел, как два пионера решили перейти в другой отряд только потому, что им там посулили рыбалку. И они, вмиг собрав манатки, шустро побежали в соседний корпус, даже толком не попрощавшись с теми, с кем ездили в этот лагерь несколько лет. И все ради того, чтобы однажды подойти к берегу и по разу закинуть самодельную удочку, без грузила и поплавка, в грязный, заросший ряской пруд.
То ли дело мой друг Миша Кукушкин. Когда ему лишь намекнули, что нас собираются разлучить, уж больно мы куролесили, он такой вой устроил, хоть святых выноси.
Такой же профанацией, как и эта рыбалка, были почти все походы. Утром – из лагеря, вечером – в лагерь. Стоянка в паре километров на какой-нибудь чистой полянке, куда обед доставлялся на машине. Было и такое, что нас привозили и увозили на автобусе. Иногда и палаток не разбивали. В общем, не поход, а пикник. При этом вернувшихся из похода торжественно встречали на вечерней линейке, как космонавтов. Смех, да и только.
Но тот наш поход в «Дружбе» был чем-то невиданным. Сначала мы топали четыре километра до платформы Новоиерусалимская. Там Чубаровский на свои деньги купил на всех билеты, и мы проехали несколько остановок на электричке. В вагоне оказались десятка три спящих солдат-азиатов. Ни один из них не пошевелился, и это несмотря на вопли, с которыми мы взяли поезд на абордаж. Интересно, что же их в армии делать заставляют, бедных?
Потом мы вылезли на какой-то станции, посчитались и долго, часа четыре, опять топали пешком. При этом никто не орал на нас за то, что мы растягиваемся по дороге, никто не запрещал пить воду из колодцев, и даже разрешали забегать в магазины в деревнях, через которые лежал маршрут.
В магазинах мы тратим последние наши копейки на папиросы «Беломорканал» и лимонад. Весь скарб несем на себе, включая палатки, а я, помимо своего рюкзака, тащу еще и рюкзак Оли Соколовой. Оля сплетает венок из ромашек и надевает мне на голову. Я, упиваясь ролью рыцаря, не чувствую тяжести и пытаюсь бренчать на гитаре.
Наверное, мы прошли километров двадцать, прежде чем достигли конечной точки нашего пути. Только там от нескольких пионеров из числа деревенских мы узнали, что стоянка наша находится в каких-нибудь пяти километрах от «Дружбы» и в трех сотнях метров от другого пионерлагеря под названием «Кристалл».
Выдумщик Чубаровский одурачил нас, мы сделали огромный крюк для того, чтобы попасть в относительно безопасное место недалеко от метрополии. То есть Володя предпринял с нами почти то, что сделал когда-то с евреями в Синайской пустыне Моисей. Спасибо, что Володя не водил нас по Истринскому району сорок лет. Впрочем, я не уверен, читал ли Библию Володя Чубаровский.
В этом походе у нас было три ночевки – поразительное дело для пионерских лагерей нашей страны. Мы разбили пал
Страница 28
тки, нарубили дров, соорудили маленькую мачту, на которую был торжественно водружен чей-то пионерский галстук. Чубаровский быстро распределил обязанности. Кому разжигать костер, кому натаскать воды, кому рыть ямы для отходов. Балагану было поручено для поднятия боевого духа петь частушки – устали все страшно.– Только вот что, Шурик, давай без твоих этих… лирических отступлений, – приказал Володя и сделал строгое лицо.
Лирическими отступлениями он называл частушки неприличные, коих к тому времени мы знали немало и исполняли в вожатских комнатах на бис.
Что-то типа такого:
Наступила осень, отцвела капуста,
И совсем завяли половые чувства.
Ближе к ужину из лагеря на зеленом Сережином «москвиче» приехал Мэлс Хабибович в компании с Юрой Гончаровым. Мэлс проверил, что никто из нас не окочурился, и вскоре отчалил, а Юра Гончаров остался и, забрав у меня гитару, долго исполнял хорошие песни. На танцах их не играли, такие песни слушать надо. Мы сидели у костра, никому и в голову не приходило прятаться в палатку. Да и что там было делать, все, кто курил, делали это безо всякого стеснения, даже парочки уже обнимались у всех на глазах, и вообще в том походе появилось такое ощущение всеобщего равенства и братства, прям как у участников Французской революции, но безо всякой там гильотины.
Когда были спеты все или почти все песни, частушки, в том числе и с лирическими отступлениями, пересказаны все смешные и грустные истории, мы просто сидели и смотрели на костер. Ведь так здорово сидеть и смотреть на пламя: внутри трещат дрова с разным тембром, иногда так тихонько зашипит, а иногда громко что-то там стреляет, всем очень тепло и уютно, а лица становятся в свете костра загадочными и красивыми, особенно у девчонок…
– Плохое мы место выбрали, гиблое! – вдруг громко сказал пионер из деревенских Сережа по кличке Бутуз. Все вздрогнули, даже сидевший рядом Юра Гончаров, настолько это было сказано неожиданно, ну и как-то совсем не в кассу.
– Да ладно тебе, нормальное место, хорош пугать! – возмутился Балаган. – Ты, Бутуз, своим сельским фольклором достал уже всех!
– А вот когда мы сюда шли, ты, Балаган, кладбище видал? – прищурился Бутуз.
– Вид-а-а-ал? – передразнил того Шурик. – Я, Бутуз, много чего видал, у меня мама акушер-гинеколог!
Все радостно загоготали, кроме деревенских. А кладбище и точно было, мы его проходили, перед тем как к нашему месту стоянки свернуть, оно там и есть, никуда не делось, до него идти быстрым шагом минут пятнадцать, не больше. Оно еще очень старым показалось и заброшенным, это лесное кладбище.
– Ну а ты знаешь, Балаган, что каждую ночь сюда на кладбище баптисты приходят, здесь деревня недалеко, и там баптисты эти самые живут! – сделав страшное лицо, продолжил Бутуз.
Оля Соколова придвинулась поближе ко мне.
– И что там им делать, этим твоим баптистам, на кладбище ночью? – спросил я Бутуза небрежным таким тоном, еще бы, все на меня смотрят, да и Оля рядом.
– Кровь они пьют там на могилах в полночь, вот что! Нам об этом старики говорили, они их там много раз видели, скажите? – обратился к своим Бутуз.
Деревенские согласно закивали. Оля прижалась ко мне, и я почувствовал, как она дрожит… Остальные девчонки тоже струхнули, сидят, глаза вполлица, да и пацаны стали на лес оглядываться. Один только детдомовец Леня, который сидел напротив, подмигнул мне так выразительно и пальцем у виска покрутил, присвистнув, мол, все они, эти из деревни, – ку-ку!
– Да какие могилы, какая кровь! – отважно произнес я. – Все вы в своей Глебовке ку-ку! Баптисты, Бутуз, не вурдалаки, они кровь у мертвецов не высасывают!
– А ежели ты такой умный, Мотор, – обидевшись за родное село, засопел Бутуз, – сходи ночью на кладбище, вот прямо в полночь и сходи! Мы тогда и посмотрим, кто из нас ку-ку!
Тут мне почудилось, что все на меня уставились с выражением некоего ожидания, а Оля вдруг заглянула мне в лицо и неожиданно рассмеялась. И как-то сразу стало очень обидно. Особенно когда ее смех подхватила добрая половина отряда. Хотя они, наверное, правы: сидеть и умничать у костра, где сорок человек, это одно, а в полночь на могилах – совсем другое. Пауза стала затягиваться ну уже совсем неприлично!
– Да запросто схожу, тоже мне, напугал ежа голой жопой! – резво вскочил я с места. – Сколько времени сейчас, Вовка? – спросил я у Антошина как у одного из немногих обладателей часов.
– Без двадцати двенадцать, – прищурившись, разглядел тот стрелки. – Да ладно тебе! – спокойно продолжил он. – Не суетись, пьют не пьют, кому какая разница!
Я и сам был не рад, что начал эту бодягу, меня и Балаган начал отговаривать, а кто точно бы меня отговорил, так это, конечно, Чубаровский, но тот минут десять назад, извинившись, ушел в палатку, намаялся с нами, горемычный. И мне продолжало казаться, что все ждут чего-то такого от меня, и особенно Оля. Я быстро собрался, выхватил у Балагана фонарь, накинул на плечи одеяло, повесил зачем-то гитару на шею, а за пояс заткнул топор.
– А топор-
Страница 29
о тебе зачем? – ядовито поинтересовался Некрасов. – От баптистов отбиваться?Вася победно оглянулся на всех, мол, все ли оценили, какой он остроумный? Некоторые с готовностью заржали, в том числе и Оля. Тут мне стало еще обиднее.
– А топор мне, Некрасов, для того, чтобы тебе по кумполу врезать, идиот! Так, все, я пошел, может, кто со мной хочет? – на всякий случай, безо всякой надежды спросил я.
И тут вдруг Дима, рыжий флегматичный заика, основная интеллектуальная сила нашего отряда, заикаясь, выразил полную готовность составить компанию:
– П-п-п-пойдем, Алексей, р-р-р-разомнем ноги п-п-п-перед сном!
Ну, мы и почесали с ним, я еще и подгонял его, говорил, что у нас времени в обрез, нужно к полуночи успеть для чистоты, так сказать, эксперимента. Не успели мы отойти от полянки и зайти в лес, как стало совсем темно, еще какое-то время позади звучали голоса, чей-то смех, а потом наступила тишина, не было слышно даже ветра. Только шорох наших шагов да изредка какая-то птица ночная кричала неподалеку, нагоняя страх.
Фонарь наш светил еле-еле, выхватывая лишь тропинку.
Я попытался было побренчать на гитаре, но от этого стало совсем жутко, и мы просто шли с Димой и негромко разговаривали. Я говорил о том, какие же балбесы эти деревенские, приписывают баптистам всякие страсти-мордасти, вроде участия в кровавых пиршествах на могилах.
– Да, п-п-п-понимаешь, Алексей, – отвечал Дима, – им же н-н-н-не объяснить, что баптизм то же христианство, но б-б-б-без излишней мистики, они даже и к-к-к-крестят только в сознательном возрасте! Ну, что уж тут п-п-п-поделаешь, это же все невежество наше р-р-р-российское, ну и типичная страсть к п-п-п-переиначи-ванию слов и их смысла, – грустно усмехнулся Дима, объяснив мне попутно истоки слова «фармазон».
Тут мы к повороту подошли, а у поворота совсем густой туман стоял, мы пошли молча и бесшумно, как в вате.
– Вот оно, к-к-к-кладбище! – произнес тихо Дима, взмахнул рукой и… исчез!
И я остался один в этом проклятом тумане, а кругом были тени крестов и очертания могильных холмов.
– Дима! – громким шепотом позвал я. – Дима, ты где?
А сам думаю: ну все, труба, съели моего Диму баптисты эти чертовы, сейчас и за меня примутся!
– Алексей! – раздался голос из-под земли, и я весь похолодел. – Алексей, п-п-п-пожалуйста, дай мне руку!
Липкий ужас сковал меня. Значит, Дима уже в могиле и превратился в этого. ну, вот которые.
В тумане мы не заметили яму. Может, это действительно была свежевырытая могила, а может, и обычный кювет, только Дима шагнул туда и провалился и теперь зовет меня на помощь, а я весь оцепенел и не сразу понимаю, что к чему. Дальше все было просто. Я вытащил Диму, мы побродили с ним между оградами, подивились на то, как красиво и загадочно светятся зеленым в темноте подгнившие деревянные кресты. Дима мне объяснил этот феномен, назвав его «фосфоресцирование», и мы, прихватив найденный на земле истлевший венок, двинулись обратно.
Венок был необходим как доказательство нашей отваги. Обратный путь почему-то был совсем нестрашным, я наигрывал веселые песенки, а заика Дима даже пытался подпевать. Птицы и то кричали в какой-то мажорной гамме, а фонарь, хоть и вовсе сдох, был нам уже не нужен, глаза привыкли к темноте. Вскоре стали слышны голоса, кто-то пел про клен, который шумел над речной волной, потом деревья расступились, и мы увидели костер и вокруг него наших, хотя многие уже разбрелись по палаткам спать.
Наше появление не вызвало никакого фурора, более того, нас встретили, как мне показалось, даже равнодушно. Ну, сходили и сходили, а что нет на могилах никаких вампиров, вроде все об этом знали и так. А Оля Соколова, та и вовсе сидела рядом с Андреем Тетериным, который набросил ей на плечи свою куртку, и чему-то заливисто смеялась, как полная дура. Когда я подошел к костру, она скользнула по мне равнодушным взглядом и снова принялась хохотать.
Как же так, а ведь уже казалось, что…
Я бросил венок в костер, закурил и сел подальше от хохочущей Оли. Откуда-то сбоку показался Леня, перекатывая в руках что-то круглое и черное.
– Не парься, Леха! – сказал Леня. – Из-за этих баб париться – себя не уважать, лучше поешь картошечки, я тебе испек, пока ты по могилам бегал!
Наутро Володя Чубаровский выполз из палатки, еще толком не рассвело, он растерянно оглядел пространство вокруг потухшего костра, где лежало несколько парочек из тех, которым не нашлось места в палатках, и произнес с восхищением и, как мне показалось, с тайной завистью:
– Ну, дают, акселераты!
Ему в ту пору шел уже двадцать первый год…
Поговорим о любви. О любви пионерской.
Пионерская любовь коварна и недолговечна, она гораздо более скоротечна, чем мимолетные курортные романы у старшего поколения.
Порой бывало, что какой-нибудь пионер начинал ухлестывать за одной пионеркой, через неделю за другой, а в конце смены за третьей. А бывало и так, что в одну какую-нибудь смену один парень нравится сразу четырем девочкам первого отряда и еще трем
Страница 30
з второго, ходит такой гордый, думая, что всегда так будет, а на следующую смену приезжает – и все, не нужен никому, никто на него и не смотрит.Все симпатии и антипатии обсуждаются, с легким налетом цинизма, обычно в палате, после отбоя, некоторые горячатся, волнуются.
Мы – а именно Балаган, Антошин и я – в этих эротических диспутах участия почти не принимаем. Всем и так ясно, что гитаристы ансамбля вне конкуренции, вот мы и не суетимся.
Но не всем так везет, иногда разыгрываются настоящие драмы, зачастую переходящие, впрочем, в комедию. Одна такая история случилась как раз в том нашем походе.
Шурик Опанасенко вдруг сильно и безнадежно влюбился. Его избранницей стала стройная девочка Катя с большими оленьими глазами, внучка одного до ужаса знаменитого академика. Она была очень красивая, эта самая Катя, но конечно же малость инфантильная для своих неполных четырнадцати лет. Шурик любил Катю с отчетливым театральным оттенком, будто разыгрывал шекспировскую трагедию.
В таком состоянии некоторые особо экзальтированные персонажи вскрывают себе вены или демонстративно уходят в монастырь. Ни на то ни на другое Шурик не решался, он просто сидел на лавочке у футбольного поля, курил, страдал и часами смотрел на то, как девушка его мечты крутит обруч в окружении подружек. У Кати это получалось по-настоящему хорошо, и она подолгу, на виду у всех, оттачивала мастерство, изводя своего воздыхателя.
– Как жизнь? – спрашивали мы у пребывающего в меланхолии Шурика.
– Да разве ж это жизнь, чуваки, моей Кате только в куклы играть, для нее эти подружки дороже, чем… короче, чуваки, дороже всего!
Затем Шурик отворачивался от нас, мол, идите себе куда шли, не мешайте страдать!
По замыслу Шурика все должен был решить этот поход, сейчас или никогда! Он жадно, в три затяжки выкурил сигарету, глубоко вздохнул и, оглянувшись, отправился в палатку, где поселилась Катя со своей подругой. Он увидел лежащую в темноте Катю, присел рядом, тяжко вздохнул и взял ее за руку. К несказанному Шурикову удивлению, рука его не была отброшена, а даже наоборот. Шурик позволил себе еще более смелое движение, и опять его поползновения не были отвергнуты! Тогда Шурик решил продолжить…
Одна из Катиных подруг по имени Наташа нравилась, правда без особого надрыва, одному нашему пионеру по имени Слава. Именно он во время утреннего перекура и рассказал нам всем про это ночное приключение.
– Я, – говорит Слава, – решил подкатиться к Наташке, посмотрел, вроде в палатке больше нет никого, вот я и прилег к ней, а она меня козлом назвала и из палатки выскочила. Ничего, думаю, походит-походит да вернется. И точно, минут через десять пришла и так нежно за руку меня взяла, прощения, значит, просит. Ну и я тоже ее по ручке погладил, мол, прощаю! Потом вдруг обниматься полезла, вообще ништяк, ну и я тоже не отстаю. Ну а потом она как начала меня целовать, у меня аж дыхание сперло! А потом. потом кто-то в палатку вошел, полог откинул, свет от костра сразу! И я гляжу, а это никакая не Наташка, а какая-то усатая рожа! Это меня Опанасенко целует!!!
Славик отчаянно плевался, ну а мы ржали как кони!!!
У других ребят были не такие сложные отношения с девушками, как у Опанасенко со Славиком. Каждый находил себе пионерку по вкусу, а самые отчаянные умудрялись влюбляться даже в пионервожатых.
Вторая смена заканчивалась, и на заключительном концерте мы сыграли куда лучше, чем на дебютном. В финальной части опять пели гимн, и снова весь зал вставал и пел, а во мне стало расти, нет, не решение, а некое чувство, которому я не мог дать тогда внятного определения.
В день отъезда на футбольном поле перед посадкой в автобусы можно было наблюдать удивительную для пионерских лагерей картину.
Детей как будто везли не по домам, а в критский лабиринт на съедение Минотавру, так много было рыдающих, причем в голос, девочек. Мальчики, конечно, не позволяли себе ничего такого, но и они в основном были сдержанны и печальны.
Исключение составляли те, кто должен был вернуться сюда в августе на третью смену через несколько дней. В числе этих счастливчиков был и я, моя путевка ждала меня в Москве, спасибо Маргарите Львовне.
Галифе с лампасами
– Доктор! Просыпайтесь, доктор! Раненого привезли! – ворвался откуда-то снаружи голос, моментально раскидав в стороны обрывки сна. Все-таки интересно устроен человек. Дома мне нужно минут десять, чтобы в себя прийти после пробуждения. Буду громко зевать, потягиваться, бормотать, глаза чесать, а тут, только Сонька коснулась плеча и громким шепотом сообщила про раненого, секунды не прошло, как я уже и с дивана вскочил, и обулся, и халат накинул, и на светящиеся стрелки своего «Ориента» успел взглянуть. Пять утра с копейками.
Так, а почему сразу к нам? Обычно раненых в хирургию или в травму везут, а если что по урологической части, то нас туда вызывают. Ладно, разберемся.
Накатила легкая тошнота и знакомая тупая боль под диафрагмой. С голодухи, с недосыпа, да и осень, пора уж моей язве обострить
Страница 31
я. Эх, позавтракать бы, не знаю, чаю там выпить, кашку съесть. А лучше всего приносить на дежурство йогурты, как Дима Мышкин. Красиво, удобно и вкусно. Но где на эти йогурты денег взять?Я быстро шел, почти бежал по пустому, темному, широкому коридору, который сейчас чем-то напоминал тюремный. Слева проносились белые пятна высоких дверей палат, справа серые проемы окон, за которыми еще ночь. Разогнавшись, я с удовольствием проехал несколько метров по плитке, как по льду. Больных вроде нет, никто не увидит, как у доктора детство играет. Полы в нашем корпусе выложены старинным венским кафелем, который вот уже два века шлифуется подошвами десяти поколений. По этому полу хорошо в таких ботинках, как у меня, бегать, одноклассница купила мужу на лето, ему, на мое счастье, велики оказались. Будто специально для больницы сделаны, парусиновые, легкие, словно тапочки, бесшумные, а то в часы посещения, бывает, являются некоторые дамы на каблуках, да еще с металлическими набойками. От них стук по плитке такой, будто гвозди в мозг забивают. Будь моя воля, я бы за металлические набойки в больнице штрафовал безо всякого снисхождения.
Закрутившись по часовой стрелке вокруг клети лифта, мигом преодолев три лестничных марша, я выскочил на первый этаж и лихо финишировал у гардероба, где горел свет и раздавались голоса.
На полу стояли носилки, которые обступили несколько здоровенных мужиков с автоматами, в темно-синей форме и в беретах. Омоновцы. По выражению их лиц было понятно, что тот, кого они доставили, им точно не товарищ по оружию.
Я очень не люблю, когда носилки с больным ставят на пол. Можно сказать, не переношу. Живой человек в больнице не должен лежать на полу, как покойник в мертвецкой. Да и плюхаться на колени, чтобы осмотреть такого, тоже не очень хочется.
– Каталку подгони! – бросил я Соньке, которая оказалась неподалеку, а сам присел над человеком в какой-то чудной военной форме, который лежал на этих носилках почему-то на боку, со странно заведенной за спину рукой, и уже вслед крикнул: – Тонометр захвати!
В нос сразу ударил запах прелой крови и дыма. Кровь на одежде пахнет не так, как в пробирке, не так, как в операционной. Это особый запах. Кровь с дымом – особый вдвойне. Запах войны.
Рука у человека была прикована наручником к продольной трубе носилок, гимнастерка на спине промокла бурым пятном, под ним натекла темная лужица. Брюки были какие-то странные, синие, с лампасами. Ага, все понятно, казачок. Скорее всего, тоже оттуда, из Белого дома.
– Что тут случилось? – как обычно в таких случаях, задал я стандартный вопрос, но ответа не услышал. Пульс на локтевой был частым и слабым. Подняв глаза, я сообразил, что, кроме омоновцев, в гардеробе никого нет. Ни врача со «скорой», ни фельдшера.
– Вот привезли ему лоб зеленкой намазать, – зло хмыкнул один из этих бугаев с погонами лейтенанта. – Жалко у нас своей нету!
– Где сопровождение? – чувствуя подступающее раздражение, спросил я его. Тоже мне, остряк. – Где врач?
– Мы и есть… сопровождение, – с вызовом ответил лейтенант. – Сопровождаем таких тварей, вместо того чтобы там на месте исполнить! Саня, позови ханурика этого!
Он кивнул одному из своих, и тот нехотя отправился на улицу.
– Наручники отстегните! – сказал я. – Мне его осмотреть надо!
Никто и не подумал шевельнуться. Я поднялся.
– Ну, вот что! Или отстегивайте, или увозите, откуда взяли! – показал я пальцем на дверь. – Здесь не тюрьма, а больница!
Лейтенант недобро зыркнул, видно, хотел сказать веское слово, да передумал. Вместо этого он кивнул другому бойцу, и тот, вытащив ключ, подошел, опустился, кряхтя, на корточки, слегка задев меня плечом, отчего я сразу сдвинулся на полметра. Он был больше меня раза в три.
Пока этот воин правопорядка возился, дуло его короткого автомата скреблось то о носилки, то об пол. Какие-то неприятные, нездешние звуки. Не больничные.
Кровь уже запеклась, и гимнастерка отлипала от тела с хрустом. Вот она, ровная такая дырочка, нитки в нее впились, ссадина вокруг, копоть и следы точечных ожогов от порошинок. Все ясно, почти в упор стреляли, а рана-то, похоже, слепая.
Когда я стал переворачивать казачка на спину, он скрипнул зубами и слабо застонал. Серое лицо, плохо дело. Хорошо, пока сам дышит. Так, они ему и другую руку к носилкам приковали. Интересно, что за граф Монте-Кристо такой? Но тут упрашивать, слава богу, не пришлось, лейтенант сам наручник снял, к поясу пристегнул, ключик куда-то в нагрудный карман спрятал и с осуждающим вздохом уселся на банкетку, которая застонала под ним и прогнулась аж до самого пола. У них у каждого свой ключик, оказывается.
Выходного отверстия на животе не было, значит, и правда ранение слепое, но, судя по топографии входного, почка точно задета, а если повредили почечную ножку, жить ему осталось недолго. И пока я ему мял, пальпировал живот, казачок на секунду приоткрыл глаза, в которых плеснулась боль и какая-то нечеловеческая тоска.
Сзади грохнула каталка: Сонька впереди, а напар
Страница 32
ица, симпатичная, но невероятно ленивая и наглая Людка – замыкающей.– Сонька, мухой приготовь в перевязочной подключичный набор, капельницу с полиглюкином, сыворотки для определения группы с резусом, вызывай анестезиолога и Белова растолкай! – принимая у Соньки тонометр, не прерывая осмотра, приказал я. – А ты, Люда, сбегай к операционным сестрам, скажи, чтоб срочно к нефрэктомии готовились. И ножницы, которыми они марлю режут, попроси у них на пару минут.
Сонька вмиг испарилась, а Людка, всем своим видом показывая, что делает мне одолжение, поплелась, лениво покачивая бедрами. Шла бы уж тогда на панель, там хоть деньги платят.
Верхнее давление восемьдесят, ну я так и думал. А слева на воротнике откуда кровь? Да и ухо в крови. Завиток как срезало. Я повернул казачку голову и заглянул. За ухом тоже следы от порошинок. Значит, ему еще и в затылок выстрелили. Интересно, мне вообще кто-нибудь объяснит, что произошло?
Тут наконец в дверях появился какой-то странный дерганый тип с бегающими глазами, в расстегнутом, невероятно грязном белом халате поверх засаленной куртки. И правда ханурик. Я его сразу окрестил Дуремаром, уж больно он был похож на этого персонажа из фильма про Буратино. Ему бы еще сачок в руки – не отличишь.
Я сделал в его сторону пару шагов, борясь с соблазном с ходу дать этому деятелю в нос.
– Вы первый раз раненого с кровопотерей видите? – завел я бесполезный в принципе разговор. – Почему без обезболивания, почему без капельницы, почему рана не обработана, без повязки? Вы медик или таксист? Какой диагноз вы ему ставите? Где сопроводительный лист?
– Ну, так я ж это…… – стал он разводить руками, смотря почему-то не на меня, а на омоновцев, – какие там капельницы, мне сказали, я повез…
Кретин какой-то. Сказали ему.
– А давление вы ему хоть раз измерили? – автоматически продолжал я выговаривать. – Или пульс? Ради интереса?
– Ребят, мне б носилки назад, – заискивающе начал канючить Дуремар, не обращая больше на меня внимания, – сами понимаете, куда ж я без них? У меня ведь сегодня работы непочатый край…
Ладно, с ним только время терять.
Весьма кстати притащилась Люда, у которой я вырвал ножницы и мигом располосовал на раненом гимнастерку и эти синие штаны с идиотскими лампасами. Людка принялась стаскивать с него сапоги. Невиданное дело, сама инициативу проявила, да только они и не думали слезать.
– Подожди, дай-ка! – Отодвинув Людку, я быстро стянул с казачка сапоги вместе с носками, хотя по логике ожидались портянки. – Тут нужно за пятку тянуть!
Конечно, не докторское дело такими вещами заниматься, но ведь наши сестры не умеют поступающих с улицы раздевать, нет опыта.
– Мужики, – обратился я к омоновцам, – раз, два, взяли!
К счастью, они не стали выделываться, и мы дружно переложили казачка с носилок на нашу каталку и укрыли его простыней.
Теперь нужно сразу вставить ему подключичку, не дожидаясь анестезиолога, определить группу крови и резус, заказать этой крови литра полтора и до операции успеть немного прокапать, а то ведь станичник на столе загнется, очень даже запросто.
Тем временем Дуремар радостно подхватил освободившиеся носилки и бегом потащил их на выход, изгваздав по пути пол кровью, которая ручейком потекла с его орудия труда. Интересно, он думает сопроводительный талон оформлять?
Я уже было приготовился бежать в перевязочную вслед за каталкой, но вдруг услышал, как на улице хлопнула дверь машины и почти сразу взревел мотор.
Еще толком не рассвело, но, выскочив на крыльцо, я разглядел удаляющийся темный фургон-уазик. Вот включился левый поворотник, и он скрылся за углом корпуса. Ну, теперь все понятно.
– Какая-то «скорая» странная, правда, доктор? – Сонька, почуяв неладное, выбежала за мной. – Я таких раньше и не видела.
– Сонька, звони в приемное, пусть номер истории болезни дадут. – Я машинально нашарил сигареты и прикурил. – Оформляйте как самотек. И промедол сразу на него спиши. Это не «скорая».
– А что же?
– Труповозка.
Третье августа 1987 года
Она очень хорошо подготовилась.
Рецепты – даже не рецепты, а рецептурные бланки – ей, медсестре Бакулевского института, достать не составило особого труда. А вот отоварить их все, не вызывая подозрений у фармацевтов, удалось лишь за пару дней. Зато теперь хватит наверняка, с запасом. Шутка ли – триста таблеток фенобарбитала, этого и слону достаточно.
Слоном она не была, это уж точно: при ее росте весить пятьдесят килограммов – несбыточная мечта большинства девушек, да и выглядеть так же хотели бы многие. Густые волосы, красивый рот, узкая спина, тонкая талия и огромные зеленые глаза. Наверное, и в этот день на нее, как обычно, оборачивались на улице, но ей было уже все равно.
Свой дом отпал как-то сразу, почему-то не хотелось, чтобы это произошло там, в ЕЕ доме. Сойдет и соседний, тем более все они, эти дома в их дворе, одинаковые. Главное, как говорится, чтобы никто не засек. Раньше, когда они курили с девчонками на площадке у лифта, тоже всегда
Страница 33
оворили: хорошо бы никто не засек. А то выйдет какая-нибудь старая карга и начнет голосить про родителей и милицию.Но сегодня она не курить собралась, сегодня все должно быть без осечки.
Осечки не произошло. Полдень, все на работе или в отпусках, ну а пенсионеры на своих грядках. Жара уже третий месяц, а что тут удивительного – лето. От самого подъезда до двери на чердак никто не встретился, вот и хорошо. Она с усилием толкнула дверь, поднажав плечом, та заскрипела, поддалась не сразу, но открылась. Проем был низкий, пришлось немного пригнуться, чтобы юркнуть внутрь. Она быстро прикрыла дверь за собой и огляделась. Поначалу показалось, что совсем темно, но потом, когда привыкли глаза, оказалось, что свет есть, падает из маленьких слуховых окошек. Свет – это хорошо, теперь нужно убедиться, что и здесь никто не помешает. Но вокруг никого и ничего, кроме голубиного помета, мотков стекловаты и пары каких-то пустых ящиков.
Она подтащила ящик поближе к окошку, устроилась рядом, достала из кармана ручку, листок бумаги и зачем-то конверт. Ну, теперь, кажется, все! И только сейчас, расстелив листок на грязном ящике, поняла, как трудно будет изложить на бумаге причину, тем более что их несколько. Она немного подождала и опять не нашла нужных, главных слов, которые помогут объяснить все… Кому? Действительно, не напишешь же «Тому, кто меня найдет!».
Значит, можно и без письма, так даже проще, если не получается без сумбура выложить все то, что привело ее на этот чердак.
Она вытащила из сумки бутылку нарзана, разорвала три первые упаковки с таблетками, высыпала их на листок. Одна таблетка веселым белым колесиком покатилась по ящику и спрыгнула куда-то в темноту. Рванулась было найти, подобрать, да потом остановилась – охота в грязи и потемках ползать, когда этого добра полная сумка.
И лишь когда начала донышком давить таблетки в порошок, в голове пронеслось: «Как же глупо!»
В самом деле, ну как же этим летом все пошло по-дурацки! Сначала поссорилась с парнем, еще зимой договорились двинуть на юг, большой компанией, но вдруг решила для себя: попробую еще раз, третий – последний! Не всю же жизнь стоять в операционной и подавать инструменты, как дрессированная обезьянка, последний раз попробую поступать в этот, Второй Мед, чем черт не шутит, а вдруг повезет? Но парень обиделся, много всяких слов наговорил, он ехать настроился, ну и в ответ тоже много всего услышал.
Конец ознакомительного фрагмента.


