Читать онлайн “Аббат” «Вальтер Скотт»
- 19.04
- 0
- 0
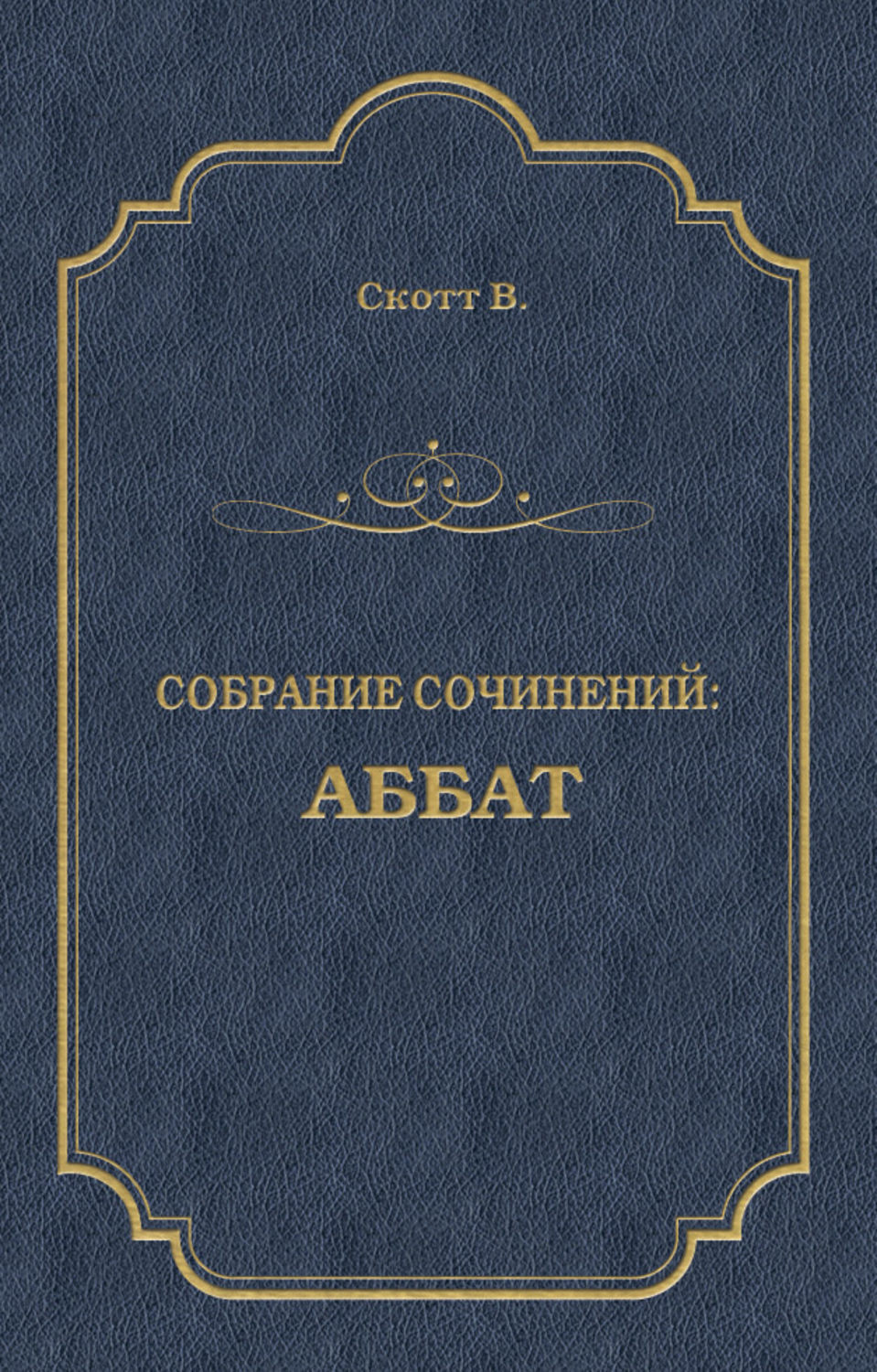
Страница 1
АббатВальтер Скотт
Собрание сочинений #11
Вальтер Скотт (1771–1832) – английский поэт, прозаик, историк. По происхождению шотландец. Создатель и мастер жанра исторического романа, в котором он сумел слить воедино большие исторические события и частную жизнь героев. С необычайной живостью и красочностью Скотт изобразил историческое прошлое от Средневековья до конца XVIII в., воскресив обстановку, быт и нравы прошедших времен. Из-под его пера возникали яркие, живые, многомерные и своеобразные характеры не только реальных исторических, но и вымышленных персонажей. За заслуги перед отечеством в 1820 г. Скотту был дарован титул баронета.
Роман «Аббат», публикуемый в этом томе, является продолжением романа «Монастырь». Действие в нем происходит в годы острого религиозно-политического конфликта между движением Реформации и сторонниками католической церкви. Приключения главного героя, история его любви и тайна его происхождения являются ведущей интригой романа; ее движение и повороты определяются историческими событиями.
Вальтер Скотт
Аббат
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2009
* * *
Предисловие к «Аббату»
[1 - Работая над «Монастырем», Вальтер Скотт задумал и его продолжение – роман «Аббат». В предшествующем тексту «Монастыря» послании от капитана Клаттербака автору «Уэверли» говорится, что рукопись, переданная капитану неким монахом-бенедиктинцем, состоит из двух частей. В конце «Монастыря» Скотт уведомляет читателя: «На этом заканчивается первая часть рукописи бенедиктинца».«Монастырь» появился в марте 1820 года, а в сентябре того же года издатель Лонгмен выпустил в свет «Аббата». За этот промежуток времени первоначальный замысел «Аббата» несколько изменился. Сперва Скотт хотел сосредоточить повествование вокруг того же Мелрозского аббатства, которое описано в «Монастыре» под именем Кеннаквайрского. Но затем обстоятельства, относящиеся к жизни монастыря, были оттеснены другим материалом, и лишь одна сцена романа разыгрывается в стенах Кеннаквайрского аббатства. В ответе автора «Уэверли» капитану Клаттербаку Скотт говорит о «сокращениях и изменениях», якобы произведенных им в «рукописи бенедиктинца», и отмечает, что название романа «перестало соответствовать его содержанию». Действительно, аббат Амвросий занимает в романе более или менее заметное место, но отнюдь не является ведущим его персонажем. Исчезла также и Белая дама – призрак, играющий значительную роль в сюжете «Монастыря». Зато большое внимание уделено историческим событиям и персонажам.]
Из того, что уже было сказано в предисловии к «Монастырю», с неизбежностью вытекает, что автор рассматривает этот роман как своего рода неудачу. Книгопродавцы, правда, не жаловались на плохой сбыт книги, ибо, если не считать особо счастливых или, в противоположном случае, столь же несчастливых обстоятельств, популярность писателя не возникает и не меркнет под влиянием какой-либо одной публикации. Морю нужно время как для прилива, так и для отлива. Тем не менее я сознавал, что в моем положении недостаточный успех в какой-то мере равнозначен поражению, и так как я, само собой разумеется, не испытывал особой склонности считать, что причины этой неудачи лежат во мне самом, мне, по крайней мере, хотелось точно установить, вызвана ли та степень неодобрения, которую навлек на себя мой роман, неискусно построенной фабулой или же недостаточным мастерством изложения.
Я никогда, признаться, не принадлежал к числу тех, для кого писательский мозг – нечто вроде молока, которое свертывается один-единственный раз, и кто вечно твердит молодым авторам, что им не следует расточать свои силы и слишком уж мозолить людям глаза, если они дорожат своей славой. Может быть, все дело в том, что я был и остаюсь равнодушным к тому, высоко ли оценивают меня как писателя, тем более что, в отличие от многих других, я не придаю столь большого значения тому, что отвлеченно именуется литературной славой – или, по крайней мере, той формой популярности, которая выпала на мою долю, ибо хотя было бы худшим видом лицемерия отрицать, что мой успех на поприще, куда я вступил в значительной мере случайно, тешит мое тщеславие, тем не менее я далек от мысли, что сочинитель романов бытовых или героических занимает столь уж высокую ступень в литературной иерархии.
Впрочем, я избавлю читателя от изложения своих взглядов по этому поводу, поскольку они достаточно полно представлены в вводном послании к первому изданию «Приключений Найджела»; и хотя они там вложены в уста вымышленного персонажа[2 - …в вводном послании к первому изданию «Приключений Найджела»… вложены в уста вымышленного персонажа… – Роман Вальтера Скотта «Приключения Найджела» вышел в 1822 г. Его открывает «Вводное послание капитана Клаттербака», в которое включена беседа-диалог между этим вымышленным персонажем и автором «Уэверли» о литературе.], они так искренни и непосредственны, как если бы я писал их, «сбросивши свой плащ
Страница 2
и перевязь».Короче говоря, когда я понял, что роман «Монастырь» не принес мне успеха, у меня тут же родилось искушение предпринять новую попытку и попробовать, не удастся ли мне восстановить свою так называемую славу, хотя бы даже с риском окончательно лишиться ее. Я окинул взглядом свою библиотеку и не мог не заметить, что со времен Чосера до Байрона[3 - …со времен Чосера до Байрона… – Чосер Джефри (1340–1400) – крупнейший поэт раннего периода английского Возрождения, автор знаменитых «Кентерберийских рассказов». Своего великого современника Байрона Вальтер Скотт глубоко почитал и вскоре после появления его первых поэм отказался от поэтического творчества.] наибольшую популярность обрели те, кто был наиболее плодовит. Даже Джонсон[4 - Джонсон Сэмюел (1709–1784) – английский писатель, критик, языковед, автор известного словаря английского языка, издатель Шекспира.], наш Аристарх[5 - Аристарх Самофракийский (217–145 до н. э.) – знаменитый греческий грамматик и критик, издатель и комментатор Гомера. Имя его стало нарицательным обозначением авторитетного и справедливого критика.], и тот допускал, что работоспособность и плодовитость сами по себе являются достоинствами, независимо от внутренней ценности созданного. Так говорят, кажется, о Черчиле[6 - Черчил Чарлз (1731–1764) – английский поэт-сатирик, в своих стихах высмеивал актеров (в частности, знаменитого Гаррика) и журналистов, в том числе Джонсона.], который не многого стоил, согласно предвзятому мнению Джонсона. Последний все же признал за ним достоинство плодовитости, хотя и со следующей оговоркой: «Дикая яблоня, в сущности, приносит лишь дикие яблочки; но есть великое преимущество у той яблони, которая дает большое количество плодов, хотя бы и посредственного качества, по сравнению с той, которая приносит их не так уж много».
Приглядевшись внимательно к корифеям литературы, чья деятельность была в равной мере долгой и блистательной, я как будто постиг, что на творческом пути, беспокойном и продолжительном, им приходилось, конечно, терпеть и случайные поражения, но все же истинные любимцы своей эпохи неизменно одерживали верх над подобными неудачами. Их новые успехи заставляли забывать о прежних промахах, их имена постепенно как бы сливались с литературой их народа, и после того, как критика долгое время навязывала им свои законы, теперь уже они сами в какой-то мере становились законодателями вкуса. А когда подобный писатель наконец уходил со сцены, только его смерть давала почувствовать, как велик был его вклад в сознание читающей публики.
Я припоминаю одно место из «Переписки» Гримма[7 - Гримм Фридрих (Фредерик) (1723–1807) – немецкий барон; прожил долгие годы во Франции и стал французским литератором. Был близко знаком с Руссо, Дидро и другими французскими просветителями. В своих многочисленных письмах, изданных под названием «Литературная, философская и критическая переписка», давал критические обзоры современной ему французской литературы.] о том, что когда неистощимый Вольтер выпускал памфлет за памфлетом[8 - …неистощимый Вольтер выпускал памфлет за памфлетом… – Вольтер был автором многочисленных сочинений памфлетного характера, направленных главным образом против католического фанатизма и мракобесия.], чуть ли не до самого конца своей долгой жизни, первое впечатление, производимое каждым из них в момент его выхода в свет, было таково, что он уступает предшествующим трудам. Это мнение возникало из всеобщего убеждения в том, что должен же фернейский патриарх[9 - Фернейский патриарх – прозвище Вольтера, поселившегося в 1758 г. в имении Ферне, на юге Франции, возле швейцарской границы.] наконец достичь той грани, за которой его творчество станет клониться к закату. И все-таки в конце концов общественное мнение заслуженно поставило последние памфлеты Вольтера в один ряд с теми, которые раньше вызывали восхищение французского народа. На основании этого и других аналогичных фактов можно, как мне кажется, прийти к выводу, что публика иной раз судит новые произведения не по их внутренним достоинствам, а в соответствии с теми внешними предубеждениями, которые еще раньше сложились у нее и над которыми писатель может попытаться одержать верх с помощью труда и терпения.
Такой опыт сопряжен с риском:
Коль уж свалился в воду, так прощай!
Теперь либо всплывешь, либо утонешь![10 - Теперь либо всплывешь, либо утонешь! – цитата из исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV», ч. I (акт I, сц. 3).]
Но подобного рода опасность угрожает каждой литературной попытке, и людей сангвинического темперамента она не пугает.
Я мог бы иллюстрировать свою мысль теми ощущениями, которые рождаются у многих путешественников. Когда какой-либо этап нашего пути представляется нам особенно скучным или, напротив, чрезвычайно интересным, чересчур коротким или неожиданно слишком долгим, наше воображение порой настолько преувеличивает первоначальное впечатление, что при повторной поездке нам уже обычно кажется, что мы сильно переоценили характерные особенност
Страница 3
этого этапа нашего странствия, и теперь уже дорога может показаться нам более монотонной или более приятной, более быстрой или более утомительной, нежели мы ожидали и – соответственно – чем это имеет место на самом деле. Требуется предпринять третье или даже четвертое путешествие, чтобы возникло истинное представление о том, насколько этот путь красив, насколько он длителен и каковы его другие качества.Вот так же точно и читатели, когда они обсуждают новое произведение, с которым не связывалось особых надежд, но которое неожиданно обрело успех, поддаются неумеренному восторгу, превозносят его выше, чем оно того заслуживает, и возводят детище своей случайной благосклонности в столь высокий ранг, который, если говорить об авторе, в равной мере трудно удержать и мучительно утратить. В этом случае, если писатель устрашится той выси, куда его занесло, и содрогнется перед призраком своей собственной славы, он может, конечно, и выбыть из игры, унося с собой свой выигрыш, но грядущие поколения приведут его славу в соответствие с его истинными заслугами. Если же он, напротив, снова ринется в бой, публика, вне всякого сомнения, станет судить его со строгостью, не уступающей ее прежней снисходительности. И если на этот раз плохой прием обескуражит его, он и тут может покинуть ристалище. Тот же, кто все-таки выстоит и справится с участью волана, который швыряют то вверх, то вниз, сумеет наконец более или менее уверенно сохранить в глазах общества тот уровень, который, видимо, был им завоеван по праву. В этом случае он мог бы, вероятно, похвалиться тем, что привлек к себе всеобщее внимание способом бакалавра Самсона Карраско, который закрепил флюгер Хиральды Севильской[11 - …способом бакалавра Самсона Карраско, который закрепил флюгер Хиральды Севильской… – Самсон Карраско – персонаж из «Дон Кихота» Сервантеса. В главе XIV второй части романа он рассказывает вымышленную историю о том, как он победил севильскую великаншу Хиральду и велел ей «стоять спокойно и не вертеться, ибо уже больше недели ветер дул только с севера». В действительности Хиральда (исп. giralda – флюгер) – установленный в XVI в. на башне севильского собора огромный флюгер, трехметровой высоты, изображающий статую победы.] на недели, месяцы или даже годы – до тех пор, пока ветер будет дуть в одну и ту же сторону. Именно о такой славе имел дерзость мечтать автор, и в стремлении достичь ее он принял смелое решение держаться постоянно на виду у публики, как можно чаще выпуская в свет свои сочинения.
Следует добавить, что инкогнито автора весьма укрепило его в смелом решении заново снискать расположение публики и наделило его преимуществом, несколько напоминавшим плащ-невидимку, которым пользовался Джек Убийца Великанов[12 - Джек Убийца Великанов – герой английских сказок.]. Выпуская своего «Аббата» сразу же вслед за «Монастырем», он следовал хорошо известной практической мудрости Бассанио[13 - Бассанио – персонаж из комедии Шекспира «Венецианский купец».]:
Бывало, в юности я упускал стрелу,
Тогда немедля ей вослед другую
Я посылал, стреляя в ту же цель,
И, проследив полет второй стрелы,
Я обе обретал[14 - Бывало, в юности я упускал стрелу… – цитата из «Венецианского купца» (акт I, сц. 1).].
Развивая эту аналогию, добавим, что стрелы его, подобно стрелам Малого Аякса[15 - Аякс – имя двух греческих героев, о которых рассказывается в поэмах Гомера. Аякс, сын Оилея, носил прозвище Малого, в отличие от значительно превосходившего его ростом другого Аякса, сына Теламона; последний обладал непомерной физической силой и имел огромный «семикожный» щит «с восьмой оболочкой из меди» («Илиада», песнь седьмая). В «Илиаде» Аяксы сражаются иногда вместе, но они не братья – Скотт ошибается.], выпускались с тем большей готовностью, что собственная особа стрелка была неуязвима для критики, подобно греческому лучнику, укрывшемуся за семикожным щитом старшего брата.
Если читателю захотелось бы узнать, на каком основании мы полагаем, что «Аббат» вознаградит нас за неудачу с «Монастырем», ему следовало бы прежде всего обратиться к вводному посланию, адресованному вымышленному капитану Клаттербаку. Этим способом реальный автор романа, используя опыт своих предшественников в этом литературном жанре, превращает одно из dramatis personce[1 - Действующих лиц (лат.).] в средство, помогающее ему изложить свои взгляды в форме несколько более художественной, чем непосредственное обращение к читателю. Занимательный французский писатель, автор волшебных сказок господин Пажон[16 - Пажон Анри (ум. 1776) – французский литератор, писавший в жанре волшебной сказки. Его «История принца Соли и принцессы Феле» вышла в 1740 г.], написавший «Историю принца Соли», показал любопытный образец подобного приема, заставив главного гения царства Романтики беседовать с одним из персонажей сказки.
В этом вводном послании автор доверительно сообщает капитану Клаттербаку свое мнение о том, что Белая дама не отвечает вкусам нашего времени, и знакомит его с теми мотивами, котор
Страница 4
е побудили его удалить ее со сцены. Автор не счел себя обязанным столь же откровенно высказаться по поводу другого изменения. Вначале предполагалось, что в «Монастыре» будут действовать некие сверхъестественные силы, возникшие в результате того, что Мелроз стал местом погребения сердца великого Роберта Брюса[17 - …Мелроз стал местом погребения сердца великого Роберта Брюса. – Мелроз – деревня на берегу Твида, в 60 километрах к югу от Эдинбурга; от нее получило свое название расположенное поблизости аббатство, которое сторонники Реформации разрушили в 1559 г. Роберт Брюс (1274–1329) – шотландский король с 1306 по 1329 г. Возглавил восстание шотландцев против английского господства, завершившееся после битвы при Бэннокберне (1314) возвращением Шотландии независимости.]. Однако в этом вопросе автор отступил от первоначального плана; работая над вторым романом, он также не отважился восстановить этот момент, не получивший развития в его первом труде. Благодаря этому эпизод с обнаружением сердца, который занимает большую часть предисловия к «Монастырю», остался загадкой, вводить которую не было особой надобности и которая так и не нашла в конце концов удовлетворительного объяснения.Я счастлив, что могу в этом случае сослаться на авторитет автора «Калеба Уильямса», который так никогда и не снизошел до того, чтобы раскрыть нам истинное содержание сундука[18 - …сослаться на авторитет автора «Калеба Уильямса», который так никогда и не снизошел до того, чтобы раскрыть нам истинное содержание сундука… – «Калеб Уильямс» (1794) – роман английского писателя Уильяма Годвина (1756–1836). Сундук действительно играет важную роль в сюжете романа: злоключения героя начинаются после его попытки вскрыть сундук, где хранилось нечто, разоблачавшее тайну его хозяина. Однако тайна открывается другим путем, а содержимое сундука так и остается неизвестным.], играющего столь важную роль в его интересном романе и даже давшего имя драме мистера Колмена.
Публика имеет некоторые основания настаивать на раскрытии тайны, но со стороны автора было бы не слишком разумным вдаваться в объяснения. Ибо сколь ни достойна похвал изобретательность, сводящая воедино все отдельные нити повествования, как это делает вязальщица, заканчивая чулок, тем не менее либо я сильно ошибаюсь, либо куда большее совершенство достигается во многих случаях той атмосферой реальности, которую придает работе, созданной по иному методу, отсутствие объяснения.
В самой жизни любому смертному приходится переживать много таких происшествий, происхождение и причины которых навсегда остаются скрытыми от человека; и если бы нам нужно было установить главное различие между реальным и вымышленным повествованием, мы бы сказали, что первое из них благодаря тому, что очень уж далеки причины событий, о которых оно рассказывает, кажется нам темным, сомнительным и загадочным; в то время как во втором случае долг автора в какой-то мере в том и заключается, чтобы удовлетворительным образом детализировать причины сообщаемых им отдельных событий или, короче говоря, всему изложенному подыскать соответствующее объяснение. Читатель, подобно Мунго из «Висячего замка»[19 - …Мунго из «Висячего замка»… – «Висячий замок» (1768) – фарс английского комедиографа Исаака Бикерстафа (ок. 1735 – ок. 1812). Мунго – чернокожий слуга, жалующийся на обилие поручений.], не получает удовлетворения, слыша о том, что ему не стало до конца понятным.
Итак, я отказался от всякой попытки разъяснить в предисловии к «Аббату» предшествующий роман или извиниться за его непонятность.
Точно так же было бы неблагоразумным попытаться возвестить в том же предисловии истинные причины моей надежды на то, что «Аббат» привлечет к себе больший интерес, чем его непосредственный предшественник. Бросающееся в глаза название или обещание захватывающего сюжета – вот рецепт успеха, излюбленный книгопродавцами, но писатели не всегда считали его достаточно эффективным. Их мотивы заслуживают того, чтобы вкратце на них остановиться.
В каждой стране есть некоторые необыкновенные исторические образы, которые, подобно чуду или магическим чарам, привлекают к себе особенное внимание и возбуждают любопытство, ибо всякий, кто хоть в малой степени проявляет интерес к стране, в которой он вырос, много слышал о них и стремится услышать еще больше. Роман о судьбах Альфреда[20 - Альфред, по прозванию Великий (849–900) – англосаксонский король, правил с 871 г.] или Елизаветы[21 - Елизавета I (1533–1603) – английская королева, дочь Генриха VIII.] в Англии, Уоллеса[22 - Уоллес Уильям (1270–1305) – национальный герой Шотландии, вождь начавшегося в 1297 г. народного восстания против англичан. После поражения восстания был схвачен англичанами и казнен.] или Брюса в Шотландии уже при первом извещении сразу заинтересует публику и поможет издателю избавиться от большей части экземпляров, прежде чем станет известно содержание этого произведения. Это необычайно важно для книгопродавца, который сразу же, выражаясь официальным языком, «оправдает
Страница 5
здержки», так как все затраченные им деньги будут ему тут же возмещены. Другое дело писатель, ибо не приходится отрицать, что мы получаем меньше всего удовлетворения от произведений, которые с помощью броского названия или хвалебной рекламы возбудили преувеличенные чаяния.Идея произведения обсуждается в этом случае раньше времени и оказывается неверно понятой или неправильно истолкованной; с другой стороны, несмотря на то, что трудности воплощения этой идеи вызывают заново в нашей памяти задачу Хотспера[23 - Хотспер (hot spur – англ. «горячая шпора») – прозвище сэра Генри Перси (1364–1403), воевавшего с шотландцами и взятого ими в плен в битве при Оттерборне. Хотспер выведен Шекспиром в исторической хронике «Король Генрих IV», часть I. «Пройти через гулко ревущий поток» – стих из этой хроники (акт I, сц. 3), однако произносит эти слова не Хотспер, а другой персонаж, Вустер, в беседе с Хотспером.] «пройти через поток, ревущий гулко», все равно отважный писатель встретит больше насмешек в случае неудачи, чем похвал, если он справится со своим предприятием.
Невзирая на риск, который должен был бы заставить автора призадуматься, прежде чем избрать тему, которая, вызвав любопытство и возбудив всеобщий интерес, зачастую ведет к разочарованию, все же было бы неблагоразумным принять решение, отпугивающее поэтов и художников от попытки создавать исторические образы только потому, что с этим нелегко справиться. Нужно в известной мере довериться благородному импульсу, часто толкающему художника на подвиги, несмотря на то, что ему известна их трудность, ибо он верит, что смелость и вдохновенные усилия предоставят ему возможность одержать победу. В том случае, когда автор сознает, что теряет успех у публики, особенно бывает оправдан такого рода умело использованный выбор темы или заглавия, как наиболее действенное средство заставить себя выслушать вновь. Именно с этими чувствами надежды и тревоги я отважился пробудить в своем романе память о королеве Марии[24 - Мария Стюарт (1542–1587) – «королева шотландцев» по официальному титулу, дочь короля Иакова V, умершего вскоре после ее рождения, и Марии де Гиз. Провозглашенная королевой еще в младенчестве, с семилетнего возраста воспитывалась при французском дворе. В 1558 г. вышла замуж за дофина, впоследствии короля Франциска II. После смерти Франциска вернулась в 1561 г. в Шотландию. Правление королевы-католички в стране, принявшей Реформацию, было с самого начала чревато конфликтами. В 1567 г. происходит открытый разрыв Марии с протестантскими лордами. Низложенная и заключенная в Лохливенский замок, Мария подписывает отречение, но 2 мая 1568 г. совершает побег и, после проигранного ее сторонниками сражения, бежит в Англию. Принятая своей соперницей и злейшим врагом королевой Елизаветой формально как гостья, Мария провела более восемнадцати лет в заключении, после чего ее предали суду и казнили 8 февраля 1587 г.], столь привлекательной своим умом, красотой, трагической участью и той атмосферой тайны, которая сейчас и, видимо, вечно будет связана с ее историей. Поступив таким образом, я сознавал, что неудача для меня будет сопряжена с окончательной катастрофой, так что мой труд походил на деяния чародея, который вызывает духа, не зная, справится ли он с ним; при этом я следовал тем правилам построения, которые, на мой взгляд, наиболее подходят при работе над историческим романом.
Уже достаточно было сказано о цели создания «Аббата». Исторические ссылки, как обычно, объяснены в примечаниях. События, связанные с бегством королевы Марии из замка Лохливен, излагаются здесь более подробно, чем в исторических источниках той эпохи.
Эбботсфорд, 1 января 1831 года
Вводное послание от автора «Уэверли» капитану Клаттербаку *** пехотного полка его величества
Дорогой капитан!
Из вашего последнего письма я с огорчением узнал, что вы не одобряете тех многочисленных сокращений и изменений, которые я вынужден был произвести в рукописи вашего друга бенедиктинца, и я через вас приношу извинения многим лицам, которые почтили меня больше, чем я того заслуживаю.
Признаю, что мои сокращения были весьма многочисленны и оставили пропуски в повествовании, которое в вашей первоначальной рукописи разрослось бы, как заверил меня издатель, чуть ли не до четырех томов. Кроме того, я сознаю, что в результате той свободы сокращать текст, которую вы мне предоставили, в некоторых частях повествования порядок оказался нарушенным за отсутствием важных подробностей.
Но в конце концов лучше, чтобы путник перепрыгнул через ров, чем тащился вброд по болоту, – чтобы читатель домыслил то, что легко можно возместить воображением, чем был бы вынужден пробираться через страницы нудных объяснений. Я вычеркнул, например, всю историю с Белой дамой и стихи, которые так удачно усиливали ее воздействие в первоначальной рукописи. Но вы должны согласиться, что вкусы публики ныне не одобряют эти суеверные легенды, которые некогда приводили в восторг и содрогание наших предков. Подобным
Страница 6
е образом должно быть воспринято и многое, иллюстрирующее мотив благочестивого рвения в отношении прежней религии у матушки Мэгделин и аббата.Мы ведь в нашу эпоху не испытываем глубокой симпатии к тому, что составляло некогда самую могучую и воодушевляющую силу в Европе, если не считать Реформации, которой она успешно противостояла.
Вы справедливо заметили, что эти сокращения привели к тому, что название больше не соответствует содержанию и что роману в его нынешнем виде больше бы пристало какое-нибудь другое название, нежели «Аббат», который играл такую важную роль в первоначальном варианте и к которому ваш друг бенедиктинец, видимо, внушил вам уважение и симпатию. Я готов признать свою вину, но в свое оправдание должен в то же время заметить, что хотя ваше возражение можно было бы легко устранить, дав роману новое название, однако, сделав это, пришлось бы нарушить необходимую связь между данной историей и ее предшественником «Монастырем», чего мне не хотелось бы делать, так как время действия и некоторые из персонажей в обоих романах одни и те же.
В конце концов, мой добрый друг, не так уж важно, как называется произведение или в чем кроется его основной интерес, если только оно привлекает внимание публики, ибо, как гласит старинная пословица, хорошее вино (если мы можем поручиться за его качество) не нуждается в вывеске.
Поздравляю вас с тем, что вы сочли благоразумным завести тильбюри[25 - Тильбюри – легкая двуколка в одну лошадь; название произошло от имени изобретателя этого экипажа.], и одобряю его окраску, а также цвет ливреи вашего мальчишки (бледно-зеленый с розовым). В отношении ваших планов завершения описательной поэмы «Развалины Кеннаквайра с примечаниями антиквария» я полагаю, что вы завели себе надежную лошадку. – Приветствую всех друзей, дорогой капитан, остаюсь искренне ваш и проч., и проч., и проч.
Автор «Уэверли»
Глава I
Domum mansit – lanam fecit[2 - Сидела дома и пряла шерсть (лат.).].
Древнеримская эпитафия
Дом заперев, она за прялкою сидела.
Гоуэйн Дуглас[26 - Дуглас Гоуэйн (1474–1522) – шотландский поэт. Его перу принадлежат две аллегорические поэмы – «Дворец Чести» и «Король Сердце», а также первые переводы на английский язык древнеримской поэзии.]
Время, текущее столь незаметно для нас, понемногу изменяет наш образ жизни, привычки и нравы, так же как и нашу внешность. На рубеже каждого пятилетия мы обнаруживаем, что стали иными, хотя и остались теми же самыми людьми: изменились наши взгляды, да и сам наш подход к вещам; изменились наши побуждения и поступки. Без малого два таких срока миновали в жизни Хэлберта Глендининга и его супруги между периодом, описанным в нашем предыдущем повествовании, где они играли существенную роль, и исходным моментом нашего нового рассказа.
Только два обстоятельства омрачали их брачный союз, во всем прочем настолько счастливый, насколько могла сделать его таковым взаимная любовь. Разумеется, первым из этих обстоятельств было то бедствие, от которого страдала вся Шотландия, то есть смута, охватившая эту несчастную страну, где каждый поднимал меч на своего соседа. Глендининг проявил такие качества, на которые рассчитывал Мерри[27 - Мерри Джеймс Стюарт (1531?–1570) – граф, побочный сын короля Шотландии Иакова V и Маргарет Эрскин (в браке – леди Лохливен), сводный брат Марии Стюарт и ее политический противник. Возглавил группу шотландских лордов, перешедших на сторону Реформации и свергнувших Марию с престола. После вынужденного отречения Марии стал регентом Шотландии (в романе Вальтер Скотт сознательно допускает анахронизм).]: он оказался верным другом, стойким в битве, мудрым в совете; побуждаемый чувством благодарности к Мерри, Глендининг действовал с ним заодно и в таких случаях, когда – будь он предоставлен исключительно своему усмотрению – предпочел бы соблюдать нейтралитет или присоединиться к противной стороне. Вот почему всякий раз, когда опасность была близка, – а далека она бывала редко, – патрон сэра Хэлберта Глендининга (носившего теперь уже звание рыцаря) приглашал его к себе для участия в дальних походах или рискованных предприятиях, а также для того, чтобы воспользоваться его советом по поводу разного рода темных интриг полуварварского двора. Таким образом, сэру Хэлберту Глендинингу нередко приходилось надолго покидать свой замок и свою супругу; к этому грустному обстоятельству присоединялось еще и другое – брак их не был благословен детьми, которым могло бы быть посвящено внимание леди Эвенел, когда она оставалась дома одна, будучи лишена общества своего супруга.
В такие периоды она вела совершенно уединенную жизнь в стенах своего родового замка, не общаясь почти ни с кем. В ту пору никому и в голову не приходило навещать соседей – разве только в дни каких-либо торжественных празднеств, – но и в этих случаях, как правило, ездили в гости только к ближайшим родственникам. Родственников леди Эвенел уже не было в живых, а жены окрестных баронов всем своим поведением подчеркивали
Страница 7
что видят в ней не столько законную владелицу замка Эвенелов, сколько жену крестьянина, сына монастырского вассала, который неожиданно возвысился и стал знатной персоной, снискав благосклонность весьма непостоянного Мерри.Родовую гордость, которая жила в сердцах потомственных дворян и откровенно проявлялась их женами, в немалой степени подогревали политические распри того времени, – ибо большинство лоулендских вождей стояло за королеву и весьма неодобрительно относилось к власти Мерри. По всем этим причинам владелице замка Эвенелов жилось в нем так тоскливо и одиноко, как только можно себе представить. Однако замок обладал тем существенным преимуществом, что его обитатели могли чувствовать себя в нем почти в полной безопасности. Читателю уже известно, что крепость была построена на островке, расположенном посредине небольшого озера, и, поскольку попасть в нее можно было только по дамбе, пересеченной двойным рвом и защищенной двумя подъемными мостами, она могла считаться неприступной для всякого не вооруженного артиллерией противника. Следовало остерегаться только неожиданного нападения, и стражи внутри замка, состоящей из шести боеспособных людей, было вполне достаточно для этой цели. В случае особо серьезной опасности составлялось довольно значительное ополчение из мужской части населения деревушки, возникшей заботами сэра Хэлберта Глендининга на небольшом клочке земли между озером и горой, почти рядом с тем местом, где дамба смыкалась с берегом. Владельцу замка Эвенелов нетрудно было найти жителей для этой деревушки не только потому, что он был добрым и милостивым господином, но и потому, что, благодаря своей опытности в военном искусстве, благодаря рассудительности и прямодушию, которыми он славился, равно как и расположению к нему графа Мерри, он мог быть также надежным защитником и покровителем тех, кто жил под охраной его знамени. Поэтому, уезжая на сколько-нибудь значительное время из дома, он утешался той мыслью, что деревня всегда по первому зову выдвинет отряд из трех десятков крепких мужчин, которые вполне смогут защитить замок. Женщины и дети обычно в таких случаях бежали в труднодоступные места в горах, уводя с собой скот и оставляя на произвол врага лишь свои жалкие хижины.
Только один гость подолгу, чтобы не сказать – безвыездно, жил в замке Эвенелов. Это был Генри Уорден, теперь уже не чувствовавший в себе тех сил, которые требовались для исполнения трудных обязанностей воинствующего реформатского духовенства[28 - …воинствующего реформатского духовенства… – В Шотландии главное направление Реформации носило более радикальный характер, чем в Англии. Протестантские проповедники усердно насаждали суровую, аскетическую мораль. Во всей своей деятельности они проявляли крайнюю нетерпимость и жестокость по отношению к инакомыслящим.]; оскорбив своим религиозным пылом многих влиятельных вельмож и вождей, он мог считать, что находится в полной безопасности, лишь пребывая за стенами хорошо укрепленного замка, принадлежащего одному из его испытанных друзей. Он продолжал, однако, служить своему делу пером с тем же рвением, с каким раньше служил ему словом. С некоторого времени он вступил с аббатом Евстафием, бывшим помощником приора Кеннаквайрского монастыря, в ожесточенный и полный ядовитых нападок спор об упразднении мессы (так обозначали спорящие стороны предмет своего диспута). Ответы, возражения, замечания, реплики сыпались градом с обеих сторон, причем каждый из противников, как это нередко бывает в подобных спорах, проявлял столько же полемического пыла, сколько христианского милосердия.
Их диспут приобрел вскоре такую же широкую известность, как спор Джона Нокса[29 - Нокс Джон (1505–1572) – вождь Реформации в Шотландии, основоположник и глава шотландской протестантской церкви, непримиримый враг католичества и королевы Марии Стюарт. Диспут, о котором упоминает Вальтер Скотт, происходил в 1563 г. по инициативе епископа Кросрэгуэлского и носил характер публичного состязания. Каждый из богословов имел эскорт в сорок человек. Темой диспута было толкование одного места в Библии – говорит оно в пользу служения мессы или против него.] с аббатом Кросрэгуэлским; диспут этот отличался почти таким же неистовством, и, насколько я могу судить, порожденные им печатные издания обладают не меньшей ценностью в глазах библиографов, чем брошюры Нокса и его оппонента[3 - Брошюры, появившиеся в ходе диспута между шотландским реформатором и Квентином Кеннеди, аббатом Кросрэгуэлским, считаются в шотландской библиографии редчайшими. См. «Жизнь Нокса» Мак-Края, с. 258. (Примеч. авт.)]. Но, будучи всецело поглощен этими занятиями, богослов не мог быть особенно интересным собеседником для одинокой женщины: он редко уделял внимание тому, что не имело отношения к вопросам религии, а его серьезный, строгий, отсутствующий вид отнюдь не рассеивал общую мрачность, царившую в замке Эвенелов, а, наоборот, даже усугублял ее. Присмотр за работой многочисленных служанок был главным занятием леди Эвенел в течение дня; вечерн
Страница 8
е часы посвящались веретену, Библии или одинокой прогулке по стенам замка или по дамбе, а иногда, в редких случаях, по берегу озера. Но времена были такие тревожные, что, когда леди Эвенел отваживалась выходить за пределы деревни, часовой на сторожевой башне получал приказ зорко оглядывать окрестность, а пять или шесть вооруженных людей были в полной готовности, чтобы при малейшей тревоге вскочить на коней и поспешить на помощь.Так обстояли дела в замке, когда отсутствовавший уже несколько недель рыцарь Эвенел (этим титулом теперь чаще всего называли сэра Хэлберта Глендининга) должен был со дня на день вернуться домой. Но время шло, а он все не возвращался. Письма в те дни писали редко, и рыцарю Эвенелу, пожелай он известить о своих намерениях таким способом, пришлось бы, по-видимому, обратиться к помощи писца; кроме того, все средства сообщения были ненадежны и небезопасны, и всякий избегал оповещать других о времени и направлении своих поездок – ибо если его путь становился известен многим, то всегда была опасность встретить на дороге больше врагов, чем друзей. Поэтому день возвращения сэра Хэлберта Глендининга не был определен заранее; тот срок, на который втайне рассчитывала тосковавшая по нему супруга, давно прошел, и в сердце леди Эвенел, истомленное надеждой, закрадывалась тоска.
Однажды, когда знойный летний день клонился к вечеру и солнце уже наполовину зашло за Лидсдейлские холмы, леди Эвенел в одиночестве прогуливалась по стенам замка; выложенные плитами, они представляли собой удобное место для прогулок.
Лучи заходящего солнца золотили недвижную гладь озера, лишь изредка колеблемую ныряющей уткой или лысухой; в озере, словно в золотом зеркале, отражались холмы, среди которых оно покоилось. Обычная для этих мест тишина порой нарушалась возгласами деревенских детей, приглушенными расстоянием, но достигавшими слуха леди Эвенел во время ее одинокой прогулки, или далекими криками пастуха, который гнал стадо из долины, где оно паслось весь день, в более безопасное ночное убежище поближе к деревне. Коровы своим протяжным мычанием, казалось, просили скотниц подоить их, а те, поставив себе на голову ведра, с громким и веселым пением шли навстречу стаду выполнять свою вечернюю обязанность. Леди Эвенел смотрела и слушала; звуки, которые доносились до нее, напоминали о былых днях в Глендеарге[30 - …напоминали о былых днях в Глендеарге… – Глендеарг – название башни, в которой жила госпожа Глендининг, мать мужа леди Эвенел. Там прошли детство и юность Мэри Эвенел. Об этом рассказывается в романе «Монастырь».], когда самым главным по значению ее занятием и вместе с тем высшей радостью было помогать госпоже Глендининг и Тибб Тэккет[31 - Тибб Тэккет – персонаж романа «Монастырь», служанка матери леди Эвенел.] доить коров. Это воспоминание навеяло на нее грусть.
«Почему я и впрямь не была простой крестьянкой, какой меня все считали? – сказала она себе. – Мы с Хэлбертом мирно жили тогда в его родной долине, и никакие призраки, вызванные страхом или честолюбием, не тревожили нас. Хэлберт в те времена больше всего гордился своим стадом – лучшим во всех землях аббатства; самое большее, что грозило ему тогда, была встреча с каким-нибудь пришельцем из пограничной области, охотником до чужого добра; он редко уходил от меня дальше тех мест, куда его могла завести погоня за убегающим оленем. Но что искупит пролитую им кровь и опасности, которым он сейчас подвергает себя ради славы нашего имени и титула? Он высоко ценит их, так как они достались ему от меня, но мы никогда не передадим их потомству! С моей смертью имя Эвенелов исчезнет».
Эти мысли заставили ее тяжело вздохнуть. Она взглянула на берег озера, и ей бросилась в глаза кучка детей разного возраста, собравшихся посмотреть на сооруженный каким-то деревенским искусником кораблик, которому предстояло совершить свое первое плавание. Кораблик был спущен на воду под радостные крики и рукоплескания детворы и быстро поплыл, подгоняемый попутным ветром, который направил его прямо к противоположному берегу. Мальчики постарше побежали вокруг озера, чтобы встретить кораблик на той стороне и вытащить его из воды; стараясь обогнать друг друга, они прыгали по усеянному галькой берегу, как юные фавны. Остальные, не отважившиеся пуститься в такое далекое путешествие, наблюдали за движением хорошенького суденышка с того места, где его спустили на воду. Ребячье веселье отозвалось болью в сердце бездетной леди Эвенел.
«Почему ни один из этих малышей не мой сын? – продолжала она грустно размышлять. – Их родители с трудом добывают для них кусок хлеба, а мне, хотя я могла бы растить их в полном довольстве, никогда не суждено услышать из уст ребенка слово “мама”!»
Эта мысль вызвала в ее сердце горькое чувство, похожее на зависть, – так сильна заложенная в женщине самой природой потребность иметь детей. Она горестно сжимала руки, охваченная беспредельным отчаянием оттого, что Небо судило ей быть бездетной. В эту минуту пес из породы борзых подбежал к ней; привлеченны
Страница 9
, видимо, жестом своей хозяйки, он стал лизать ее руки и тыкаться в них своей большой головой. Госпожа нежно приласкала его, но по-прежнему оставалась печальной.– Волк! – сказала леди Эвенел, словно собака могла понять ее чувства. – Ты благородное и красивое животное; но, увы, любовь и нежность, которые переполняют меня, более возвышенны, чем те, какие могли бы достаться на твою долю, хоть я и очень тебя люблю.
И, как бы извиняясь перед Волком за то, что она не может отдать ему все свое внимание, она гладила его гордую голову и спину, в то время как он смотрел ей в глаза, словно спрашивая, чего ей хочется и что он может сделать в доказательство своей преданности.
Вдруг с берега, оттуда, где толпилась ватага ребятишек, еще недавно настроенных так весело, донесся тревожный крик. Леди Эвенел взглянула туда и, увидев, что случилось, пришла в сильное волнение.
Кораблик, предмет восторженного внимания детей, запутался в стеблях водяных лилий, которые росли на мели, приблизительно на расстоянии полета стрелы от берега. Какой-то отважный мальчуган, опередивший своих товарищей в беге вокруг озера, ни минуты не колеблясь, скинул свою фланелевую курточку, бросился в воду и поплыл по направлению к занимавшей всех игрушке.
Первым побуждением леди Эвенел было позвать кого-нибудь на помощь мальчику, но, убедившись, что он плывет уверенно и бесстрашно, и увидев, что двое поселян, которые наблюдали издали за происходящим, не проявляют ни малейшего беспокойства, она решила, что занятие это для него привычное и опасность ему не угрожает. Но потому ли, что, плывя, мальчик ударился грудью о подводный камень, потому ли, что его неожиданно схватила судорога, или же он просто увлекся и не рассчитал своих сил, случилось следующее: высвободив игрушку из опутавших ее стеблей и пустив ее дальше по прежнему пути, он проплыл несколько ярдов по направлению к берегу, но вдруг приподнялся над водой и, в ужасе всплеснув руками, пронзительно закричал.
Леди Эвенел сразу подняла тревогу и поспешно приказала служителям спустить лодку. Но это требовало времени. Единственная лодка, которой было разрешено пользоваться на озере, была привязана во втором рву, пересекавшем дамбу, и прошло несколько минут, прежде чем ее отвязали и отправили по назначению. Тем временем леди Эвенел, замершая от ужаса, увидела, что попытки бедного мальчугана держаться на воде сменились бессильным барахтаньем, которое едва ли протянулось бы долго, если бы не помощь, подоспевшая так же быстро, как и неожиданно. Волк, который, как все крупные борзые, отлично умел плавать, почувствовал, что именно волнует его госпожу; он бросился к озеру, порыскал в поисках удобного места и прыгнул в воду. Руководимый тем удивительным инстинктом, который эти благородные животные часто обнаруживают в подобных случаях, он поплыл прямо туда, куда требовалось, и, вцепившись зубами в рубашку мальчика, не только не дал ему пойти ко дну, но потащил его по направлению к дамбе. Лодка с двумя служителями успела тем временем отчалить; встретив Волка на полпути, она освободила пса от его ноши. Когда лодка подошла к дамбе и причалила у ворот замка, доставив все еще не пришедшего в чувство ребенка, там уже с нетерпением ожидала их леди Эвенел с двумя служанками, чтобы сразу оказать помощь пострадавшему.
Мальчика перенесли в замок, уложили в постель и стали возвращать к жизни, применяя решительно все средства, какие могли быть подсказаны наукой того времени и опытом Генри Уордена, обладавшего кое-какими познаниями в искусстве врачевания. На первых порах ничто не помогало. Леди Эвенел пристально всматривалась в красивое бледное личико ребенка. Мальчику было, по-видимому, около десяти лет. Одет он был крайне бедно, но его длинные локоны и благородный овал лица противоречили убогому платью. Самый гордый из шотландских вельмож возгордился бы еще больше, будь этот ребенок его наследником. Леди Эвенел, затаив дыхание, не сводила глаз с правильно очерченного, выразительного лица мальчика. Щеки его постепенно стали розоветь; жизнь понемногу возвращалась к нему; он глубоко вздохнул, открыл глаза – а человеческое лицо, как известно, от этого преображается, как преображается ландшафт, внезапно озаренный солнечным светом, – затем протянул руки к леди Эвенел и тихо произнес слово «мама» – обращение, сладостнее которого для слуха женщины нет ничего на свете.
– Миледи, – сказал проповедник, – Господь внял вашей мольбе и вернул ребенка к жизни; теперь ваша обязанность воспитать его так, чтобы ему никогда не пришлось пожалеть о том, что он не погиб в невинном возрасте.
– Я буду считать это своим долгом, – ответила леди и, обняв мальчика, стала осыпать его ласками и поцелуями – настолько сильное потрясение вызвали у нее сначала страх за ребенка, пока его жизнь была в опасности, а затем радость от того, что он все-таки спасен, хотя надежды на благополучный исход почти не было.
– Ах нет, вы не моя мама! – сказал мальчик, придя в себя и мягко отстраняясь от ласк леди Эвенел. – Вы не моя мама… Увы
Страница 10
у меня нет матери… Мне только приснилось, будто она у меня есть.– Твой сон сбудется, милое дитя! – вскричала леди Эвенел. – Я буду отныне твоей матерью. Воистину Господь услышал мои мольбы и своими чудесными путями послал существо, которому я могла бы отдать свою любовь.
Произнося эти слова, она смотрела на Уордена… Проповедник колебался, не зная, как ему следует отозваться на такой взрыв чувств, видимо казавшийся ему более бурным, чем это оправдывалось обстоятельствами.
Волк, который, не успев обсохнуть, последовал за своей хозяйкой во внутренние покои, сначала неподвижно и терпеливо сидел у постели и наблюдал, как приводили в чувство спасенного им мальчика; но затем ему надоело, что его все еще не замечают, и он стал скулить и ластиться к леди Эвенел.
– Да, да, славный Волк, – сказала она, – ты заслужил сегодня, чтоб о тебе вспомнили; я буду теперь еще больше заботиться о тебе – ведь ты спас жизнь такому прекрасному созданию.
Но Волк, по-видимому, не был вполне удовлетворен той долей внимания, которой ему удалось добиться; он не переставал скулить и приставать к своей хозяйке, а так как его длинная шерсть была совершенно мокрой, ласки его были особенно неуместны, и леди Эвенел велела наконец одному из слуг, которого пес обычно слушался, увести его. Слуга несколько раз позвал Волка, но тот не трогался с места, пока наконец его хозяйка решительно и строго не приказала ему убираться вон. Тогда, обернувшись к постели, на которой лежал мальчик, уже более или менее очнувшийся, но еще блуждавший в лабиринте бредовых видений, пес оскалился, показав два ряда белых и острых зубов, – не хуже, чем у настоящего волка, – громко и злобно зарычал, затем повернулся и угрюмо поплелся следом за слугой.
– Как странно, – сказала леди Эвенел, обращаясь к Уордену, – собака всегда была такой добродушной, а уж детей-то она особенно любит. Чем мог не понравиться ей малыш, которого она сама спасла?
– Собаки очень похожи на людей в своих слабостях, – ответил проповедник, – хотя инстинкт является для них более надежным руководителем, нежели разум для бедного человека, когда он полагается только на свои силы, не уповая на Божью помощь. Они не чужды и такой страсти, как ревность, дорогая леди, и проявляют ее не только по отношению к другим собакам, если видят, что хозяева оказывают им предпочтение, но даже и к детям, когда те становятся их соперниками. Вы долго и горячо ласкали этого ребенка, вот собака и повела себя как отвергнутый фаворит.
– Удивительный инстинкт, – сказала леди Эвенел. – Судя по тому, как вы о нем говорите, мой достопочтенный друг, можно подумать, что, по вашему мнению, ревность моего славного Волка не только не лишена оснований, но, более того, оправдана. Однако, может быть, вы просто шутите?
– Я редко шучу, – ответил проповедник. – Жизнь нам дана не для того, чтобы растрачивать ее в праздном веселье, подобном треску тернового хвороста под котлом[32 - Жизнь нам дана не для того, чтобы растрачивать ее в праздном веселье, подобном треску тернового хвороста под котлом. – Слегка видоизмененная цитата из Библии, где сказано: «Смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом» (Екклесиаст, гл. VIII, стих 6).]. Я хотел бы только, чтобы вы не преминули сделать из моих слов тот поучительный вывод, что наши лучшие чувства, если мы будем чрезмерно предаваться им, могут больно ранить окружающих нас. Лишь одному чувству нам дозволено предаваться до крайних пределов душевных сил, ибо оно не может быть чрезмерным, даже будучи доведено до высшего напряжения: я имею в виду любовь к Создателю.
– Но не сам ли верховный владыка наш велел нам любить своего ближнего?
– Да, миледи, – сказал Уорден, – но наша любовь к Господу должна быть безграничной, мы должны любить Его всем сердцем, всей душой, всем своим существом. Любовь, которую мы, согласно велению Божию, должны питать к своему ближнему, ограничена определенной мерой – каждый из нас должен любить ближнего как самого себя, или, как иначе сказано в другом месте Писания, мы должны поступать с ближним так, как хотели бы, чтобы он поступал с нами. Вот какой предел указан даже для самых похвальных наших чувств, если они обращены на бренные земные существа. Мы должны отдавать своему ближнему, безразлично к его званию и положению в обществе, нашу любовь в той степени, в какой мы вправе ожидать любви к себе от других людей, по отношению к которым мы сами находимся в том же положении.
Поэтому не должно сотворить себе кумира ни из мужа, ни из жены, ни из сына или дочери, ни из друга или родственника. Господь наш ревнив, Он не потерпит, чтобы наша преданность какому-либо из Его созданий была столь же беззаветной, что и та, которой Он требует от нас, сотворенных Им, к самому себе. Повторяю вам, миледи, что даже на самых лучших, самых чистых, самых благородных наших чувствах лежит печать первородного греха, и поэтому нам всегда следует остановиться и подумать, прежде чем доводить эти чувства до крайности.
– Мне все это совершенно непонятно, досто
Страница 11
очтенный сэр, – отвечала леди Эвенел, – и я никак не могу взять в толк, что я такое сказала или сделала, чтобы мне было прочитано наставление, весьма похожее на порицание.– Леди, – сказал Уорден, – прошу простить меня, если я преступил границы своих обязанностей. Но подумайте о том, встретит ли одобрение вашего супруга данное вами торжественное обещание быть не просто покровительницей, но матерью этому бедному ребенку. Нежность, столь щедро излитая вами на это несчастное и, должен признаться, очень милое дитя, вызвала нечто вроде порицания со стороны вашей собаки. Не доставляйте же огорчения вашему супругу. Люди, как и животные, ревниво относятся к привязанностям тех, кого любят.
– Ну, это уж слишком, достопочтенный сэр, – сказала леди Эвенел, глубоко оскорбленная. – Вы издавна приняты в нашем доме и всегда встречали у рыцаря Эвенела и у меня самой тот почет и то уважение, каких заслуживают ваши убеждения и ваши достоинства. Однако я не помню, чтобы мы когда-либо давали вам право вмешиваться в наши семейные дела или поручали вам быть судьей наших поступков по отношению друг к другу. Убедительно прошу вас не повторять этого впредь.
– Леди, – возразил проповедник со смелостью, присущей в то время духовенству его направления, – если мои наставления докучают вам… и если я удостоверюсь, что мои услуги больше не нужны ни вам, ни вашему благородному супругу, то это будет означать для меня, что Господу не угодно мое дальнейшее пребывание здесь; и тогда меня не удержат ни зимняя стужа, ни глухая ночь: моля Бога о том, чтобы Он и впредь не оставил вас Своим благоволением, я уйду куда глаза глядят и побреду среди этих пустынных гор, как и прежде, одинокий и лишенный всякой поддержки, только еще более беспомощный, чем в тот день, когда я впервые встретил вашего супруга в Глендеаргской долине. Но, пока я здесь, стоит вам хотя бы на шаг уклониться от пути истинного, я не смогу спокойно взирать на это, не поднимая своего голоса и не обращаясь к вам с увещеванием, на которое мне дают право мои годы.
– Ну, полно, – сказала леди Эвенел, которая любила и уважала доброго старца, хотя порой ее несколько задевало его преувеличенное, как представлялось ей, религиозное рвение. – Мы не можем так расстаться, мой добрый друг. Женщины торопливы и несдержанны в проявлении своих чувств. Но, поверьте, мои замыслы и намерения в отношении этого ребенка таковы, что и мой муж и вы сами одобрите их.
Проповедник ответил поклоном и удалился.
Глава II
Как был ко мне его прикован взгляд,
Сиявший сквозь невысохшие слезы!
Доверчиво ручонки он тянул
И мамой называл меня, сиротка.
Пришлось мне взять ребенка: не могла
Я малышу сказать, что он сиротка.
«Граф Бэзил»[33 - «Граф Бэзил» (1802) – трагедия шотландской писательницы Джоанны Бэйли (1762–1851).]
После ухода Уордена леди Эвенел дала волю нежным чувствам, пробужденным в ней внешностью мальчика, нависшей над ним внезапной опасностью и недавним его спасением; не стесняемая более чрезмерной, по ее мнению, суровостью проповедника, она стала осыпать ласками милого и нежного ребенка.
Теперь мальчик более или менее оправился от последствий несчастного случая и без возражений, хотя и слегка удивленно, принимал все эти пылкие изъявления симпатии к нему, которым не было конца. Лицо леди Эвенел было ему незнакомо, а такого роскошного платья, как у нее, он никогда в своей жизни не видел. Но мальчик был от природы не робкого нрава; кроме того, дети – отличные физиономисты, и они не только тянутся к тому, что само по себе красиво, но также очень быстро замечают расположение к ним со стороны тех, кто действительно их любит, и тотчас отзываются на него. Когда среди многих людей кто-либо один оказывается человеком искренне любящим детей, малыши непременно обнаруживают это, даже если видят его впервые, подобно тому как масон[34 - Масоны (или франкмасоны, «вольные каменщики») – участники так называемых масонских лож – тайных организаций, возникших в Англии в первой четверти XVIII в. в результате преобразования средневековых цеховых объединений каменщиков и распространившихся впоследствии во многих странах Европы и в Америке. Общими чертами масонского движения являлись религиозность со значительной долей мистицизма, умеренный демократизм, проповедь христианской «любви к ближнему» независимо от расы, национальности, вероисповедания. Масоны окружали себя атмосферой таинственности, обставляли свою деятельность сложными ритуалами, выработали систему тайных условных знаков, шифров, паролей и т. п.] узнает масона, – тогда как неуклюжие попытки подольститься к детям с целью выгодно отличиться перед их родителями, как правило, не вызывают в них ни малейшего отклика. Поэтому мальчик живо отозвался на ласку леди Эвенел, и ей нелегко было оторвать голову от его подушки, чтобы дать ребенку необходимый покой.
– Чей он, наш спасенный проказник? – спросила леди Эвенел свою камеристку Лилиас, как только они вышли за дверь.
– Он живет тут у одной старухи в деревне, – о
Страница 12
ветила Лилиас. – Как раз сейчас она здесь, ждет у привратника, чтобы узнать, жив ли ребенок. Угодно вам впустить ее?– Угодно ли мне? – Леди Эвенел повторила вопрос камеристки с выражением явного неудовольствия и удивления. – Как можете вы сомневаться в этом? Какая женщина осталась бы равнодушной к беспокойству матери, чье сердце трепещет от страха за жизнь такого милого ребенка?
– О, миледи, – сказала Лилиас, – эта женщина слишком стара, чтобы быть его матерью; должно быть, она его бабушка или какая-нибудь дальняя родственница.
– Кем бы она ни приходилась ему, Лилиас, – ответила леди Эвенел, – она, конечно, будет мучиться до тех пор, пока не удостоверится, что жизни этого прелестного создания не угрожает опасность. Пойдите за ней сейчас же и приведите ее сюда. К тому же мне очень хотелось бы узнать что-нибудь о его родителях.
Лилиас вышла и вскоре вернулась с пожилой женщиной высокого роста, одетой очень бедно, но с большей претензией на приличный и опрятный вид, чем это обычно бывает при столь простой одежде. Леди Эвенел узнала ее сразу же, как только она вошла. В семействе Эвенелов было заведено, что Генри Уорден каждое воскресенье и еще дважды в неделю по вечерам читал проповедь или наставление в часовне при замке. Распространение протестантской веры в стране было важнейшей заботой рыцаря Эвенела как в силу его убеждений, так и по политическим причинам. Поэтому жителей деревни приглашали послушать наставления Генри Уордена, и многие из них вскоре примкнули к учению, которое одобрял их господин и покровитель. Эти проповеди, поучения и увещания вызвали сильное раздражение у аббата Юстаса, иначе – Евстафия, и подогрели его пыл в резком и ожесточенном споре с его бывшим однокашником; вплоть до низложения королевы Марии, пока католики пользовались еще значительным влиянием в пограничных областях, аббат Евстафий не раз грозил созвать своих вассалов, взять приступом и сровнять с землей замок Эвенелов – оплот ереси. Но, несмотря на бессильное негодование аббата, равно как и на то, что в стране вообще не сочувствовали новой религии, Генри Уорден без устали продолжал свои труды и еженедельно обращал нескольких человек из римской веры в веру реформированной церкви. Среди тех, кто наиболее истово и усердно посещал его проповеди, была эта пожилая женщина; ее высокая фигура, настолько примечательная, что не запомнить ее было невозможно, выделялась в небольшом кружке слушателей и с недавнего времени стала привлекать внимание леди Эвенел. Не раз уже леди пыталась узнать, кто эта статная женщина, к облику которой так не подходила бедная одежда. Но ей всегда отвечали, что это англичанка, временно поселившаяся в деревне, и что больше о ней ничего не известно. Теперь леди Эвенел спросила, как ее зовут и откуда она родом.
– Меня зовут Мэгделин Грейм, – сказала женщина, – я из тех Греймов, что живут в Хезергиле, в Никл-Форесте[4 - Округ в Камберленде, примыкающий к шотландской границе. (Примеч. авт.)]. У нас – очень древняя родословная.
– А что заставляет вас, – продолжала спрашивать леди, – находиться так далеко от дома?
– У меня нет дома, – ответила Мэгделин Грейм, – его сожгли ваши пограничные солдаты. Мой муж и мой сын были убиты, и теперь не осталось в живых никого, в чьих жилах текла бы хоть капля крови моих предков.
– Вашу участь разделяют многие в эти мятежные времена и в этой неустроенной стране, – сказала леди Эвенел. – Руки англичан обагрены нашей кровью не меньше, чем руки шотландцев – вашей.
– Ваша правда, леди, – ответила Мэгделин Грейм, – ибо я слышала от людей о том времени, когда этот замок не был достаточно укреплен, чтобы сохранить жизнь вашего отца или послужить убежищем вашей матери и ее ребенку. Зачем же тогда вы спрашиваете меня, отчего я не живу в своем доме, среди своих земляков?
– В самом деле, я напрасно задала вам этот вопрос, – ответила леди Эвенел, – ведь в наши дни несчастья то и дело превращают людей в скитальцев. Но зачем было искать убежища во враждебной стране?
– Мои соседи были все паписты и торговцы мессами, – сказала Мэгделин Грейм. – Богу было угодно глубже раскрыть мне смысл евангельского учения, и я решила на время поселиться здесь, чтобы послушать наставления Генри Уордена – достойного человека, который проповедует слово Божье в духе истины и справедливости.
– Вы бедны? – спросила леди Эвенел.
– Вам еще не доводилось слышать, чтобы я просила у кого-нибудь милостыню, – ответила англичанка.
Обе замолчали. Старуха держала себя почти вызывающе и, уж во всяком случае, отнюдь не любезно; она явно не была расположена поддерживать дальнейшую беседу. Леди Эвенел заговорила снова, но уже на другую тему:
– Вы слышали о том, какая опасность грозила вашему мальчику?
– Да, леди, слыхала и знаю, как благодаря вмешательству Провидения он был спасен от гибели. И он и я должны благодарить Бога за это.
– Кем вы ему приходитесь?
– С вашего разрешения – я его бабушка, леди. Кроме меня, у него нет никого на свете, и заботиться о нем больше некому.
–
Страница 13
Должно быть, вам трудно содержать его в вашем положении беженки?– Я еще никому на это не жаловалась, – произнесла Мэгделин Грейм тем же жестким и бесстрастным тоном, каким отвечала на все предыдущие вопросы.
– Если бы ваш внук был принят в знатную семью, – сказала леди Эвенел, – не было ли бы это удачей как для него, так и для вас?
– Принят в знатную семью! – повторила старуха, выпрямляясь во весь рост и нахмурив брови, от чего лоб ее прорезали глубокие морщины, а лицо приобрело особенно суровое выражение. – А какой цели ради, спрошу я вас? Чтобы стать пажом вашей милости, миледи, или пажом милорда, кормиться чем попало и спорить с другими слугами из-за объедков с вашего стола? Вам угодно, чтобы он отгонял мух от лица леди, когда она спит, носил за ней шлейф, когда она прогуливается, подавал ей блюда, когда она обедает, ехал впереди нее при верховой прогулке и шел позади при пешей, пел, когда ей заблагорассудится, и замолкал по ее приказанию? Иначе говоря, вам угодно, чтобы он был настоящим петухом-флюгером, который, хотя и имеет по видимости крылья и оперение, не может взлететь в воздух, не может оторваться от места, куда он посажен; вам угодно, чтобы им управляла и вертела воля переменчивой, как ветер, суетной женщины. Не раньше, чем хелвеллинский орел усядется на башню Лейнеркоста[35 - Не раньше, чем хелвеллинский орел усядется на башню Лейнеркоста… – Хелвеллин – горная вершина с водопадом в Уэстморленде (Северная Англия). Лейнеркост – селение в Камберленде (Северная Англия), известное некогда расположенным вблизи него монастырем августинцев, церковь которого сохранилась до времен Вальтера Скотта.] и станет вертеться в различные стороны, в зависимости от направления ветра, Роланд Грейм станет тем, что вы захотите из него сделать.
Женщина произнесла это единым духом и с такой запальчивостью, что, казалось, она не вполне в своем уме; тут у леди Эвенел внезапно блеснула мысль, как опасно, должно быть, для ребенка находиться у такой опекунши, и это еще больше усилило ее желание добиться того, чтобы мальчик остался в замке.
– Вы не поняли меня, сударыня, – мягко сказала она старухе. – Я вовсе не собираюсь взять вашего мальчика в услужение себе – он будет находиться при моем супруге. Будь он даже сыном графа, он не мог бы найти себе лучшего учителя и наставника, чем сэр Хэлберт Глендининг, в искусстве владеть оружием и во всем прочем, что подобает дворянину.
– Знаю, знаю, – продолжала старуха тем же тоном горькой иронии, – какое вознаграждение положено тому, кто поступает на такую службу: брань, если плохо начищены латы; пинки, если слабо подтянута подпруга; побои, когда собака теряет след зверя; оскорбления, когда не удается набег. По приказу господина ему придется обагрять свои руки кровью людей и животных, он будет хладнокровно, как мясник, лишать жизни беззащитных ланей, превратится в душегуба, приучится уродовать образ и подобие Божие, – не ради собственного удовольствия, но по прихоти своего господина, – станет бессовестным буяном, наемным убийцей по ремеслу. Он будет страдать от жары, холода, голода, испытывать всевозможные лишения, словно отшельник, но не ради любви к Богу, а в угоду сатане, и умрет на виселице или в какой-нибудь случайной стычке. Весь свой короткий век он проведет как бы во сне, погрязнув в суете земной, и, когда проснется, будет уже гореть в вечном неугасимом пламени.
– Нет, нет, – сказала леди Эвенел, – вашего внука никто не заставит здесь вести такую недостойную жизнь. Мой супруг добр и справедлив ко всем, кто живет под охраной его знамени; к тому же вы и сами знаете, какого строгого и высокоуважаемого наставника приобретает здесь мальчик в лице нашего капеллана.
Старуха помолчала в раздумье.
– Вы упомянули, – сказала она затем, – о том единственном обстоятельстве, которое может поколебать меня. Вскоре я должна тронуться в путь, – мне было видение, открывшее мне это. Я не должна задерживаться на одном месте, я должна идти все дальше и дальше, – таков мой удел. Поклянитесь же, что будете беречь мальчика так же, как родного сына, пока я не вернусь сюда вновь и не предъявлю своих прав на него. В этом случае я соглашусь на время расстаться с ним. Но только поклянитесь, что он не будет лишен наставлений божьего человека, который вознес евангельскую истину высоко над идолопоклонством, презрев всех этих бритых монахов и попов.
– Не тревожьтесь, сударыня, – промолвила леди Эвенел, – о мальчике будут заботиться так, как если бы он был моим родным сыном. Хотели бы вы видеть его сейчас?
– Нет, – сурово ответила старуха, – все равно, я должна расстаться с ним. Я иду выполнять предназначенное мне и не хочу бесполезных причитаний и слез, расслабляющих душу. Их не может позволить себе тот, кого призывает долг.
– Разрешите хоть немного помочь вам в вашем паломничестве, – сказала леди Эвенел и вложила в руку старухи две золотые монеты.
– Да разве я из каинова племени, гордая леди, – сказала она, – что вы предлагаете мне золото в обмен на мою плоть и кровь?
Страница 14
– Я не имела в виду ничего подобного, – кротко возразила леди Эвенел, – и вовсе я не такая гордячка, какой вы меня считаете. Превратности моей собственной судьбы могли бы научить меня смирению, если бы оно не было свойственно мне от природы.Старуха как будто несколько смягчилась.
– В вас течет благородная кровь, – сказала она, – иначе мы не разговаривали бы с вами так долго. Да, в вас течет благородная кровь, а таких людей, – добавила она, выпрямившись и высоко подняв голову, – гордость украшает так же, как перо на шляпе. Но эти золотые монеты, леди, вы непременно должны взять обратно. Мне не нужны деньги. Я имею все необходимое и могу не заботиться о себе и не думать, каким образом и от кого получить поддержку. Прощайте и будьте верны своему слову. Велите открыть ворота и опустить мосты. Я отправляюсь в путь сегодня же вечером. Когда я вернусь, я потребую от вас строгого отчета, ибо оставляю вам самое дорогое, что есть у меня в жизни. Сон будет бежать моих глаз, кусок будет становиться поперек горла, отдых не будет освежать меня, пока я снова не увижу Роланда Грейма. Еще раз – прощайте. – Произнеся эти слова, старуха направилась к выходу.
– Поклонитесь же, сударыня, – сказала ей Лилиас, – поклонитесь ее светлости и поблагодарите леди за доброту, как это полагается вообще и особо подобает в данном случае.
Старуха резко повернулась к чересчур угодливой камеристке:
– Пусть леди поклонится мне первая, и тогда я отвечу ей тем же. Чего ради должна я гнуть перед ней спину? Не из-за того ли, что на ней юбка из шелка, а на мне – из синего домотканого сукна? Помалкивай, ты, служанка! Знай, что жена переходит в сословие мужа и что та, кто выходит за простолюдина, будь она хоть королевской дочерью, становится мужичкой.
Лилиас, вознегодовав, хотела было ответить резкостью, но ее хозяйка велела ей молчать и распорядилась проводить старуху до берега.
– Еще провожать ее! – воскликнула разгневанная камеристка, как только Мэгделин Грейм скрылась за дверью. – По мне, так надо бы окунуть ее в озеро и посмотреть, не ведьма ли она, а что она и в самом деле ведьма, говорят все жители нашей деревни и готовы подтвердить это под присягой. Меня удивляет, как ваша светлость могли так долго терпеть ее дерзости.
Однако распоряжение госпожи было в точности выполнено; старуху проводили из замка на берег и предоставили самой себе. Она сдержала обещание, не стала мешкать и, покинув деревню в тот же вечер, исчезла в неизвестном направлении. Леди Эвенел потребовала доложить ей относительно обстоятельств появления старухи в деревне, но смогла узнать лишь немногое: что старуха, по-видимому, вдова какого-то важного лица из рода Греймов, живших в ту пору на Спорной земле (так называлась территория, из-за которой Шотландия и Англия нередко ссорились между собой), что ей нанесли какую-то большую обиду во время одного из набегов, часто опустошавших этот несчастный край, и изгнали из родных мест. Никто не знал, ради чего она поселилась в этой деревне; одни считали ее ведьмой, другие – ревностной протестанткой, а третьи – святошей-католичкой. Речь ее была загадочной, а манера держать себя – отталкивающей; слушая ее, можно было понять только одно: что она, видимо, связана неким заклятьем или обетом, но каким именно – неизвестно, ибо старуха говорила так, словно ею управляла какая-то могучая сила, которой она была подвластна.
Таковы были сведения, которые леди Эвенел удалось получить относительно Мэгделин Грейм, но они были чересчур скудны и противоречивы, чтобы на их основании можно было сделать какой-либо определенный вывод. И действительно, бедствия того времени и различные превратности судьбы, которые приходилось претерпевать жителям пограничной области, то и дело лишали крова тех, кто не имел возможности обороняться или как-то защитить себя. Таких беженцев видели в стране слишком часто, чтобы они привлекали к себе большое внимание или вызывали особое сочувствие. Люди не отказывали им в помощи, но предоставляли ее лишь в меру общепринятой гуманности; у одних это чувство несколько усиливалось, у других же скорее охладевало при мысли о том, что завтра, возможно, им самим не обойтись без такого же милосердия, какое сегодня исходит от них. И Мэгделин Грейм появилась как тень и так же незаметно исчезла из окрестностей замка Эвенелов.
Мальчик, которого, как полагала леди Эвенел, само Провидение доверило ее заботам, сразу же стал любимцем хозяйки замка. Да и могло ли быть иначе? На него обратились теперь те нежные чувства, которые прежде не находили себе приложения, отчего замок казался леди еще более мрачным, а ее одиночество становилось еще тяжелее. Учить его чтению и письму, насколько у нее хватало умения, опекать его, наблюдать за его ребяческими забавами – все это стало любимым занятием леди Эвенел. Раньше ей приходилось слышать лишь мычание и блеяние стад на отдаленных холмах, тяжелые шаги часового на стенах замка, да еще смех сидевшей за прялкой служанки, который вызывал у леди Эвенел одновременно и раздражение и зави
Страница 15
ть. Теперь обстоятельства ее жизни изменились. Появление прелестного резвого ребенка придало ее существованию смысл, едва ли понятный для тех, кто видит вокруг себя более яркую и деятельную жизнь. Юный Роланд стал для леди Эвенел тем же, чем для одинокого узника становится растущий на тюремном окошке цветок, за которым несчастный заботливо и тщательно ухаживает; он был тем существом, которое одновременно требовало ее попечения и вознаграждало за все хлопоты; даря ребенку свою любовь, она вместе с тем испытывала благодарность к нему за то, что он вывел ее из состояния унылой апатии, обычно овладевавшей ею в отсутствие сэра Хэлберта Глендининга.Но даже обаяние жизнерадостного любимца леди Эвенел не могло вполне устранить ее беспокойство из-за слишком затянувшейся отлучки мужа. Вскоре после того, как Роланд Грейм поселился в замке, посланец сэра Хэлберта привез известие, что дела все еще задерживают его хозяина при холирудском дворе[36 - …задерживают его хозяина при холирудском дворе. – Холируд – королевский дворец в столице Шотландии Эдинбурге.]. Прошел и более отдаленный срок, когда, по сообщению посланца, рыцарь Эвенел должен был прибыть в замок, а он все не возвращался.
Глава III
Ущербный месяц лил свои лучи…
Рог часового заиграл в ночи.
Ворота распахнулись – вход открыт –
И стало звонче цоканье копыт.
Лейден[37 - Лейден Джон (1775–1811) – шотландский поэт, автор «Шотландских описательных поэм» (1803) и вышедшего посмертно сборника «Поэмы и баллады» (1819).]
– Ты тоже хотел бы стать воином, Роланд? – спросила леди Эвенел своего воспитанника. Сидя на каменной скамье, устроенной на одной из стен замка, она наблюдала за тем, как мальчик, вооружившись палкой, старался подражать движениям часового, который то вскидывал свое копье на плечо, то приставлял его к ноге, то брал наперевес.
– Да, леди, хотел бы, – отозвался мальчик; теперь он держал себя с леди Эвенел запросто и отвечал на ее вопросы охотно и непринужденно. – Я очень хочу стать воином: ведь не было еще дворянина, который не опоясал бы себя мечом.
– Это ты-то дворянин! – воскликнула Лилиас, которая, по обыкновению, находилась при своей госпоже. – Да за этакого дворянина я и гроша ломаного не дам!
– Не брани его, Лилиас, – сказала леди Эвенел, – я готова биться об заклад, что в его жилах течет благородная кровь. Смотри, как она бросилась ему в лицо от твоих обидных слов.
– Будь на то моя воля, миледи, – ответила Лилиас, – хороший березовый прут заставил бы его еще больше покраснеть, и это пошло бы ему на пользу.
– Право, можно подумать, Лилиас, – сказала леди, – что бедный мальчик сделал тебе что-то плохое. Или, может быть, ты так невзлюбила его за то, что он пользуется моим расположением?
– Избави боже, миледи! – воскликнула Лилиас. – Я слишком долго жила у господ, чтобы пререкаться с ними по поводу их прихотей или привязанностей – к животным ли, к птицам или к детям – все равно.
Лилиас тоже была в некотором роде любимицей леди. Избалованная служанка, она нередко позволяла себе такие вольности в разговоре с госпожой, которые та отнюдь не всегда склонна была поощрять. Но леди Эвенел предпочитала пропускать мимо ушей все, что ей не нравилось в речах Лилиас; так же поступила она и на этот раз. Она решила отныне внимательнее присматривать за мальчиком, который до сих пор находился главным образом на попечении Лилиас. «Наверно, – думала леди, – он принадлежит к дворянскому роду; в этом нельзя усомниться – стоит только взглянуть на его благородный облик, на его прекрасные черты; и в самых приступах ярости, находящих на него порой, и в свойственном ему презрении к опасности, и в неумении сдерживать свои порывы – во всем этом сказывается природное благородство; мальчик происходит из какой-то знатной семьи». Придя к такому выводу, леди Эвенел решила действовать в соответствии с ним. Окружавшие ее слуги, менее ревнивые или менее добросовестные, чем Лилиас, повели себя так, как обычно и ведут себя люди их звания, то есть стали во всем подражать своей госпоже и ради своего блага неизменно поддакивали ей; в результате мальчик очень скоро принял надменный вид, обычно усваиваемый теми, кто встречает со всех сторон почтительное отношение к себе. И поистине как бы сама природа предназначила ему распоряжаться другими людьми – с такой небрежностью требовал он угождения своим прихотям и принимал заботы об их удовлетворении. Капеллан, конечно, мог бы поумерить спесь, обуявшую Роланда Грейма, и, по всей вероятности, охотно оказал бы ему эту услугу; но необходимость разрешить со своими единоверцами кое-какие вопросы церковного права заставила его на некоторое время отлучиться из замка и задержаться в другой части страны.
Так обстояли дела в замке Эвенелов, когда однажды на берегу озера резко и протяжно запел рог; часовой в замке живо отозвался таким же сигналом. Услышав знакомые звуки, леди Эвенел догадалась о прибытии мужа и бросилась к окну комнаты, в которой находилась. Верховой отряд примерно в тридцать копье
Страница 16
осцев под развернутым знаменем скакал вдоль извилистого берега по направлению к дамбе. Один всадник ехал впереди; его ярко начищенные латы вспыхивали в лучах осеннего солнца. Даже на таком расстоянии леди Эвенел разглядела гордо возвышавшийся на его шлеме султан: в нем соединялись ее фамильные цвета с цветами Глендинингов, и к нему была прикреплена ветвь остролиста. Достаточно было увидеть благородную осанку уверенно державшегося в седле всадника и изящную поступь его гнедого коня, чтобы сразу узнать Хэлберта Глендининга.Сначала леди Эвенел ощутила безграничную радость от того, что ее муж вернулся; но это чувство тут же омрачилось страхом, который и раньше закрадывался в ее душу: она опасалась, не будет ли муж раздосадован тем, что она столь высоко поставила над всеми в доме опекаемого ею сироту. Страх леди Эвенел объяснялся сознанием, что благосклонность ее к мальчику действительно чрезмерна; ибо Хэлберт Глендининг был столь же добр и снисходителен, сколь разумен и справедлив в обращении со своими домашними, а уж в его поведении по отношению к жене всегда сказывались глубочайшая любовь и нежность.
И все же она боялась, что на этот раз ее поступки встретят осуждение сэра Хэлберта; она тотчас решила, что не будет упоминать до следующего дня об истории с мальчиком, и велела Лилиас увести его из комнаты.
– Я не хочу идти с Лилиас, миледи, – возразил избалованный ребенок, которому не раз удавалось настойчивостью добиваться своего и который, подобно многим более высокопоставленным, чем он, людям, не упускал случая использовать свое влияние. – Не хочу идти в комнату противной Лилиас. Я хочу остаться здесь и посмотреть на этого храброго воина, что так красиво едет сейчас по подъемному мосту.
– Тебе нельзя оставаться здесь, Роланд, – сказала леди Эвенел так решительно, как она еще никогда не говорила со своим маленьким любимцем.
– А я хочу, – повторил мальчик, уже понимавший силу своего влияния и рассчитывавший на успех.
– Что значит – ты хочешь, Роланд! – сказала леди. – Что это за разговоры? Я повторяю: ты должен уйти.
– «Хочу» – так говорят мужчины, – дерзко ответил мальчик, – а женщина никому не может сказать «ты должен».
– Да ты, дружок, слишком много себе позволяешь! – сказала леди. – Лилиас, немедленно уведи его.
– Я всегда говорила, – с улыбкой сказала Лилиас, схватив за руку упиравшегося мальчика, – что молодой хозяин в конце концов должен будет уступить место старому.
– Ты тоже решила дерзить, милочка, – сказала леди. – Уж не свет ли перевернулся, что все вы так забываетесь?
Ничего не ответив, Лилиас увела мальчика; слишком гордый, чтобы оказывать бесполезное сопротивление, он бросил на свою благодетельницу взгляд, ясно говоривший о том, что он охотно не посчитался бы с ее приказаниями, будь он в силах настоять на своем. Леди Эвенел упрекала себя за то, что такое мелкое происшествие столь сильно взволновало ее, да еще в тот момент, когда ей не хотелось думать ни о чем, кроме встречи с мужем. Но, чтобы вернуть себе самообладание, нам еще недостаточно сознавать, что как раз в эту минуту крайне необходимо соблюдать спокойствие. У леди Эвенел горели щеки от только что пережитой неприятности, и она еще не пришла окончательно в себя, когда в комнату вошел ее супруг – без шлема, но в полном вооружении. Его появление заставило леди Эвенел забыть обо всем остальном; она бросилась ему навстречу, обвила руками его шею, окруженную железным воротником, и, не скрывая своей любви к мужу, осыпала поцелуями его лицо, светившееся мужеством и отвагой. Воин, в свою очередь, обнял и поцеловал жену с такой же нежностью, ибо если за время их брака романтический пыл первой страсти поутих, зато окрепла взаимная преданность, основанная на глубоком понимании достоинств друг друга; к тому же частые отлучки сэра Хэлберта не давали их любви перейти вследствие привычки в равнодушие.
После первых радостных приветствий леди Эвенел, с любовью вглядываясь в лицо мужа, произнесла:
– Ты изменился, Хэлберт. Тебя сегодня утомила долгая верховая езда или же ты был болен?
– Я все время был здоров, Мэри, – ответил рыцарь. – Со мной не приключилось ничего дурного; а долгая езда верхом, как тебе известно, для меня дело привычное. Те, кто благороден по происхождению, могут праздно проводить жизнь в своих замках и усадьбах. Но тот, кто достиг благородного звания личной доблестью, должен всегда быть в седле и постоянно доказывать людям, что он достоин своего возвышения.
Когда он произносил эти слова, леди Эвенел с любовью, не отрывая глаз, смотрела на него, как бы стараясь проникнуть в его душу, ибо в словах рыцаря слышались грусть и усталость.
Сэр Хэлберт Глендининг оставался таким же, каким был в свои юные годы, и все же многое в нем изменилось. Необузданный пыл честолюбивого юноши уступил место спокойной и рассудительной сдержанности опытного воина и искусного политика. Тяжелые заботы наложили глубокий отпечаток на его благородное лицо, тогда как прежде душевные волнения бросали на него лишь легкую т
Страница 17
нь, которая проскальзывала подобно облачку на летнем небе. Теперь лицо его не было мрачным, но сохраняло спокойное, суровое выражение. Так выглядит пасмурное, хоть и не сплошь затянутое тучами небо в тихий осенний вечер. Лоб рыцаря стал выше, а густые темные волосы, ниспадающие кольцами, поредели на висках – не от возраста, а от постоянного ношения стального шлема. По моде того времени он носил короткую, заостренную книзу бородку, с которой соединялись концы усов. Его щеки утратили румянец юности, обветрились и загорели, но все его мужественное лицо дышало здоровьем и энергией. Короче говоря, Хэлберт Глендининг был именно таким рыцарем, которому следовало бы ехать на коне рядом с королем, по правую его руку, быть его знаменосцем в бою и советником в мирное время; весь вид его говорил о том, что он человек положительный, твердого характера, который принимает решения обдуманно и действует быстро и без колебаний. Однако сейчас на его благородных чертах лежала печать уныния, чего сам он, вероятно, не сознавал, но что не могло укрыться от тревожного взора его любящей жены.– Что-то случилось или должно случиться, – сказала леди Эвенел. – Твое лицо не может быть таким печальным без причины; видно, какое-то несчастье грозит нам с тобой, а может быть, и всему нашему народу.
– Насколько мне ведомо, ничего нового не произошло, – сказал Хэлберт Глендининг, – но в нашей многострадальной, растерзанной стране можно ожидать самых тяжелых бедствий, какие только могут постигнуть государство.
– Тогда мне ясно, – сказала леди, – ты был вовлечен в какое-то опасное предприятие. Милорд Мерри не стал бы так долго задерживать тебя в Холируде, если бы ему не нужна была твоя помощь в каком-то важном деле.
– Я был не в Холируде, Мэри. Я провел несколько недель за границей.
– За границей! И не написал мне ни слова! – воскликнула леди.
– А что, кроме огорчения, принесло бы тебе такое известие, дорогая? – ответил рыцарь. – В твоем воображении легкий ветерок, который рябит порой поверхность этого озера, превращался бы в бурю, бушующую в Немецком море.
– И ты на самом деле плыл по морю? – спросила леди Эвенел, испытывая ужас при одном лишь упоминании об этой страшной стихии, которую ей самой никогда не приходилось видеть. – Ты действительно покидал родину и переправлялся на чужой берег, где не говорят по-шотландски?
– Да, да, я совершил все эти чудесные деяния, – шутливо ответил рыцарь, с нежностью беря ее руку. – Три дня и три ночи меня качал океан, большие зеленые волны вздымались у самой моей подушки, и только тоненькая доска отделяла меня от них.
– Воистину, Хэлберт, – сказала леди Эвенел, – это значило искушать Провидение. Я никогда не просила тебя расстаться со шпагой или выпустить из рук копье, никогда не требовала, чтобы ты оставался дома, когда долг чести призывал тебя вскочить на коня и уехать вдаль. Но разве мало тебе тех опасностей, которым ты подвергаешь себя в боях? Зачем нужно еще вверять свою судьбу бурным волнам бушующего моря?
– Среди жителей Германии и Нидерландов, – ответил Глендининг, – есть наши единоверцы, и нам надо быть в союзе с ними. Я был послан к некоторым из них с важным и секретным поручением. Мое путешествие прошло благополучно, и я вернулся невредимым. На пути между нашим замком и Холирудом жизни человека грозит больше опасностей, чем в море, омывающем берега Голландии.
– А что это за страна, Хэлберт? Какие люди живут в ней? – спросила леди Эвенел. – Похожи ли они на наших добрых шотландцев? И как относятся они к чужестранцам?
– Этот народ, Мэри, силен своим богатством, чем слабы все другие народы, но он слаб в искусстве ведения войны, которым сильны другие нации.
– Я не понимаю тебя, – произнесла леди Эвенел.
– Голландцы и фламандцы, Мэри, посвятили себя не военному делу, а торговле; благодаря своему богатству они могут нанимать иноземных солдат, которые защищают их своим оружием. Они сооружают на морском берегу плотины, чтобы защитить землю, отвоеванную ими у моря, и набирают полки из стойких швейцарцев и смелых германцев для охраны накопленных ими сокровищ. Таким образом, источник их слабости и их силы один и тот же, так как богатство, вызывающее алчность тех народов, которые сильнее их и которым они подвластны как вассалы, обращает оружие иностранцев на их защиту.
– Ленивый сброд! – вскричала Мэри, которая думала и чувствовала так же, как всякая шотландская женщина тех времен. – У них есть руки, чтобы держать оружие, а они не сражаются за родину! Да им стоило бы всем отрубить руки по локоть!
– Ну нет, это было бы слишком жестоко, – ответил ее муж, – они приносят своими руками пользу родине, хоть и не в боях, как это делаем мы. Погляди на эти голые холмы, Мэри, и на эту глубокую извилистую долину, по которой сейчас возвращается скот со своих тощих пастбищ. Руки трудолюбивых фламандцев насадили бы на горах лес и вырастили бы хлеба там, где сейчас мы видим только хилую и скудную поросль. Мне становится грустно, Мэри, когда я смотрю на нашу землю и думаю, ско
Страница 18
ько пользы могли бы принести люди, которых я недавно видел. Они равнодушны к пустой славе, унаследованной от давно умерших предков, и к почестям, приобретаемым кровавыми деяниями на поле брани. Они охраняют и умножают благосостояние своей страны вместо того, чтобы терзать и разорять ее.– У нас и мечтать нельзя о подобных усовершенствованиях, Хэлберт, – возразила леди Эвенел, – деревья, еще не успев подрасти, были бы сожжены нашими врагами англичанами, а посеянный нами хлеб был бы собран кем-либо из соседей, у которых больше войска, чем у нас. Но стоит ли сокрушаться об этом? Судьба определила тебе родиться шотландцем, она дала тебе ум, сердце и руки, чтобы достойным образом поддерживать славу твоего имени.
– Мне судьба не дала имени, славу которого я должен был бы поддерживать, – сказал Хэлберт, медленно шагая по зале взад и вперед. – Я был в первых рядах во всех схватках, участвовал во всех советах, и умнейшие мужи никогда не оспаривали моих суждений. Хитрый Летингтон[38 - Летингтон Уильям Мейтленд (1528?–1573) – лорд, известный под прозвищем «секретарь Летингтон», при Марии Стюарт ведал иностранными делами Шотландии. Впоследствии, уже во время пленения Марии в Англии, поднял открытый мятеж против протестантского правительства. Выдержав двухлетнюю осаду в Эдинбургском замке, был взят в плен и умер в тюрьме.], молчаливый и мрачный Мортон[39 - Мортон Джеймс Дуглас (1527?–1581) – граф, с 1563 г. занимал должность лорда-канцлера Шотландии, впоследствии – один из самых непримиримых врагов Марии Стюарт. Вскоре после смерти Мерри стал регентом Шотландии. В дальнейшем был предан суду и обезглавлен.] приглашали меня на тайные совещания, Грейндж[40 - Грейндж Уильям Кирколди (1520?–1573) – лорд, занимал видное положение среди мятежных лордов, однако после поражения Марии стал на ее сторону. Вместе с Летингтоном удерживал Эдинбургский замок, после падения которого был казнен.] и Линдсей[41 - Линдсей Байрс Патрик (ум. 1589) – лорд, один из первых шотландских лордов, ставших на сторону Реформации, непримиримый враг Марии Стюарт, верный соратник Мерри.] признали, что на поле битвы я всегда исполнял свой долг как доблестный рыцарь, и все же, когда у них больше не будет нужды в моем уме и в моих руках, они будут помнить только, что я – сын скромного владельца Глендеарга.
Леди Эвенел всегда боялась таких разговоров, ибо звание, приобретенное ее мужем, благосклонность к нему могущественного графа Мерри и большие способности, завоевавшие ему право на то и другое, не только не уменьшили, но скорее даже разожгли зависть к нему в сердцах гордых аристократов, которые не прощали сэру Хэлберту Глендинингу того, что он, простолюдин по рождению, стал знатной персоной лишь благодаря своим личным заслугам. При всей своей душевной стойкости он, однако, не мог презирать неоспоримые преимущества знатного происхождения, ценимые всеми, с кем ему приходилось иметь дело. Даже самые возвышенные души бывают порой доступны зависти: поэтому сэр Хэлберт иногда чувствовал себя уязвленным тем, что его супруга обладает преимуществами высокого рождения и потомственного благородства, которых нет у него самого; ему было крайне досадно думать, что положение владельца замка Эвенелов достигнуто им только благодаря браку с родовой его наследницей. Он не был настолько несправедлив, чтобы позволить недостойным чувствам целиком овладеть его душой, но все же они иногда возвращались к нему, и это не могло ускользнуть от настороженного внимания его жены.
«Если бы наш брак был благословен детьми, – думала она обычно в таких случаях, – если бы кровь наша смешалась в сыне, который от меня унаследовал бы преимущества благородного происхождения, а от мужа – его личные достоинства, эти тяжелые и неприятные мысли никогда бы не омрачали нашего счастья. Но, увы, судьба отказала нам в наследнике, на которого мы могли бы обратить свою любовь и возложить все свои надежды».
Неудивительно, что, при таких чувствах обоих супругов, у леди Эвенел становилось тяжело на душе всякий раз, когда ее муж заводил этот неприятный для нее разговор. И сейчас, как и в других подобных случаях, она постаралась отвлечь мужа от его грустных размышлений.
– Зачем ты напрасно терзаешь себя? – сказала она. – Разве у тебя в самом деле нет имени, честь которого ты должен поддерживать? Разве ты – честный, смелый, мудрый в совете и сильный в бою – не должен беречь свою славу, добытую подвигами и куда более почетную, чем та, которая просто наследуется от предков? Добродетельные люди любят и уважают тебя, порочные – боятся, буйные – покоряются тебе, и разве не должен ты постоянно поддерживать эту любовь и уважение, этот благотворный страх, это столь необходимое послушание?
Пока она говорила, муж смотрел ей в глаза, черпая в них утешение и бодрость; взор его прояснился, и, взяв руку жены в свою, он ответил:
– Ты совершенно права, дорогая Мэри, я заслужил твой упрек, потому что забываю, кто я, и сокрушаюсь о невозможном. Я теперь вполне схож с прославленными предками тех, кому я зави
Страница 19
ую: подобно им, я простолюдин, возвысившийся благодаря своим личным заслугам; и, конечно, обладать самому достоинствами, необходимыми, чтобы стать родоначальником знатной семьи, так же лестно и почетно, как и происходить от человека, которому такие достоинства были присущи много столетий тому назад. Темно-серый человек Хей Ланкарти[42 - Темно-серый человек Хей Ланкарти. – См. подстрочное примечание Вальтера Скотта на с. 329.], передавший своим потомкам безудержную страсть к кровопролитию, основатель рода Дугласов[43 - Дугласы – один из самых знатных и могущественных шотландских родов.], меньше мог гордиться своими предками, чем я. Ведь ты знаешь, Мэри, что я принадлежу к древнему роду воителей, и хотя ближайшие мои предки избрали себе то скромное положение, в котором находилась моя семья, когда ты впервые узнала ее, участие в войнах и советах не менее привычно для рода Глендонуайнов, вплоть до позднейших его представителей, чем для самых гордых наших аристократов.Он говорил это, меряя шагами залу. Леди Эвенел улыбнулась про себя, видя, как сильно занимают ее мужа прерогативы, связанные с рождением, и как он, выказывая презрение к ним, в то же время старается отстоять свое право на них, хотя бы и косвенное. Но она, разумеется, и виду не подала, что знает за мужем эту слабость: его гордый дух вряд ли бы мог легко примириться с такой проницательностью.
Продолжая мысль о праве рода Глендонуайнов, даже в боковых его ветвях, на всю полноту аристократических привилегий, он тем временем дошел до конца залы; повернув обратно, он спросил:
– Где Волк? Я еще не видел его, а ведь он всегда первый приветствовал мое возвращение.
– Волк посажен на цепь, – ответила леди в некотором смущении, причину которого она сама затруднилась бы объяснить, – он хотел кинуться на моего пажа.
– Волк на цепи! Он хотел кинуться на твоего пажа! – воскликнул сэр Хэлберт Глендининг. – Но Волк никогда ни на кого не кидался прежде; на цепи он захиреет или совсем одичает. Эй, люди! Сейчас же освободите Волка!
Его приказание было сразу же выполнено. Огромная собака вбежала в комнату и своими неловкими стремительными прыжками произвела в ней полнейший беспорядок, опрокинув и разбросав прялки, мотовила и веретена, за которыми незадолго перед тем сидели служанки, удалившиеся с появлением хозяина. У Лилиас, пытавшейся водворить все вещи на свои места, невольно вырвалось замечание в том смысле, что любимец милорда так же несносен, как и паж миледи.
– А что это за паж, Мэри? – спросил рыцарь, вторично услыхав о каком-то паже, на этот раз из уст камеристки. – Что это за паж, о котором упоминают уже второй раз и почему-то в сопоставлении с моим старым другом и любимцем Волком? И с каких пор ты стала считать, что для поддержания своего достоинства тебе необходимо держать при себе пажа? Кто такой этот юнец?
– Я надеюсь, Хэлберт, – сказала леди, слегка покраснев, – что ты не отрицаешь права твоей жены на такую же свиту, какую имеют все дамы одинакового с нею ранга.
– Конечно, нет, Мэри, – ответил рыцарь, – одного твоего желания иметь пажа для меня достаточно. Но сам-то я никогда не был склонен кормить всякую никчемную челядь вроде пажей. Может быть, надменным английским дамам и подобает, чтобы стройный юноша носил за ними шлейф, когда они переходят из одной комнаты в другую, обмахивал их веером, когда они дремлют, играл для них на лютне, когда им угодно его слушать; но наши шотландские матроны всегда были выше такого тщеславия, а наших юношей следует воспитывать для копья и стремени.
– Ну, полно, Хэлберт, – сказала леди, – я только в шутку назвала этого малыша своим пажом. На самом деле он сиротка, чуть было не утонувший в озере, но спасенный нами. Я оставила его в замке из чувства сострадания. Лилиас, приведи маленького Роланда.
Роланд тотчас же вошел в комнату и, подбежав к леди, ухватился за складки ее платья; затем повернул голову и стал пристально, хотя и не без страха, разглядывать статную фигуру рыцаря.
– Роланд, – сказала леди, – подойди и поцелуй руку благородному рыцарю, попроси его быть твоим покровителем.
Но Роланд не подчинился и, оставаясь на своем месте, продолжал внимательно и робко смотреть на сэра Хэлберта Глендининга.
– Ну, подойди же к рыцарю, Роланд, – повторила леди, – чего ты боишься, малыш? Иди поцелуй руку сэру Хэлберту.
– Я не хочу целовать ничьей руки, кроме вашей, – возразил Роланд.
– Делай как тебе велят, милый, – сказала ему леди. – Он смутился в твоем присутствии, – прибавила она, желая оправдать поведение Роланда в глазах мужа. – Но ведь правда, он красивый мальчик!
– А Волк – красивая собака, – сказал сэр Хэлберт, гладя по спине своего четвероногого баловня, – но у него есть два преимущества по сравнению с твоим новым любимцем: он выполняет то, что ему приказывают, и не слушает, когда его хвалят.
– Ну вот, я вижу – ты недоволен мной, – сказала леди, – а почему, собственно? Что в этом дурного – помочь несчастному сироте или полюбить красивое, заслуживающее симпатии существ
Страница 20
? Но ты видел в Эдинбурге Генри Уордена, и он восстановил тебя против бедного мальчика.– Моя дорогая Мэри, – ответил ей муж, – Генри Уорден достаточно хорошо понимает свое положение, чтобы позволить себе вмешиваться в твои или мои дела. Я отнюдь не порицаю тебя за то, что ты спасла ребенка и что ты добра к нему. Но я думаю, что, принимая во внимание его происхождение и его будущее, тебе не следовало бы выказывать по отношению к нему такую пылкую любовь, ибо это в конце концов может сделать его непригодным для того скромного удела, который предназначен ему Господом.
– Нет, Хэлберт, это не так – ты только взгляни на мальчика, – возразила леди, – разве по нему не видно, что Бог предназначил его для положения более высокого, нежели положение простого крестьянина? Вполне возможно, что и ему суждено выйти из низкого состояния и достигнуть почестей и знатности. Ведь тому уже были примеры.
Дойдя до этого пункта, она почувствовала, что вступает на опасную почву, и, как это обычно бывает с людьми, когда они попадают в трясину – в прямом или в переносном смысле, – поступила самым естественным в таких случаях, но вместе с тем и наихудшим образом – то есть вдруг остановилась; сравнение, которое она собиралась привести, замерло у нее на устах. Она покраснела, а по лицу сэра Хэлберта Глендининга прошла легкая тень. Но он огорчился лишь на минуту, ибо хорошо знал свою жену и потому не мог в дурном смысле истолковать ее слова или предположить, что она сознательно хочет оскорбить его.
– Поступай как тебе нравится, дорогая, – ответил он. – Я слишком многим обязан тебе, чтобы возражать против чего бы то ни было, если это может хоть как-то скрасить твою одинокую жизнь. Сделай этого мальчика кем угодно – я даю на это свое полное согласие. Но только помни: заботиться о нем – твоя обязанность, а не моя, помни – ему даны руки, чтобы держать оружие, душа и язык – чтобы славить Господа. Воспитай же в нем верность родине и преданность Богу; что касается всего прочего, то располагай им как тебе заблагорассудится – это будет впредь, как и ныне, только твоим делом, и ничьим больше.
Этот разговор решил судьбу Роланда Грейма; с этих пор хозяин замка Эвенелов редко замечал его, зато госпожа по-прежнему ему покровительствовала и потакала во всем.
Такое положение возымело важные последствия и способствовало тому, что хорошие и дурные качества в характере Роланда развились вполне. Поскольку рыцарь ясно дал понять, что не интересуется любимцем своей супруги и не хочет руководить его воспитанием, юный Роланд силой обстоятельств оказался избавленным от строгой дисциплины, которая в противном случае распространялась бы и на него, как на всякого, кто в те суровые времена состоял в свите шотландского дворянина. Управитель, или дворецкий (такой пышный титул присваивался старшему слуге в доме каждого мелкопоместного барона), считал за благо ни в чем не перечить любимцу леди, памятуя, что именно ей теперешняя господская семья обязана своими владениями. Почтенный Джаспер Уингейт, по его собственному горделивому признанию, был человеком, искушенным во всем, что касается жизни знатных семейств, и умел вести свой корабль даже против течения и против ветра. Этот осторожный человек на многое смотрел сквозь пальцы и, дабы не давать повода к еще большему нарушению порядка, довольствовался тем, что Роланду Грейму угодно было делать самому, ничего больше от него не требуя. Он справедливо полагал, что если рыцарь Эвенел и не обращает внимания на Роланда, то все же дурно отозваться при нем о мальчике значило бы нажить себе врага в лице леди Эвенел, не снискав при этом благосклонности самого хозяина. Исходя из этих мудрых соображений и, конечно, заботясь прежде всего о собственном благополучии и спокойствии, он занимался обучением мальчика ровно столько времени, сколько тот расположен был учиться, и с готовностью принимал любые извинения, какие только ни приводил мальчик в оправдание своей небрежности и лени. Так как другие слуги в замке, на которых тоже была возложена обязанность обучать Роланда Грейма, подражали благоразумному поведению мажордома, они ни к чему не принуждали мальчика, и если он все же как-то учился, то лишь потому, что, обладая живым умом и не будучи ленивым от природы, сам проявлял любознательность и по своей охоте занимался различными упражнениями. Он был особенно усерден, когда сама леди выражала желание руководить его занятиями или проверить, каковы его успехи. Будучи любимцем миледи, Роланд не пользовался особым расположением юношей, состоявших в свите рыцаря, многие из которых были его сверстниками и, по-видимому, равного происхождения с удачливым пажом; но, в отличие от него, они были обязаны подчиняться строгой дисциплине, искони предписанной слугам всякого владетельного феодала. Конечно, эти юноши завидовали Роланду, а следовательно, испытывали к нему неприязнь и всячески старались унизить его. Но Роланд обладал такими качествами, не оценить которые было невозможно. Природная гордость и рано развившееся честолюбие сдел
Страница 21
ли для него то же, что делает для других настойчивая муштра, сопровождающаяся окриками, а иногда и строгими взысканиями. В самом деле, юный Роланд с ранних лет проявлял такую гибкость ума и тела, которая превращает всякого рода физические и умственные упражнения из утомительного занятия в приятную забаву; он, как бы играя, на лету схватывал то, что другому давалось лишь в результате упорной, длительной выучки, подкрепляемой частыми выговорами, а порой даже и наказаниями. Когда что-либо нравилось ему или казалось заслуживающим его внимания, он способен был во всем – и в военных упражнениях, и в прочих преподававшихся в те времена науках – достичь такого совершенства, которое буквально изумляло окружающих. Однако на самом деле в этом не было ничего удивительного: очень часто талант и страстное увлечение делом возмещают недостаток прилежания и настойчивости. Поэтому-то, хотя других юношей заставляли более регулярно упражняться в искусстве владеть оружием, в верховой езде и прочих необходимых по тем временам занятиях, они едва ли могли похвалиться большими успехами, чем вызывавший их зависть Роланд Грейм, который столь очевидно пользовался снисходительностью и попустительством. Роланду требовалось только несколько часов сильного напряжения воли, и он добивался большего, нежели другие за недели регулярного обучения.Вот в таких-то особо благоприятных условиях (если только можно считать их действительно благоприятными) постепенно развивался характер юного Роланда. Мальчику были свойственны смелость, решительность, своеволие и властность; он был добр, когда ему не противоречили и не препятствовали в его намерениях, резок и вспыльчив, если его порицали или становились ему поперек дороги. Он, видимо, считал себя никому не подчиненным и ни перед кем не ответственным, кроме своей госпожи, но и на нее он имел известное влияние, которое, естественно, вытекало из оказываемых ему поблажек. И хотя приближенные и слуги сэра Хэлберта Глендининга, питая зависть к влиятельному пажу, никогда не упускали случая уязвить его тщеславие, не было недостатка и в тех, кто, желая завоевать расположение леди Эвенел, подлаживался к находившемуся под ее покровительством юнцу и брал его сторону; ибо если у фаворита, как уверяет нас поэт, нет друга, то уж поклонников и льстецов у него, как правило, предостаточно.
Сторонниками Роланда Грейма были преимущественно жители деревушки на берегу озера. Те поселяне, которые не могли порой удержаться от сравнения своей жизни с жизнью людей из свиты рыцаря, постоянно сопутствовавших ему в его частых путешествиях в Эдинбург и в другие места, утешались тем, что считали себя в большей степени вассалами леди Эвенел, нежели ее мужа, и повсюду представлялись именно в таком звании. Правда, ум леди Эвенел и ее любовь к мужу всегда препятствовали проведению различия между супругами, хотя бы и таким косвенным образом, но жители деревни все-таки думали, что ей должно быть приятно одной пользоваться их особым уважением; по крайней мере, они поступали так, будто были на самом деле уверены в этом. Свои чувства они выражали главным образом в подобострастном отношении к фавориту-пажу наследницы знатного рода, которому они были исстари подвластны.
Лесть была слишком приятна Роланду, чтобы встретить у него возражение или неодобрение; представившаяся ему благодаря этому возможность образовать партию своих приверженцев в родовом имении Эвенелов немало способствовала усилению в его характере, смелом, стремительном и неукротимом от природы, склонности к поступкам дерзким и решительным.
Раньше других неприязнью к Роланду прониклись два обитателя замка – Волк и Генри Уорден. Предубеждение Волка вскоре было преодолено, а через некоторое время это благородное животное издохло, оставив по себе такую же память, как Брэн, Луас[44 - Брэн, Луас – собаки, о которых рассказывается в «Сочинениях Оссиана» (1762–1765) – сборнике древних кельтских легенд, обработанных шотландским поэтом Джеймсом Макферсоном (1736–1796).] и другие знаменитые в истории собаки. Но капеллан остался в живых и по-прежнему питал антипатию к мальчику. Этот добрый человек, при всей своей простоте и благожелательности в обращении с людьми, имел несколько преувеличенное представление об уважении, полагающемся ему как священнослужителю, и требовал от обитателей замка большего почтения к себе, чем порою желал ему оказывать высокомерный паж, гордый милостями своей госпожи и дерзкий как по молодости лет, так и ввиду занимаемого им в доме положения.
Независимое и вызывающее поведение Роланда, его пристрастие к богатому платью и украшениям, его неспособность воспринимать наставления, его злобное ожесточение, которым он отвечал на любой упрек, – все эти обстоятельства заставили доброго старика с большей поспешностью, чем это подсказывалось бы христианским милосердием, объявить наглого пажа сосудом гнева и предсказать, что взращенные в его душе гордыня и высокомерие неизбежно приведут его к падению и гибели. Роланд тоже не оставался в долгу: он выражал порой
Страница 22
вную антипатию и даже нечто вроде презрения к капеллану. Большинство людей из свиты Хэлберта Глендининга одобряли предостережения преподобного мистера Уордена, но, пока Роланд пользовался милостями госпожи и был терпим для рыцаря, они остерегались высказывать свои мнения вслух. Роланд Грейм довольно остро ощущал все неудобства положения, в котором находился; но в своем высокомерии он держал себя со всеми слугами так же холодно, отчужденно и презрительно, как те относились к нему самому. Показывая всем своим видом превосходство над ними, он заставлял повиноваться себе даже самых непокорных и получал, по крайней мере, то удовлетворение, что его боялись – пусть даже искренне ненавидя.Явная антипатия капеллана к Роланду Грейму привлекла к мальчику благосклонное внимание брата сэра Хэлберта, Эдуарда, который под именем отца Амвросия вместе с другими немногочисленными монахами, возглавляемыми аббатом Евстафием, по-прежнему жил в Кеннаквайрском монастыре, где им разрешено было еще оставаться, несмотря на почти полное поражение их религии во время регентства Мерри. Из уважения к сэру Хэлберту монахов не лишили совсем аббатства, хотя их орден был уже почти повсеместно распущен. Им только запретили общественное отправление богослужения и оставили из всех доходов, некогда огромных, лишь небольшую пенсию для удовлетворения насущных потребностей. Отец Амвросий в эту пору иногда посещал замок Эвенелов – хотя и весьма редко. Замечали, что во время таких посещений он обращал особое внимание на Роланда Грейма, который, казалось, отвечал ему тем же, проявляя при этом более сильные чувства, чем обычно это было ему свойственно.
Так прошло несколько лет. Рыцарю Эвенелу по-прежнему нередко приходилось играть выдающуюся роль в событиях, связанных с общественными потрясениями на его несчастной родине. Юный Роланд между тем с нетерпением ждал того времени, когда он сможет выйти из своего ничтожного состояния, а пока что готовил себя для лучшего будущего.
Глава IV
Раз Валентина на пиру
Какой-то юный лорд
Рожденьем низким попрекнул,
Своим рожденьем горд.
«Валентин и Орсон»[45 - «Валентин и Орсон» – рыцарский роман XV в., повествующий о приключениях двух братьев-близнецов.]
Роланду Грейму должно было скоро исполниться семнадцать лет. Однажды летним утром ему пришло в голову подойти к клетке, где сэр Хэлберт Глендининг держал своих соколов. Он хотел понаблюдать, как обучают молодого сокола, которого он сам, с риском свернуть себе шею или переломать руки и ноги, достал с одной неприступной скалы, называемой Гледскрейг. Решительно не удовлетворенный уходом за его любимой птицей, он тут же выразил свое неудовольствие помощнику сокольничего, на чьей обязанности лежало заботиться о ней.
– Эй, парень! – крикнул Роланд. – Ты что же это кормишь моего сокола непромытым мясом, словно какого-то вороненка! Клянусь обедней, ты, кажется, еще к тому же два дня не чистил клетки! Да разве я для того рисковал своей шеей, взбираясь на скалу за этой птицей, чтобы ты погубил мне ее своей небрежностью! – И, желая сделать свой выговор еще более внушительным, он нанес нерадивому помощнику сокольничего один или два удара кулаком. Тот поднял неистовый крик, словно его убивали, и ему на выручку поспешил сам сокольничий.
Адам Вудкок, сокольничий замка Эвенелов, был родом англичанин, но он так долго состоял на службе у сэра Глендининга, что его привязанность к последнему в значительной мере возобладала над его национальными чувствами. Его высоко ценили как знатока своего дела, и он сам был полон самодовольства и тщеславия, подобно всем мастерам охотничьего искусства. Вдобавок он был шутник и немного поэт (качества, которые отнюдь не уменьшали его природной склонности к тщеславию), человек веселого нрава, предпочитавший, несмотря на свою преданность протестантизму, флягу доброго эля длинной проповеди. Он умел драться, когда в этом была нужда, всегда стоял горой за своего господина, но и не забывал извлекать пользу для себя из своей незаменимости. Само собой разумеется, что Адаму Вудкоку с его характером, таким, как мы его описали здесь, не могло прийтись по вкусу это самоуправство Роланда Грейма, вздумавшего наказать его помощника.
– Эй, эй, потише, паж моей госпожи, – сказал он, встав между подчиненным и Роландом. – Умерьте-ка свой пыл. Вы думаете, что коли на вас расшитая золотом куртка, так вам можно и кулаки в ход пускать? Если мальчик сделал что не так, я сам могу его поколотить, а уж вы благоволите не давать воли рукам.
– Я поколочу вас обоих, – без промедления ответил Роланд. – Ты делаешь свое дело не лучше твоего помощника. Посмотреть только, как вы обращаетесь с птицей! Он при мне, остолоп этакий, кормил ее непромытым мясом, а ведь это соколиный птенец!
– Чепуха! – сказал сокольничий. – Сам-то ты еще птенец, Роланд. Что ты знаешь о кормлении соколов? Запомни, что соколиному птенцу нужно давать мясо непромытым, пока он не подрастет, – иначе у него испортится клюв. Это известно всякому, кто умеет отлич
Страница 23
ть сокола от коршуна[5 - Знатоки расходятся в мнениях относительно того, сколько времени следует кормить соколиного птенца непромытым мясом. (Примеч. авт.)].– Ты хочешь оправдать свою лень, лживый англичанин. Сам только и делаешь, что спишь да пьешь вино, а всю работу сваливаешь на этого олуха, который так же скверно выполняет ее, как и ты.
– Это я-то лентяй! – возмутился сокольничий. – А у кого на попечении три разряда соколов, кто следит за ними, чистит их клетки и насесты, кто гоняет их в поле? А вы-то чем заняты, молодой человек, что смеете мне указывать? Еще я и лживый англичанин к тому же! А сам-то ты кто такой, хотел бы я знать? Ни англичанин, ни шотландец – ни рыба ни мясо, найденыш со Спорной земли, без роду, без племени! Стыдиться тебе надо! Коршун ты, вот кто, а корчишь из себя благородного сокола.
Ответом на это ядовитое замечание была оплеуха, так ловко нанесенная, что Адам Вудкок упал навзничь в корыто с водой, предназначенной для соколов. Сокольничий сразу же вскочил, но купанье в холодной воде отнюдь не способствовало уменьшению его гнева. Схватив стоявшую рядом увесистую палку, он готов был сполна рассчитаться со своим обидчиком, но тут Роланд Грейм вытащил кинжал с деревянной рукояткой и поклялся, что всадит сокольничему клинок в живот по самую рукоятку, если тот осмелится ударить его.
Ссора стала такой громкой, что на шум ее сбежались слуги. Явился впопыхах и сам важный дворецкий (о котором мы уже говорили) со знаками своей власти – золотой цепью и белым жезлом. Приход этого почтенного лица заставил противников несколько умерить свой пыл.
Однако дворецкий воспользовался благоприятным случаем и сурово отчитал Роланда Грейма, объяснив ему все неприличие его поведения в отношении других слуг и заверив его, что если бы хозяин (который в ту пору был в очередном походе, но вскоре должен был вернуться) узнал от своего мажордома об этой драке, то дальнейшее пребывание ее виновника в замке Эвенелов оказалось бы весьма непродолжительным. Дворецкий добавил, что он не преминул бы сообщить обо всем рыцарю, если бы его не удерживало уважение к госпоже.
– Но, во всяком случае, – заключил осторожный домоправитель, – я прежде всего доложу о происшествии миледи.
– Верно, верно, вы совершенно правы, мейстер Уингейт, – воскликнули разом несколько голосов. – Пусть миледи решит, можно ли грозить кинжалом за каждое пустое слово и будем ли мы впредь, как и раньше, жить в мирном доме, где соблюдается порядок и господствует страх божий, или же среди обнаженных кинжалов и ножей.
Роланд Грейм, вызвавший это всеобщее возмущение, окинул всех присутствующих злобным взглядом. С трудом подавляя в себе желание ответить грубой насмешкой, он вложил кинжал в ножны, еще раз презрительно посмотрел на слуг, круто повернулся и пошел к выходу, расталкивая тех, кто мешал ему пройти.
– Придется мне искать местечка для моего гнезда на другом дереве, – сказал сокольничий, – если этот забияка воробушек захочет куражиться над нами, а он, кажется, именно это собирается делать.
– Вчера он ударил меня хлыстом, – сказал один из конюхов, – за то лишь, что хвост у лошади, на которой ездит его милость, был подстрижен не по его вкусу.
– Верите ли, – сказала прачка, – нашему молодому господину ничего не стоит назвать честную женщину грязнулей и девкой, если на его воротничке оказывается хоть малейшее пятнышко.
Общее мнение было таково, что, если мейстер Уингейт не доложит обо всем миледи, в доме житья не будет от Роланда Грейма.
Домоправитель слушал некоторое время все эти речи, а затем, подав знак к всеобщему молчанию, сказал с достоинством не меньшим, чем у самого Мальвольо[46 - Мальвольо – персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно».]:
– Милостивые государи и вы, милостивые государыни, не порицайте меня, если я буду действовать в этом деле с осторожностью, избегая опрометчивых поступков. Наш господин – доблестный рыцарь, как говорят у нас в народе, и привык всюду главенствовать: и у себя и у чужих, в лесу и в поле, в зале и в спальне. Наша леди – да будет она благословенна! – благородная дама, наследница древнего рода, законная владелица замка и имения. Она тоже любит, чтобы ей все повиновались, а кстати сказать, хотел бы я видеть женщину, которая бы этого не любила.
Так вот, она с некоторых пор стала благоволить этому наглому мальчишке, благоволит ему и сейчас и будет благоволить впредь, чего ради – сказать не могу, разве что по той же причине, по которой благородные дамы любят комнатных собачек, говорящих попугаев или заморских обезьян. Точно так же и наша благородная леди возымела симпатию к этому невесть откуда взявшемуся шалопаю только за то, что благодаря ей его спасли, когда он тонул (тем больше ее жалость к нему).
Тут мейстер Уингейт сделал паузу.
– Я готов поставить целый грот[47 - Грот – шотландская серебряная монета достоинством в 4 пенса.] за то, что он не утонет ни в соленой, ни в пресной воде, – сказал противник Роланда, сокольничий Вудкок. – Пусть я
Страница 24
никогда больше не надену колпачка на сокола, если ему не суждено быть повешенным за воровство или убийство.– Успокойся, Адам, – сказал Уингейт, протянув к нему руку с поднятой ладонью, – прошу тебя, успокойся. Так вот, как я уже сказал, питая симпатию к этому молокососу, миледи расходится в данном пункте с милордом, который его терпеть не может. Подумайте, следует ли мне вызывать раздор между супругами, просовывать, как говорится, палец между корой и деревом, из-за какого-то дерзкого юнца, который, впрочем, на мой взгляд, заслуживает, чтобы его прогнали кнутом прочь из имения? Потерпите немного, и нарыв лопнет сам собой, без нашего вмешательства. Я служу господам с тех пор, как у меня появился первый пушок на подбородке, а теперь уже борода моя стала совсем седой, и мне редко приходилось видеть, чтобы кто-нибудь выигрывал, беря сторону госпожи против господина; но уж решительно всякий, кто поступал наоборот, совершал настоящее самоубийство.
– Выходит, – сказала Лилиас, – мы все (мужчины и женщины, петухи и куры) должны позволять этому желторотому выскочке помыкать нами? Но нет, я первая померюсь с ним силой, уж обещаю вам. Надеюсь, мейстер Уингейт, если вы такой умный человек, каким кажетесь, вам угодно будет рассказать миледи о том, что видели сегодня, буде она вам прикажет?
– Говорить правду миледи по ее приказанию, – ответил осторожный домоправитель, – это до известной степени мой долг, миссис Лилиас, исключая, разумеется, те случаи, когда этого нельзя сделать, не причиняя вреда или не доставляя неприятностей себе самому или своим коллегам. Известно ведь, что язык сплетника ломает кости не хуже джеддартского жезла[6 - Род алебарды, получившей свое название от старинного герба Джеддарта, на гербе которого и по сей день можно видеть всадника, размахивающего этим оружием. (Примеч. авт.)].
– Но этот чертов мальчишка – не из числа ваших друзей и коллег, – сказала Лилиас. – И, я надеюсь, вы не собираетесь взять его сторону против нас всех.
– Поверьте мне, миссис Лилиас, – возразил дворецкий, – представился бы только подходящий случай – уж он бы полетел у меня вверх тормашками.
– Этого достаточно, мейстер Уингейт, – ответила Лилиас. – Раз так, то, уверяю вас, его песенка скоро будет спета. Не пройдет и десяти минут, как госпожа спросит меня, что произошло здесь, внизу, – или же она не женщина, а меня не зовут Лилиас Брэдборн.
Для осуществления задуманного плана миссис Лилиас вошла к своей госпоже с таким видом, словно ей известна какая-то важная тайна, – углы рта у нее были опущены, взгляд устремлен вверх, губы сжаты так плотно, как будто она сшила их, чтобы как-нибудь не проболтаться; весь ее облик, все ее поведение были исполнены таинственной многозначительности и как бы говорили: «Я что-то знаю, но ни за что вам не скажу».
Лилиас хорошо понимала характер своей госпожи, которая, несмотря на свой ум и доброту, была все же дочерью праматери Евы и поэтому не могла смотреть на загадочное поведение камеристки, не томясь желанием узнать, в чем его тайная причина.
Некоторое время миссис Лилиас уклонялась от ответов на вопросы; она только вздыхала, еще выше поднимала глаза к небу, выражала надежду, что все обойдется, и уверяла, что ничего особенного не случилось. Все это, как и следовало ожидать, разожгло любопытство леди; от ее расспросов уже нельзя было отбиться.
– Я, слава богу, не смутьянка и не сплетница, – сказала Лилиас. – Никогда, слава богу, я не завидовала тем, кто в милости у господ, и не разглашала их провинностей. И, слава богу, в нашем доме до сих пор не было кровопролития и убийства – вот и все.
– Кровопролитие, убийство? – вскрикнула леди. – Что ты такое говоришь? Если ты сейчас же не скажешь мне все как есть, то скоро пожалеешь об этом.
– Ну что же, миледи, я скажу вам всю правду, раз вы велите, но только постарайтесь не утратить самообладания, услышав кое-что, быть может, и неприятное для вас: Роланд Грейм бросился с кинжалом на Адама Вудкока – вот и все.
– Великий боже! – сказала леди, побелев как мел. – Этот человек убит?
– Нет, миледи, – ответила Лилиас, которой не терпелось, по выражению Чосера, «распаковать свой сундук», иначе говоря – выложить все, что у нее было на уме, – но он непременно был бы убит, если бы сразу же не подоспела помощь. Хотя, может быть, вашей светлости угодно, чтобы этот молодой оруженосец протыкал ваших слуг кинжалами, а также хлестал их бичом и лупил палкой?
– Вот как, ты стала дерзить, милочка, – сказала леди. – Пойди и немедленно позови сюда дворецкого.
Лилиас тотчас вышла, чтобы найти мейстера Уингейта и привести его к леди. Она успела сказать ему:
– Я толкнула камень, и он покатился; смотрите же, не остановите его.
Управляющий в ответ только хитро посмотрел на нее и понимающе кивнул головой – он был слишком осторожен, чтобы связать себя каким-нибудь более определенным обещанием. Сразу же вслед за тем он предстал перед леди Эвенел с выражением глубокого почтения, отчасти искреннего, отчасти напускного; его глубоко
Страница 25
ысленный вид обличал немалое самомнение.– Что все это значит, Уингейт? – сказала леди. – Так-то вы управляете замком, что слуги сэра Хэлберта Глендининга бросаются друг на друга с кинжалами, словно воры и убийцы в своих логовах! Человек этот серьезно ранен? И что же… что же сталось с несчастным мальчиком?
– Покамест никто не ранен, миледи, – ответил обладатель золотой цепи, – но кто знает, сколько народу здесь будет ранено до наступления Пасхи, если как-нибудь не воздействовать на этого молодого человека. Конечно, он очень славный юноша, – поспешил смягчить сказанное мейстер Уингейт, – очень способный, но уж слишком легко пускает в ход руки да орудует хлыстом и кинжалом.
– А кто в этом виноват, как не вы сами? – сказала леди. – Кому прежде всего надлежало научить его вести себя как следует, не затевать ссор, не хвататься за кинжал?
– Если вашей милости угодно возложить вину на меня, – ответил управитель, – я, конечно, не буду прекословить, но только прошу вас принять во внимание, что не мог же я прибить его кинжал к ножнам гвоздями, а ведь иначе его не удержать никак; это все равно что пытаться удержать ртуть, с чем не мог справиться сам Раймунд Луллий[48 - Раймунд Луллий (1235–1315) – средневековый философ-схоласт, поэт и алхимик, уроженец острова Майорки. Его главное произведение – «Ars magna Lulli» («Великое искусство Луллия») – попытка систематизации понятий с целью усовершенствования искусства доказательств. Луллий изобрел «логическую машину», которая механическим комбинированием понятий должна была заменить человеческое мышление. Последний труд Луллия – «Arbor scientiae» («Древо наук»), разделенный на шестнадцать частей, каждая из которых посвящена особой науке, – представляет собой энциклопедию знаний XIII в.].
– Перестаньте разглагольствовать о Раймунде Луллии, – сказала леди, теряя терпение, – и пошлите-ка сюда капеллана. Вы все стали тут слишком умничать, пользуясь долгими и частыми отлучками вашего господина. Я молю Бога, чтобы дела мужа позволили ему оставаться дома и самому управлять прислугой; у меня не хватает на это ни разумения, ни сил.
– Не дай бог, миледи, – воскликнул старик, – чтобы вы на самом деле думали так, как говорите: ваши старые слуги, после стольких лет верной службы, вправе надеяться, что теперь, когда они дожили до седых волос, вы не будете к ним несправедливы и не лишите их своего доверия из-за того лишь, что они не могут обуздать юнца с горячей головой, которую он задирает, быть может, на один-два дюйма выше, чем ему следует.
– Оставьте меня, – сказала леди. – Я теперь со дня на день жду возвращения сэра Хэлберта; пусть он сам разберется во всех этих делах. Слышите, Уингейт, оставьте меня – и больше ни слова об этом. Я знаю, вы человек честный, и верю, что мальчик несдержан; но все же я полагаю, что именно моя благосклонность к нему восстановила вас всех против него.
Поскольку и вторая попытка управителя объяснить мотивы своего поведения была пресечена, он ответил поклоном и удалился.
Сразу же после него пришел капеллан, но он тоже ничем не утешил леди. Напротив, он заявил, что ее снисходительность виною всем беспорядкам, которые произвел и еще произведет в доме Роланд с его буйным характером.
– Я сожалею, высокочтимая леди, – сказал он, – что вы не соблаговолили последовать моему совету в самом начале этой истории, ибо легко предотвратить зло, поставив запруду у его источника, но трудно бороться с ним, когда оно разольется широким потоком. А вам, глубокоуважаемая госпожа, – я называю вас так не потому, что хочу следовать пустым условностям этого мира, но ввиду моей неизменной любви и уважения к вам как к весьма достойной особе редких нравственных качеств, – вам, говорю я, угодно было, вопреки моему смиренному, но искреннему совету, вывести этого мальчика из низкого состояния и поднять его почти до вашего собственного положения в обществе.
– Что вы имеете в виду, достопочтенный сэр? – спросила леди. – Я сделала юношу своим пажом – разве этот поступок несовместим с моим достоинством и моим званием?
– Не спорю, миледи, – сказал упрямый проповедник, – вы желали облагодетельствовать этого юношу, беря его под свое покровительство, и имели полное право дать ему эту никчемную должность пажа, если таково было ваше желание, хотя я не в силах себе представить, как может воспитание мальчика в женском окружении привести к чему-либо иному, кроме изнеженности и склонности к щегольству в соединении с высокомерием и самонадеянностью. Но я действительно порицаю вас за то, что вы не подумали предостеречь юношу от опасностей, с которыми связано его положение, не укрощали и не смиряли его характер, надменный, властный и беспокойный от природы. Вы привели в свои покои львенка, вы восхищались его красивой шкурой, его изящными прыжками и не посадили его в клетку, как того требовал его свирепый нрав. Вы допустили, чтобы он рос, не зная чувства страха, как если бы он по-прежнему жил в лесу, а теперь вы удивлены и зовете на помощь, когда он, в полном согласии со
Страница 26
воей природой, стал кидаться на добычу, вонзать в нее зубы и раздирать ее на части.– Мистер Уорден, – сказала леди Эвенел, явно оскорбленная, – вы давний друг моего мужа, и я верю в искренность вашей любви к нему и к его домочадцам. Однако позвольте сказать вам, что, прося вашего совета, я не ожидала такого сурового выговора. Если я и поступила неправильно, полюбив этого бедного сироту больше других детей из его среды, то все же едва ли моя ошибка заслуживает столь резкого порицания. Может быть, нужна была более строгая дисциплина, чтобы удерживать в рамках его пылкую натуру, – но в таком случае, я полагаю, следовало принять во внимание, что я женщина, и, если я допустила ошибку, оказать мне помощь, как подобает настоящему другу, вместо того чтобы упрекать меня. Я хотела бы, чтобы все эти неприятности уладились до возвращения милорда. Он не любит раздоров и свар между домашними. И уж тем более мне не хотелось бы, чтобы он думал о юноше, которого я опекаю, как о возможном зачинщике таких неблаговидных поступков. Что же вы посоветуете мне делать?
– Отстранить его от себя, миледи, – ответил проповедник.
– Вы не можете просить меня поступить так, – сказала леди, – не можете, как христианин и гуманный человек, просить меня прогнать беззащитного мальчика, который нажил себе столько врагов из-за моей благосклонности к нему – опрометчивой благосклонности, если угодно.
– Вовсе не требуется бросать его на произвол судьбы; вы найдите для него другую должность или занятие, более соответствующее его происхождению и характеру, – сказал проповедник. – В другом месте он может оказаться полезным и достойным членом общества. Здесь он – только нарушитель спокойствия и сеятель смуты. Он иногда проявляет ум и здравый смысл, хотя ему недостает трудолюбия. Я лично дам ему рекомендательные письма к Олеарию Шиндерхаузену, ученому профессору знаменитого Лейденского университета[49 - …знаменитого Лейденского университета… – Университет в Лейдене (Нидерланды) был основан только в 1575 г. В романе – анахронизм. Имя профессора вымышленное.], где как раз сейчас требуется помощник младшего учителя. Там, кроме бесплатного обучения, которым он сможет воспользоваться, если его наставит Господь, он будет получать пять марок ежегодно и один раз в два года костюм из гардероба профессора.
– Это не выход, дорогой мистер Уорден, – сказала леди, с трудом подавляя улыбку, – мы еще подумаем, как нам поступить. А пока что я поручаю вам нашего повесу и всех слуг, надеясь, что ваши увещания удержат их от непристойно-бурных вспышек зависти и неистовых выпадов. Умоляю вас, растолкуйте мальчику и слугам, в чем состоит их долг перед Богом и перед их господином.
– Ваше желание будет исполнено, миледи, – сказал Уорден. – В ближайший четверг я буду читать проповедь всем домочадцам. С Божьей помощью я дам бой демону гнева и насилия, пробравшемуся в мою немногочисленную паству, и верю, что, подобно сторожевому псу, изгоню волка из овчарни и затравлю его.
Эта тема в беседе с леди Эвенел была наиболее приятной для мистера Уордена. Кафедра проповедника в те времена была таким же могучим средством воздействия на чувства людей, каким потом стала печать, а он, как мы знаем, был проповедником незаурядным.
Естественно поэтому, что он несколько переоценивал силу своего красноречия, и, как многие его собратья в ту эпоху, радовался всякой возможности заняться каким-нибудь важным вопросом общественного или частного характера, о котором он мог бы потолковать в своей проповеди. В тот суровый век была неизвестна щепетильность в выборе времени и места для увещаний определенных лиц. Нередко придворный проповедник обращался к самому королю и поучал его, как ему надлежит вести себя в государственных делах; знатный дворянин наравне с любым из своих слуг часто должен был выслушивать в часовне феодального замка – смотря по обстоятельствам, с негодованием или со страхом – вечернюю проповедь, в которой разбирались его дурные поступки и провозглашалось осуждение их церковью, обращенное к нему лично, с упоминанием его имени.
Намереваясь восстановить своей проповедью согласие и порядок в замке Эвенелов, Генри Уорден избрал ее темой известные слова из Священного Писания: «Разящий мечом от меча и погибнет». Она представляла собой удивительную смесь здравого смысла и пламенного красноречия с педантизмом и дурным вкусом. Мистер Уорден сначала долго распространялся о том, как надо понимать слово «разящий». Он внушал слушателям, что тут подразумевается нанесение ударов острием меча и его лезвием, а также, в более общем смысле – стрельба из ружья, арбалета и большого лука, метание копья и любое другое действие, которое может стать причиной смерти противника. Рассуждая таким же образом, он убедительно доказал, что под словом «меч» подразумеваются все виды этого оружия, будь то тесак или шпага, рапира, палаш или ятаган.
– Но если, – продолжал он, все более воодушевляясь, – Писание предает анафеме тех, кто разит названным мною оружием, созданным людьми для применения
Страница 27
открытом бою, то оно тем более запрещает употреблять оружие, по своей форме и размеру подходящее более для удовлетворения тайной злобы путем предательства, нежели для борьбы с предупрежденным и готовым защищаться противником.Я говорю прежде всего о тех смертоносных предметах, которые раньше употребляли главным образом воры и убийцы, а теперь, в наше удивительное время, носят также и молодые люди, состоящие в услужении у благородных дам. – При этих словах проповедник устремил суровый взгляд на пажа, который сидел на подушке у ног леди Эвенел; на алом поясе юноши висел красивый кинжал с позолоченной рукояткой.
– Да, друзья мои, – продолжал Генри Уорден, – Писание разумеет под словом «меч» и безоговорочно осуждает любой вид этого злосчастного оружия, от которого проистекает один лишь вред. Стилет, позаимствованный нами у вероломных итальянцев, клинок, употребляемый дикими горцами, кортик, служащий ворам и убийцам в наших пограничных землях, кинжал с рукояткой – все это средства, изобретенные самим дьяволом на потребу слепой ярости, пригодные для нападения врасплох, которое трудно бывает отразить. Даже самый отъявленный головорез с презрением отвергает это коварное, предательское оружие, недостойное мужчины и воина и подобающее лишь тому, кто, будучи воспитан женщинами, стал изнеженным двуполым существом и соединил в себе женскую злобу и трусость с низменными страстями и пороками, присущими мужской природе.
Трудно описать впечатление, произведенное этой речью на эвенелскую паству. У леди Эвенел был вид растерянный и вместе с тем оскорбленный; слуги, притворяясь, что сосредоточенно слушают проповедника, едва могли скрыть свою радость, когда он метал громы на голову нелюбимого всеми фаворита и проклинал его оружие, которое они всегда считали дурным признаком жеманства и франтовства. Миссис Лилиас, скрестив руки на груди и высоко подняв голову, явно торжествовала, чувствуя себя вознагражденной за все обиды. А управитель, сохраняя на своем лице равнодушное выражение, вперил взор в старинный герб на противоположной стене и, казалось, был занят тщательным изучением его. Возможно, он предпочитал заслужить упрек в невнимании к проповеди, нежели в том, что он с подчеркнутым одобрением слушал слова, которые были крайне неприятны его госпоже.
Незадачливый герой этой проповеди, наделенный от природы бурными страстями и, в сущности, не знавший прежде никаких ограничений для себя, не мог скрыть своего возмущения тем, что его открыто подвергли порицанию и сделали посмешищем в глазах обитателей маленького мирка, в котором он жил. Лицо его покрылось румянцем, губы побелели, он стиснул зубы и сжал кулаки; затем безотчетным движением схватился за свое оружие, которому священнослужитель дал столь уничтожающую оценку. По мере того как усиливался обличительный тон проповедника, паж чувствовал, что его охватывает непреодолимая ярость; опасаясь совершить сгоряча безрассудный поступок, он поднялся с места, быстро пересек часовню и вышел.
Проповедник от удивления остановился на полуслове, когда необузданный юноша молнией промелькнул перед ним, бросив на него убийственный, испепеляющий взгляд. Но как только Роланд вышел, с силой захлопнув за собой дверь, которая вела в сводчатую галерею, соединявшую часовню с замком, Уорден решил, что неприличие такого поступка дает для его ораторских упражнений весьма благодарную тему, развивая которую он сможет произвести большое впечатление на слушателей. Он с минуту помолчал, а затем размеренным и торжественным тоном произнес слова анафемы:
– Он покинул нас, ибо он среди нас чужой. Страждущий от болезни отверг целебное лекарство из-за его горечи; раненый уклонился от спасительного ножа хирурга; овца ушла из стада и стала добычей волка, ибо отреклась от скромности и смирения, коих требует от всех нас великий пастырь. О братья! Не предавайтесь гневу, не предавайтесь гордыне, не предавайтесь пагубному греху, столь часто предстающему нашему несовершенному зрению в сверкающих белизной одеждах. Что говорит в нас, когда нас соблазняют земные почести? Гордыня, только гордыня! Что говорит в нас, когда мы хвалимся нашими дарованиями и внешней привлекательностью? Гордыня и пустое тщеславие! Путешественники рассказывают, что индейцы, надевающие на себя ожерелья из раковин и красящие кожу в различные цвета, похваляются своим убранством точно так же, как мы – своей жалкой телесной красотой. Гордыня могла бы совлечь утреннюю звезду с небосвода и привести ее к порогу преисподней. Гордыня и самонадеянность человека виной тому, что огненный меч преграждает нам доступ в земной рай. Гордыня сделала Адама смертным существом, превратила его в утомленного скитальца на той же самой земле, бессмертным владыкой которой он был дотоле. Гордыня сделала нас греховными, и она же отягчает каждый из порожденных ею грехов. Она есть то передовое укрепление, которое дьявол и плоть наиболее ревностно обороняют от наступления святого духа. И пока эта крепость не будет сокрушена и сровнена с землей, на спасение глупца
Страница 28
удет больше надежды, чем на спасение грешника. Пусть каждый исторгнет из груди своей проклятый побег, выросший из семени злосчастного яблока[50 - Пусть каждый исторгнет из груди своей проклятый побег, выросший из семени злосчастного яблока… – Яблоко здесь – тот же плод с древа познания добра и зла.]; вырвите его с корнем, даже если он оплел древо жизни вашей. Задумайтесь над примером жалкого грешника, покинувшего нас, и взыскуйте благодати Божьей, пока не поздно, пока совесть вашу не охватило губительное пламя, пока вы не стали глухи, как пресмыкающиеся, и пока сердце ваше не отвердело, как кремень. Соберите же свои силы и встаньте на бой; боритесь и преодолевайте; сопротивляйтесь, и враг будет бежать от вас. Молитесь и не поддавайтесь соблазну; пусть падение других послужит для вас предупреждением и примером. А главное – не полагайтесь на самих себя; самоуверенность – вернейший признак тяжелой болезни. Быть может, фарисей полагал, что он смирен, когда стоял коленопреклоненный во храме и благодарил Господа за то, что непохож на других людей и отличен от мытаря. Но в то время как он касался коленями мраморных плит, его дух, вознесенный гордыней, парил над храмом. Поэтому не обманывайте самих себя и не предлагайте фальшивой монеты тому, для кого и чистое золото не имеет цены; божественная мудрость всегда сумеет отличить фальшивое от истинного. И пусть не страшит вас трудность вашей задачи, хотя она отнюдь не легка; мой святой долг не скрывать этого от вас. Многое может сделать самопознание, немалого сможете вы добиться, размышляя о Боге и о душе, но благодать Господня может совершить все.В заключение Генри Уорден обратился к своим слушателям с трогательным увещанием, побуждая их стараться привлечь на себя Божью благодать, с помощью которой для слабого человека нет ничего невозможного.
Прихожане внимали его словам не без душевного волнения, хотя, надо полагать, злорадное чувство, вызванное постыдным бегством фаворита-пажа, помешало многим из них в должной мере проникнуться призывами проповедника к милосердию и смирению.
Действительно, у слушателей были такие довольные, торжествующие лица, какие бывают у школьников, когда им доводится видеть, как наказывают их товарища за проступок, к которому они непричастны, и когда они, ликуя, что провинившемуся досталось на орехи, а им – нет, с удвоенным усердием принимаются зубрить свой урок.
Совсем противоположные чувства испытывала леди Эвенел, возвращаясь из часовни в свои покои. Она сердилась на Уордена за то, что он сделал предметом публичного разбирательства вопрос сугубо семейного свойства, живо затрагивавший ее самое. Но ей было известно, что этот почтенный старец считает своим неотъемлемым правом христианина и проповедника беспрепятственно говорить о чем угодно и что повсюду его собратья обычно требуют для себя такой же свободы. Еще больше огорчало леди Эвенел своевольное поведение ее любимца. То, что он не посчитался с ее присутствием и тем самым проявил явное неуважение к ней, было только одной стороной дела. Другая состояла в том, что он крайне непочтительно отнесся к проповеди священнослужителя, которую в те времена прихожане обычно выслушивали с благоговением. Все это, вместе взятое, свидетельствовало в пользу мнения его врагов, утверждавших, что он ни в чем не знает удержу. А ведь все то время, что он был у нее на виду, она склонна была оправдывать его вспыльчивость возрастом и живостью его натуры. Возможно, такой взгляд возник у нее в известной мере вследствие пристрастного отношения к мальчику, а отчасти, может быть, и потому, что она всегда была к нему добра и снисходительна; но все же считала невероятным, чтобы ее представление о Роланде было совершенно ошибочным. Крайняя несдержанность вряд ли совместима с постоянным лицемерием, считала леди Эвенел (хотя она не раз слышала от Лилиас намеки, что в некоторых случаях они отлично уживаются друг с другом), и потому она не могла полностью доверять сообщениям окружающих, противоречившим ее собственным наблюдениям.
Думая об этом сироте, она ощутила в своей душе прилив глубокой нежности к нему, причину которой не могла объяснить даже самой себе. Он как будто был послан ей самим Богом, чтобы заполнить ее жизнь в те промежутки, которые прежде она проводила в тоске и одиночестве, не зная никаких радостей. Возможно, он был дорог ей в значительной степени и потому, что, как она прекрасно видела, его никто не любил и, следовательно, отречься от него – значило позволить мнению ее мужа и всех, кто думал так же, как он, восторжествовать над ее собственным, а такое обстоятельство немаловажно в отношениях между супругами, даже если они очень любят друг друга.
Словом, леди Эвенел решила не отступаться от своего пажа до тех пор, пока будет возможно его защищать; и, желая выяснить, есть ли к этому достаточные основания, она велела немедленно призвать его к себе.
Глава V
Когда бушует буря,
Моряк срубает мачту, а купец
Швыряет в волны все свои товары,
Теперь уже утратившие цену.
Та
Страница 29
короли, когда восстал народ,Бросают на погибель фаворитов.
Старинная пьеса[51 - Старинная пьеса. – Эпиграфы с таким названием сочинены самим Вальтером Скоттом. Иногда Вальтер Скотт ссылается на вымышленный источник.]
Роланд Грейм явился не сразу. Исполнительница поручения леди Эвенел (это была давнишняя доброжелательница Роланда – Лилиас) сначала попыталась открыть дверь его комнатки с бескорыстной целью насладиться смущением преступника и посмотреть, как он будет себя вести. Но дверь была заперта изнутри длинным железным брусом, употреблявшимся в качестве засова; это обстоятельство воспрепятствовало благим намерениям Лилиас. Она постучала и, с небольшими перерывами, позвала несколько раз:
– Роланд, Роланд Грейм, мейстер Роланд (на слове «мейстер» было сделано особое ударение), соблаговолите отворить дверь. Что с вами? Уж не молитесь ли вы там в одиночестве, чтобы выполнить до конца обряд, который вы не закончили на людях? Наверно, мы должны огородить ширмой ваше место в часовне, чтобы вашей светлости не приходилось быть на виду у простых смертных. – В ответ по-прежнему не раздалось ни звука. – Ладно, мейстер Роланд, – сказала камеристка, – мне придется доложить миледи, что если она хочет получить ответ, то должна прийти сама или же послать к вам людей, которые смогут выломать дверь.
– Что вам велела передать миледи? – отозвался из-за запертой двери паж.
– Да отоприте же вы наконец, тогда и услышите, – ответила камеристка. – Я полагаю, что слова леди подобает передавать, глядя человеку в лицо, и я не стану ради вашего удовольствия пищать в замочную скважину.
– Ваше счастье, что вы можете прикрыться именем своей госпожи, – сказал паж, отворяя дверь, – а то вы не посмели бы так дерзить. Что вам велела передать миледи?
– Что вас просят немедленно явиться к ней; она ожидает вас в гостиной. По-видимому, она намерена дать вам на будущее некоторые указания относительно приличий, которые должно соблюдать, выходя из часовни.
– Скажите миледи, что я сейчас приду, – ответил паж и, захлопнув дверь, задвинул засов перед самым носом камеристки.
– Удивительная любезность! – пробормотала Лилиас.
Вернувшись, она сообщила своей госпоже, что Роланд Грейм явится к ней, когда ему это будет угодно.
– Что такое? Он сам произнес эту последнюю фразу или ее сочинили вы? – холодно спросила леди Эвенел.
– У него, миледи, – сказала прислужница, уклоняясь от прямого ответа, – был такой вид, что, если бы я только пожелала его слушать, он наговорил бы еще и не таких дерзостей. Но вот он сам сейчас вам ответит.
В комнату с высокомерным видом вошел Роланд Грейм. Румянец на его лице был ярче обычного; он держался несколько скованно, но явно не испытывал ни страха, ни раскаяния.
– Молодой человек, – сказала леди Эвенел, – пожалуйста, объясните: что я должна думать о вашем сегодняшнем поведении?
– Если оно оскорбило вас, миледи, я об этом глубоко сожалею, – ответил юноша.
– Будь им оскорблена только я, это было бы еще полбеды. Но ты виновен в поступках, чрезвычайно оскорбительных для твоего господина, – в вооруженном нападении на твоих сотоварищей слуг и в неуважении к Господу Богу в лице Его посланца.
– Позвольте мне еще раз ответить вам, миледи, – сказал паж, – что если я оскорбил вас, мою госпожу и благодетельницу, мою единственную заступницу, то этим я, безусловно, совершил преступление и должен понести заслуженное наказание. Но сэр Хэлберт Глендининг не считает меня своим слугой, а я не считаю его своим господином; он не вправе бранить меня за то, что я как следует проучил наглого слугу. Не боюсь я и Божьего гнева за то, что выразил презрение к непрошеным поучениям какого-то проповедника, сующего нос не в свои дела.
Леди Эвенел и прежде видела у своего любимца проявления мальчишеской обидчивости и нетерпимости ко всякого рода неодобрению или упреку. Но сейчас он держал себя серьезнее и решительнее, чем обычно, и на мгновение она растерялась, не зная, как ей обращаться с юношей, который вдруг стал мужчиной, и притом – мужчиной смелым и решительным. Она помолчала с минуту, а затем, собрав все присущее ей достоинство, сказала:
– Как ты разговариваешь со мной, Роланд! Ты, наверно, хочешь, чтобы я раскаялась в моем расположении к тебе, и потому заявляешь о своей независимости от обоих твоих повелителей – земного и небесного. Ты, видно, забыл, кем ты был когда-то и во что обратишься вскоре, если утратишь мое покровительство.
– Миледи, – сказал паж, – я ничего не забыл. Я слишком много помню. Я знаю, что если б не вы, я бы погиб в этих синих волнах (тут он показал на волнуемое западным ветром озеро, на которое открывался вид из окна комнаты). Ваша доброта простерлась и дальше, миледи: вы защитили меня от злобы окружающих и от моего собственного безрассудства. Вы вправе, если того пожелаете, покинуть воспитанного вами сироту. Вы сделали для него все от вас зависящее, и ему не на что жаловаться. И все же не думайте, миледи, что я не был вам благодарен: мне пришлось вытерпеть нечт
Страница 30
такое, чего я не снес бы ни ради кого другого, кроме моей благодетельницы.– А ради меня сносил! – воскликнула леди Эвенел. – Но что же такое тебе пришлось терпеть из-за меня, о чем ты мог бы вспоминать не с благодарностью и признательностью, а с каким-то иным чувством?
– Вы настолько справедливы, миледи, что не станете требовать от меня благодарности за то холодное пренебрежение, которое я неизменно встречал со стороны вашего супруга, пренебрежение, за которым стояло непреодолимое отвращение. Вы настолько справедливы, что не станете требовать от меня признательности за то презрение и недоброжелательство, которые я на каждом шагу встречал со стороны всех остальных в доме, равно как и за проповеди вроде той, которой сегодня ваш преподобный капеллан угостил за мой счет всю собравшуюся челядь.
– Слыхано ли что-либо подобное! – воскликнула камеристка, воздевая руки к небу и закатывая глаза. – Он говорит так, словно он – графский сын или свет очей благородного рыцаря.
Паж смерил ее взглядом, выражавшим глубочайшее презрение, и не удостоил ее никаким другим ответом. Леди Эвенел, чувствуя себя уже не на шутку. оскорбленной, но еще сожалея о безрассудстве юноши, сказала, не меняя тона:
– В самом деле, Роланд, ты забываешься настолько, что я должна буду принять серьезные меры, дабы убавить твою самоуверенность, а именно – вернуть тебя на подобающее твоему происхождению место в обществе.
– Это очень просто сделать, – добавила Лилиас, – достаточно выставить его за ворота таким же оборванцем, отродьем нищенки, каким он был, когда ваша милость взяли его сюда.
– Лилиас говорит чересчур резко, – продолжала леди Эвенел, – но она сказала правду, молодой человек; и я не думаю, чтобы мне следовало щадить твою гордость, совсем вскружившую тебе голову. Тебя наряжали в дорогие одежды и обращались с тобой как с сыном дворянина, пока ты не забыл, что ты выходец из простонародья.
– Прошу смиренно вашего прощения, высокочтимая леди, но в словах Лилиас нет ни капли правды, да и вы, ваша милость, не знаете ровно ничего о моем происхождении и не имеете никаких оснований столь презрительно говорить о нем. Я не отродье нищенки: моя бабушка ни у кого не просила милостыни – ни здесь, ни где-либо еще; она скорее умерла бы в чистом поле. Нас разорили и выгнали из нашего дома – а такие события не раз происходили и в других местах, с другими людьми. И замок Эвенелов, несмотря на окружающее его озеро и на его башни, не всегда был для своих обитателей надежной защитой от нужды и горя.
– Подумать только, какая наглость! – воскликнула Лилиас. – Он осмеливается напоминать миледи о несчастьях ее семьи![52 - Он осмеливается напоминать миледи о несчастьях ее семьи! – Имеются в виду события, описанные в «Монастыре», – изгнание матери леди Эвенел из родового замка, повлекшее за собой многолетнее пребывание ее вместе с дочерью в глендеаргской башне у госпожи Глендининг.]
– Этого предмета, конечно, лучше было не касаться, – холодно сказала леди Эвенел, тем не менее весьма задетая намеком Роланда.
– Это было необходимо, миледи, для моего оправдания, – сказал паж. – Иначе я не произнес бы ни слова, зная, что могу этим огорчить вас. Но поверьте мне, высокочтимая леди, я не выходец из простонародья. Родителей своих я не знаю; но моя единственная родственница сказала мне, – и сердце мое отозвалось на ее слова, подтвердив их правоту, – что в моих жилах течет благородная кровь и что со мной должно обращаться как с дворянином.
– И вот эта уверенность, имеющая столь шаткое основание, – сказала леди Эвенел, – позволяет тебе рассчитывать на почести и привилегии, полагающиеся по праву людям высокого звания и благородного происхождения, и ты намерен претендовать на особые права, закрепленные только за дворянами? Опомнись, голубчик, или же дворецкий проучит тебя плеткой, как дерзкого мальчишку. Ты еще не познакомился как следует с наказаниями, соответствующими твоему возрасту и положению.
– Дворецкий познакомится с моим кинжалом прежде, чем я с его взысканиями, – сказал паж с внезапной запальчивостью. – Леди, я слишком долго был вассалом дамской туфли и рабом серебряного свистка. Теперь вам придется найти кого-нибудь другого, кто будет откликаться на ваш зов; желаю, чтобы этот человек был достаточно низок родом и душой и спокойно сносил презрение вашей челяди, называя монастырского вассала своим господином.
– Я заслужила это оскорбление, – сказала леди Эвенел, покраснев до корней волос, – ибо чересчур долго терпела и поощряла твою дерзость. Уходи, Роланд Грейм. Покинь замок сегодня же вечером. Я буду давать тебе средства к существованию, пока ты не научишься каким-нибудь честным способом зарабатывать себе на жизнь, хотя боюсь, что из-за своей мании величия ты будешь считать недостойными тебя любые занятия, кроме грабежа и насилия. Уходи и не показывайся мне больше на глаза.
Паж упал к ее ногам, охваченный невыразимым горем.
– Моя дорогая, уважаемая госпожа… – вымолвил он, но был не в силах добавить к этому ни слова.
–
Страница 31
Встань, Роланд Грейм, – сказала леди, – не держись за край моего платья. Лицемерием нельзя прикрыть неблагодарность.– Я не способен ни на то ни на другое, миледи! – воскликнул паж, вскочив на ноги в мгновенном страстном порыве, столь естественном для его стремительной, пылкой натуры. – Не думайте, что я хотел просить у вас позволения остаться: я давно уже принял решение покинуть замок Эвенелов и никогда не прощу себе, что позволил вам произнести слово «уходи» раньше, чем сказал сам – «Я ухожу от вас». Я стал перед вами на колени, чтобы попросить у вас прощения за необдуманные слова: они вырвались у меня в минуту сильного раздражения, но в разговоре с вами мои уста не смели произносить их. Никакой другой милости я не прошу у вас – вы и так много сделали для меня, – но я повторяю: вам лучше известно то, что делали для меня вы сами, чем то, что мне приходилось терпеть от других.
– Роланд, – сказала леди Эвенел, несколько успокоившись и уже мягче относясь к своему любимцу, – ты должен был обращаться ко мне, когда тебя кто-нибудь обижал. Ты не обязан был терпеть несправедливость, но тебе вовсе не следовало самому восставать против нее, пока ты находился под моим покровительством.
– А что мне оставалось делать, – сказал юноша, – если эта несправедливость исходила от людей, которых вы любили и осыпали милостями? Должен ли был я нарушать ваш покой докучными нашептываниями и вечными жалобами? Нет, миледи, я молча нес свое бремя, не ропща, ибо не хотел тревожить вас; уважение к вам, в отсутствии которого вы меня упрекаете, было единственной причиной, по которой я не просил вашей защиты и не мстил сам куда более решительным образом. И все же – хорошо, что мы расстаемся. Я не рожден для того, чтобы играть роль нахлебника, пользующегося милостями своей госпожи до тех пор, пока клевета окружающих не погубит его. Да ниспошлет вам Господь Свое благословение, высокочтимая леди, и, во имя вас, всем тем, кто вам дорог.
Сказав это, он направился к выходу, но леди Эвенел окликнула его. Он остановился и внимательно выслушал те слова, с которыми она напоследок обратилась к нему:
– В мои намерения не входило, и было бы несправедливо, несмотря на мое крайнее недовольство вами, оставить вас без всякой поддержки: возьмите этот кошелек; в нем золото.
– Простите меня, миледи, и позвольте мне уйти с сознанием, что я не опустился так низко, чтобы принимать подаяние. Если моя смиренная служба может возместить вам хотя бы часть расходов на мое содержание и одежду, то и в этом случае я на всю жизнь останусь вашим должником; уж это одно – такой долг, который я никогда не смогу оплатить сполна. Возьмите же обратно кошелек и скажите только, что расстаетесь со мной без гнева.
– Да, без гнева, – повторила леди Эвенел, – скорее с печалью, и лишь из-за вашего своеволия; но все же возьмите золото, оно вам пригодится.
– Благослови вас Бог за вашу доброту, миледи! Но золота я взять не могу. Я здоров и силен, и нельзя сказать, что у меня совсем нет друзей, как вы, наверно, полагаете. Может настать время, когда мне удастся доказать свою благодарность не только словами.
Он упал на колени, поцеловал руку леди Эвенел, которую та не отдернула, и быстро вышел из комнаты.
Лилиас несколько минут внимательно следила за своей госпожой, которая была так бледна, что, казалось, вот-вот упадет в обморок; но леди Эвенел вскоре пришла в себя и, отклонив помощь, предложенную ей камеристкой, проследовала в свои покои.
Глава VI
Тебе известны все секреты дома.
Бьюсь об заклад, ты был в буфетной, Фрэнсис.
Там лился эль, там болтовня лилась,
Твое напитывая любопытство.
Сластей и сплетен ты отведал вдоволь,
Судача с говорливой камеристкой.
Вот где нашел ты ключ к домашним тайнам.
Старинная пьеса
На следующее утро после описанной нами сцены разжалованный фаворит оставил замок. Во время завтрака осторожный старый дворецкий и миссис Лилиас сидели вдвоем в комнате камеристки и вели серьезный разговор о важном событии этого дня. Их беседа была подслащена приготовленными миссис Лилиас лакомствами, к которым предусмотрительный мейстер Уингейт присоединил фляжку ароматной мадеры.
– Наконец-то он убрался отсюда, – сказала камеристка, потягивая вино. – Скатертью дорога!
– Аминь, – степенно ответил дворецкий, – я не желаю ничего дурного бедному покинутому юноше.
– Убрался прочь, словно дикая утка, так же, как и появился, – продолжала миссис Лилиас. – Опускать мосты, идти по дамбе – все это для него лишнее. Он сел в лодку, которая называется «Ирод» (стыдно, по-моему, давать христианское имя дереву и железу), и поплыл один-одинешенек на дальний берег озера, и не было рядом с ним ни одной живой души, а все свое добро он оставил в комнате разбросанным как попало. Интересно знать, кто должен убирать за ним все это тряпье, хотя вещи-то, говоря по правде, стоящие.
– В этом не может быть сомнения, миссис Лилиас, – ответил управитель, – а потому, смею полагать, они недолго будут валяться на полу.
– Скажит
Страница 32
, мейстер Уингейт, – продолжала камеристка, – не радуетесь ли вы от всей своей души, что наш дом избавился от этого желторотого выскочки, который всех нас оттеснил в тень?– Как вам сказать, миссис Лилиас, – ответил Уингейт, – радуюсь ли я… Человек, который, подобно мне, долго жил в знатных семьях, не станет спешить радоваться чему бы то ни было. А что касается Роланда Грейма, то хотя избавиться от него совсем неплохо, все же, как метко говорит пословица, не сменить бы нам горшки на глину.
– Оно, конечно, верно, – согласилась миссис Лилиас. – Но, скажу я вам, хуже, чем он, и быть не может: кого ни возьми, всякий будет лучше. Он мог совсем извести нашу бедную дорогую госпожу (тут она приложила к глазам платок) – сгубил бы и плоть ее, и душу, и имение; ведь она тратила на его наряды вчетверо больше, чем на содержание любого из слуг.
– Миссис Лилиас, – сказал благоразумный управитель, – я полагаю, что наша госпожа не нуждается в вашей жалости, ибо вполне может сама заботиться о своей плоти и о своей душе, равно как и о принадлежащем ей имении.
– Вы, может, и не рассуждали бы так, – ответила камеристка, – если бы видели, как она провожала взглядом молодого человека, когда он уезжал: стояла ну точь-в-точь как жена Лота[53 - Жена Лота. – По библейскому преданию, Бог вывел из обреченного им на гибель города Содома праведника Лота с семьей. Несмотря на запрет Бога, жена Лота на пути оглянулась. В наказание за это она была превращена в соляной столб.]. Моя госпожа – добрая леди, и высоконравственная, и в поведении безупречная, никто о ней и слова плохого сказать не посмеет, а все же, умереть мне на этом месте, не хотела бы я, чтобы сэр Хэлберт видел ее вчера вечером.
– Фи, фи, фи, – произнес управитель, – слуги должны всё слышать и видеть, но ничего не должны говорить вслух. Кроме того, миледи весьма предана сэру Хэлберту, что и естественно: он самый прославленный рыцарь в наших краях.
– Ну ладно, ладно, – сказала камеристка, – я не имею в виду ничего дурного. Но те, кто поменьше ищут для себя славы на чужбине, скорее находят покой в своем доме – вот и все. И надо принять во внимание, что именно одиночество толкнуло миледи на то, чтобы приблизить к себе первого попавшегося нищего мальчишку, которого собака вытащила из озера и принесла ей в зубах.
– Вот поэтому-то, – сказал управитель, – я и говорю: не торопитесь радоваться, не радуйтесь чересчур, миссис Лилиас, ибо если миледи нужен был любимчик для препровождения времени, то уж можете не сомневаться – теперь, когда его не стало, время будет тянуться для нее более томительно. Стало быть, ей придется найти себе другого любимчика. А если уж она захочет иметь такую игрушку, игрушка тут же и явится.
– А где она сможет найти ее себе, как не среди своих испытанных и преданных слуг, – сказала миссис Лилиас, – среди тех, кого она кормит и поит столько лет. Я знаю немало таких же знатных дам, которые и не помышляют о каком-нибудь ином друге или фаворите, если при них состоит камеристка, и притом они всегда с должным уважением относятся к старому преданному дворецкому, мейстер Уингейт.
– По правде говоря, миссис Лилиас, – ответил управитель, – вижу я, куда вы метите, да только сомневаюсь, что ваша стрела попадет в цель. Если миледи настроена так, как вы предполагаете, то ни вам с вашими гофрированными чепцами (хотя они и заслуживают весьма уважительного к себе отношения), ни мне с моей сединой и золотой цепью не заполнить пустоты, которую, несомненно, образовал в жизни миледи уход Роланда Грейма. Это сделает либо молодой ученый-богослов, проповедующий какую-нибудь новую доктрину, либо ученый-лекарь, пользующий больных каким-нибудь новым снадобьем, либо отважный воин, которому будет милостиво даровано право носить цвета миледи на рыцарских турнирах, или, наконец, искусный арфист, умеющий приворожить сердце женщины, как это сделал, по слухам, синьор Давид Риччо[54 - Давид Риччо (1533?–1566) – итальянец-музыкант, приближенный Марии Стюарт и ее секретарь. Был зверски убит 9 марта 1566 г. на глазах у Марии, в ее покоях, протестантскими заговорщиками-вельможами, опасавшимися его влияния в государственных делах. Обвинение Марии в любовной связи с Риччо не было доказано.] с нашей бедной королевой. Вот какие люди могут возместить утрату обожаемого фаворита, а не старый дворецкий или пожилая камеристка.
– Ладно, – ответила Лилиас, – вы человек опытный, мейстер Уингейт, а уж по правде сказать, хотелось бы мне, чтобы милорд перестал ездить туда и сюда и получше присматривал за тем, что творится у него дома. Погодите, среди нас еще тут окажутся паписты: ведь я нашла в вещах нашего любимчика – что бы вы думали? Ни больше ни меньше, как золотые четки. Поверите ли, самые настоящие Ave и Credo[7 - Ave (Ave Maria) – «Богородице, Дево, радуйся»; Credo – «Верую» – названия католической молитвы и символа веры. Ими обозначались малые и большие бусины на четках.]. Я бросилась на них, как ястреб.
– Не сомневаюсь, не сомневаюсь, – сказал дворецкий, с понимающим видом
Страница 33
ивнув головой. – Я часто замечал, что мальчишка выполняет какие-то странные обряды, сильно отдающие папизмом, и притом всячески старается скрыть их. Но католика под плащом пресвитерианина[55 - …католика под плащом пресвитерианина… – Пресвитерианами в Англии и Шотландии назывались кальвинисты, стоявшие за выборность духовенства и передачу управления церковными делами коллегиям старейшин – пресвитериям (греч. presbyter – «старейший»).] можно обнаружить столь же часто, как плута под монашеским капюшоном. Ну что же, все мы смертны… А четки-то недурны, – добавил он, внимательно разглядывая их. – В них будет, пожалуй, унции четыре чистого золота.– Я сразу же отдам их переплавить, – сказала камеристка, – пока они не ввели во искушение какую-нибудь бедную заблудшую душу.
– Так, так! Это будет очень предусмотрительно, миссис Лилиас, – заметил управитель, одобрительно кивнув головой.
– Я велю сделать из них, – сказала миссис Лилиас, – две пряжки для туфель. Ни за что на свете не стала бы я носить хоть на дюйм выше ступни папистские побрякушки или что-нибудь, сделанное из них, будь это даже бриллианты, а не золото. Вот вам плоды того, что отец Амвросий бродит тут тихонечко по замку, как кот, подбирающийся к кринке со сметаной.
– Отец Амвросий – брат нашего господина, – веско заметил управитель.
– Совершенно справедливо, мейстер Уингейт, – ответила его собеседница. – Но это еще не основание для того, чтобы развращать папизмом честных подданных короля.
– Боже упаси, – ответил благонамеренный мажордом, – но все же есть люди и похуже папистов.
– Не представляю, где можно их сыскать, – довольно сухо сказала камеристка. – Сдается мне, мейстер Уингейт, если бы с вами кто-нибудь заговорил о дьяволе, вы и тогда заявили бы, что бывают на свете люди похуже самого сатаны.
– Конечно, я мог бы так сказать, – возразил управитель, – если бы видел сатану так же близко, как вижу вас.
Камеристка вскочила с места, восклицая: «Господи помилуй!» – и добавила:
– Я удивляюсь, мейстер Уингейт, что вам доставляет удовольствие так пугать людей!
– Нет, нет, миссис Лилиас, я вовсе не хотел этого, – ответил тот, – но подумайте: пока что паписты в проигрыше, однако кто знает, сколько продлится это «пока»? На севере Англии живут два могущественных графа; оба они паписты и ненавидят самое слово «Реформация». Я имею в виду графов Нортумберленда[56 - Граф Нортумберленд – Томас Перси Нортумберленд, который в 1572 г. был казнен как католический заговорщик.] и Уэстморленда[57 - Граф Уэстморленд – титул, принадлежавший Чарлзу Невиллу, одному из главарей католического мятежа 1569 г. Умер в изгнании в 1601 г.], обладающих достаточной силой, чтобы поколебать любой трон в христианском мире. Далее: хотя наш шотландский король – благослови его Господь! – истинный протестант, все же он еще ребенок[58 - …хотя наш шотландский король… истинный протестант, все же он еще ребенок… – Имеется в виду сын Марии Стюарт, король Иаков VI (1566–1625).]; притом пока что жива его мать, которая была нашей королевой (я надеюсь, что не совершу ничего дурного, призвав и на нее благословение Господне); а ведь она католичка. И уже многие начинают думать, что с ней обошлись слишком сурово; так думают Гамильтоны[59 - Гамильтоны – старинный и некогда могущественный шотландский род; в середине XVI в. играли видную роль в католической партии.] на западе, кое-кто из дворян, живущих в наших пограничных областях, Гордоны[60 - Гордоны – старинный знатный шотландский род; боролись против Реформации.] на севере. Все они хотят решительных перемен. А если такие перемены действительно произойдут, королева снова получит свою корону, опять пойдут в ход обедни и кресты, и тогда конец кафедрам проповедников, женевским мантиям[61 - …конец… женевским мантиям… – Шотландские священники-реформаты, следуя во всем женевской церкви Кальвина, отказались от католической сутаны, носили, как и женевское духовенство, мантии и ермолки и отращивали длинные бороды.] и черным шелковым ермолкам.
– Да как же у вас, мейстер Джаспер Уингейт, у вас, который слышал истинное Божье слово, внимая речам честнейшего и безупречнейшего человека, мистера Генри Уордена, как у вас, повторяю я, хватает хладнокровия даже таить про себя, а не то что высказывать вслух мысль, что папизм снова может обрушиться на нас или что женщина по имени Мария снова может сделать шотландский престол средоточием этой мерзости? Неудивительно, что вы так учтивы с долгополым монахом отцом Амвросием, когда он является в замок, бродит тут с опущенными глазами, никогда не поднимая их на миледи, и говорит тихим, медоточивым голосом, расточая свои благословения. И кто же охотнее всех принимает их, как не вы, мейстер Уингейт?
– Миссис Лилиас, – возразил дворецкий с таким видом, который ясно показывал, что он намерен прекратить спор, – на это есть свои причины. Если я любезно принимал отца Амвросия и смотрел сквозь пальцы, когда он, бывало, перекинется словечком с этим самым Роландом Греймом, то это не значит, что мне было д
Страница 34
ло до его благословений или проклятий, а значит только, что я уважаю родню моего господина. А кто может поручиться, что, в случае нового появления на престоле Марии, отец Амвросий не окажется такой же надежной опорой для нас, какой всегда был его брат? Ведь когда королева вернет себе власть, тогда худо придется графу Мерри, и дай бог, чтобы у него еще голова удержалась на плечах. Худо придется и нашему рыцарю вместе с его покровителем графом. Кто же тогда скорее всего вскочит в опустевшее седло? Конечно же, он – отец Амвросий. Римский Папа в скором времени может разрешить его от монашеского обета, и тогда вместо священнослужителя отца Амвросия перед нами предстанет воин сэр Эдуард.Миссис Лилиас от гнева и изумления не могла произнести ни слова, пока ее старый приятель самодовольным тоном развертывал перед ней свои политические соображения. Наконец ее возмущение нашло себе выход в негодующей и презрительной речи:
– Как, мейстер Уингейт! Вы столько лет ели хлеб миледи (не будем сейчас говорить о милорде) – и теперь спокойно допускаете, что какой-то жалкий монах, в котором нет ни капли ее родной крови, когда-нибудь захватит законно принадлежащий ей замок Эвенелов? Да хотя я только женщина, а первая схвачусь с ним, и еще посмотрим, чья возьмет – юбка или сутана. Стыдитесь, мейстер Уингейт! Если бы мы с вами не были так давно знакомы, все это уже дошло бы до ушей миледи, – пусть бы меня даже обвинили в том, что я сплетничаю и выслуживаюсь, как в тот раз, когда я рассказала, что Роланд Грейм подстрелил дикого лебедя.
Мейстер Уингейт несколько испугался, увидев, что, подробно излагая свои проницательные политические суждения, он вызвал в собеседнице не столько восхищение своей мудростью, сколько сомнение в настоящей преданности. Он постарался как можно быстрее исправить свою оплошность и объяснить, что не имел в виду ничего предосудительного, хотя сам при этом был внутренне чрезвычайно оскорблен тем нелепым, с его точки зрения, выводом, какой угодно было сделать миссис Лилиас Брэдборн из его слов; в глубине души он был убежден, что она не одобрила его соображений исключительно по той причине, что, в случае перехода замка во владение к отцу Амвросию, последний, конечно, будет нуждаться в услугах дворецкого, тогда как услуги камеристки окажутся в этом случае совершенно излишними.
Объяснение дворецкого было принято так, как обычно принимаются объяснения такого рода, после чего друзья расстались: Лилиас отправилась в комнату госпожи, куда ее призывал серебряный свисток, а мудрый мажордом вернулся к исполнению своих ответственных обязанностей. Прощаясь, они сдержанней обычного выразили друг другу свое почтение и уважение: дворецкий почувствовал, что его житейская мудрость посрамлена более бескорыстной привязанностью камеристки, а миссис Брэдборн обнаружила, что ее старый приятель – из тех людей, которые всегда держат нос по ветру.
Глава VII
Когда шестипенсовик я покажу,
В любой деревне мне верят в долг;
А нет ни гроша – наградят пинком:
Никто не знается с бедняком.
Старинная песня
Пока продолжалась описанная нами в предыдущей главе беседа об отъезде пажа, разжалованный фаворит шагал в полном одиночестве куда глаза глядят и уже успел удалиться на довольно большое расстояние от замка Эвенелов, но все еще не представлял себе с достаточной ясностью, куда он идет и где закончится его путь. Лодку, в которой он покинул замок, он направил к наиболее удаленному от деревни месту на берегу озера, ибо не хотел быть замеченным поселянами. Гордость подсказывала ему, что он, как отвергнутый фаворит, вызовет у них любопытство и сострадание, а врожденное душевное благородство заставляло юношу думать, что всякий, кто выразит сочувствие его положению, может навлечь на себя неприятности, если об этом узнают в замке. Одна случайная встреча заставила его убедиться в том, что ему нечего тревожиться о своих друзьях по этому поводу. Роланду попался на пути молодой человек, несколькими годами старше его самого, которому в прежние времена не раз представлялась счастливая возможность участвовать в его забавах в качестве сопровождающего, обязанного во всем ему подчиняться. Ралф Фишер поспешил ему навстречу и дружески, хотя и не без почтительности, приветствовал его.
– Что это вы, мейстер Роланд, переправились на этот берег без сокола и без гончей?
– Да, без сокола и без гончей… – отозвался Роланд. – Верно, никогда уж мне больше не бывать на охоте. Я отставлен от должности. Словом, я ушел из замка.
Ралф очень удивился словам Роланда.
– Что же, вы переходите на службу к рыцарю, будете носить кольчугу и копье?
– Да нет, – ответил Роланд Грейм, – ничего подобного. Я совсем оставил службу в доме Эвенелов.
– А куда же вы направляетесь в таком случае? – спросил молодой крестьянин.
– Гм! Это вопрос, на который сразу не ответишь. Я еще и сам не решил куда, – отозвался разжалованный фаворит.
– Вот оно что! – сказал Ралф. – Ну, тогда я ручаюсь, что вам все равно, какой дорогой идти: уж н
Страница 35
верно, миледи, отпуская вас, не забыла набить потуже ваш кошелек.– Жалкий раб! – вскричал Роланд Грейм. – Ты что же, думаешь, что я мог принять помощь от той, которая предала меня поношению и обрекла на нужду из-за подстрекательств ханжи священника и проныры служанки? Первый же кусок хлеба, купленный на такое подаяние, застрял бы у меня в глотке.
Ралф окинул своего бывшего друга взглядом, который выражал удивление, смешанное с презрением.
– Ладно, – сказал он наконец, – не из-за чего так выходить из себя. Каждый сам знает, что ему по душе, что нет. Вот если бы, к примеру, я оказался, как вы сейчас, чуть свет в чистом поле и не знал, куда податься, то был бы, пожалуй, не прочь иметь в кармане несколько золотых, откуда бы они ни взялись. А может быть, вы пойдете со мной в дом моего отца, отдохнете у нас одну ночку – завтра-то мы ждем моего дядю Менелая со всей его семьей, – но если на одну ночку…
То обстоятельство, что, предлагая ему кров над головой, Ралф сделал это с явной неохотой и к тому же заранее ограничил свое гостеприимство одной ночью, оскорбило гордость отвергнутого фаворита.
– Уж лучше я просплю одну ночь на вереске под открытым небом, как делал не раз и раньше по менее серьезным причинам, чем в закопченной лачуге твоего отца, насквозь пропахшей дымом и асквибо[62 - Асквибо – шотландская водка.], как плед горца, – сказал Роланд Грейм.
– Поступайте как знаете, молодой сэр, раз уж вы такой неженка, – ответил Ралф Фишер. – Вам еще может очень понравиться запах торфа в очаге и запах асквибо, когда вы хорошенько попутешествуете таким способом, какой вы избрали. Вы могли бы и поблагодарить за сделанное вам предложение, тем более что не всякий согласится пойти на неприятности, пригревая выгнанного слугу.
– Ралф, – сказал Роланд Грейм, – ты, наверно, забыл, как я тебя лупил когда-то, а ведь сейчас у меня в руках та же плетка, которой ты уже отведал.
Ралф, здоровенный, коренастый парень, обладавший физической силой, которая была бы под стать взрослому мужчине, и потому уверенный в своем безусловном превосходстве над стоявшим перед ним тщедушным подростком, только презрительно рассмеялся в ответ на его угрозы.
– Может быть, и та же плетка, – сказал он, – да не та теперь погодка; вот вам и стишок, совсем как в настоящей балладе. Послушай-ка, бывший паж миледи, когда прежде ты замахивался хлыстом, я не отвечал тебе тем же только из страха перед твоими господами, а никак не перед тобой самим. А сейчас уже и не знаю, что удерживает меня от того, чтобы расквитаться с тобой за старое вот этой дубиной, показать тебе, что я берег ливрею твоей госпожи, а не твою шкуру и кости, мейстер Роланд.
Видя, как рассвирепел его собеседник, Роланд понял, что продолжать препирательство значит быть избитым этим грубияном, который был намного сильнее и старше его; и в то время как его противник своим презрительным вызывающим смехом, казалось, приглашал его помериться силой, он вдруг почувствовал всю глубину своего унижения и горько заплакал, закрыв лицо руками и безуспешно стараясь скрыть брызнувшие из глаз слезы.
Даже такого неотесанного деревенщину, как Ралф, не могло не пронять горе его бывшего товарища.
– Ну полно, мейстер Роланд, – промолвил он, – будем считать, что я сказал все это в шутку. Не стал бы я тебя обижать, дружище, хотя бы в память старого знакомства. Но наперед всегда смотри, с кем имеешь дело, прежде чем грозить человеку плеткой. Ведь твоя рука, дружище, вроде как веретенышко против моей. Чу! я слышу голос Адама Вудкока; он зовет своего сокола. Пойдем, парень, мы хорошо проведем денек, а потом отправимся прямехонько в дом моего отца – что с того, что там пахнет дымом и асквибо. Может быть, удастся найти для тебя какой-нибудь способ честно зарабатывать себе на хлеб, хотя это и нелегко сделать в наши нескладные времена.
Несчастный паж ничего не ответил, по-прежнему пряча лицо в ладонях. Тогда Фишер заговорил снова в таком тоне, который казался ему наиболее подходящим для утешения:
– Видишь ли, парень, когда ты был любимчиком миледи, люди считали тебя гордецом, а некоторые думали даже, что ты папист и еще бог знает кто; теперь, когда за тебя больше некому постоять, ты должен быть общителен и дружелюбен со всеми; должен исправно посещать проповеди пастора, чтобы люди забыли все плохое, что говорилось о тебе; если пастор скажет, что ты в чем-нибудь виноват, опускай ниже голову; если же какой-либо дворянин или даже его фаворит бросит тебе в лицо бранное слово либо мимоходом ударит тебя, отвечай – «спасибо за то, что выбили пыль из моего костюма» или что-нибудь в этом роде, как я сам раньше отвечал тебе. Слышишь, Адам Вудкок свистит снова. Пойдем, я по пути научу тебя всей этой премудрости.
– Благодарю, – сказал Роланд Грейм, стараясь показать всем своим видом безразличие к словам собеседника и свое превосходство над ним, – но передо мной лежит другая тропа, а твоей я не мог бы избрать никогда.
– Истинная правда, мейстер Роланд, – ответил парень, – каждый человек сам лу
Страница 36
ше разбирается в своих делах, так что не буду сбивать тебя с твоей, как ты говоришь, тропки. Давай руку, дружище, чтобы нам добром поминать прошлое. Что? Не хочешь даже пожать руку на прощанье? Ну ладно, дело твое. Счастливый тебе путь, и да благословит тебя Господь.– Прощай, прощай, – нетерпеливо произнес Роланд, и парень, насвистывая, неторопливо пошел прочь, явно довольный тем, что избавился от товарища, чьи претензии могли бы принести немало хлопот и от которого теперь не было никакой пользы.
Пока оба они еще могли видеть друг друга, Роланд Грейм заставлял себя идти вперед, чтобы прежний его приятель не увидал его стоящим на одном месте и не сделал вывода об отсутствии у него твердых намерений и определенной цели; однако усилие это потребовало от Роланда очень большого напряжения. Он был словно оглушен, голова у него кружилась, земля казалась неустойчивой и уходила из-под ног, как трясина. Один или два раза он чуть не упал, хотя тропа, по которой он шел, пролегала по твердой земле, среди зеленеющего луга. Несмотря на внутреннее возбуждение, вызывавшее эти ощущения, он упорно продвигался вперед до тех пор, пока фигура его товарища не скрылась вдали, за склоном горы; но затем мужество сразу же оставило его; он сел на траву и, так как поблизости не было ни души, его оскорбленная гордость, обида и страх прорвались наружу, найдя себе естественное выражение в безудержных и горьких рыданиях. Когда этот первый приступ отчаяния прошел, всеми покинутый, одинокий юноша почувствовал душевное облегчение, обычно наступающее после того, как человек даст выход своему горю. Слезы еще продолжали катиться по его щекам, но теперь уже им не владело такое острое чувство заброшенности: оно сменилось щемящей, но более спокойной грустью, навеянной воспоминаниями о его благодетельнице, о ее неизменной доброте, благодаря которой она была всегда расположена к нему, несмотря на вызывающую дерзость многих его поступков (теперь ему самому казавшихся весьма оскорбительными), оберегала его как от интриг окружающих, так и от последствий его собственного безрассудства и продолжала бы делать это, если бы его чрезмерная самоуверенность не заставила ее отказать ему в своем покровительстве.
«Все унижения, которые я вытерпел, – сказал он себе, – лишь заслуженное возмездие за мою собственную неблагодарность. Разве хорошо это было с моей стороны – жить под кровом моей благодетельницы, пользоваться ее заботами, какими не всякая мать окружает свое родное дитя, и вместе с тем скрывать от нее мое вероисповедание? Но она должна узнать, что католик умеет быть таким же благодарным, как и пуританин, что я не был безнравственным, хотя и вел себя весьма легкомысленно, что даже тогда, когда я особенно озорничал, я любил, уважал и чтил ее и что пригретый ею мальчик-сирота мог совершать необдуманные поступки, но никогда не забывал, чем он ей обязан».
Под влиянием нахлынувших на него мыслей он повернулся и быстро зашагал обратно, по направлению к замку. Но этот бурный порыв раскаяния сразу утих, как только Роланд подумал, с каким холодным презрением должны обитатели замка посмотреть на возвратившегося беглеца, который, как они обязательно будут считать, унизился до роли просителя, явившегося вымаливать прощение за свою вину и ходатайствовать о позволении вернуться на службу. Он замедлил шаг, но не остановился.
«Мне все равно, – подумал он, преисполняясь решимости, – пусть они перемигиваются, кивают, указывают на меня пальцами, рассуждают о пристыженной самонадеянности и сломленной гордости – пусть! Это будет заслуженным наказанием за мое безрассудство, и я вытерплю все. Но если она, моя благодетельница, сочтет меня достаточно низким и малодушным для того, чтобы просить у нее не только прощения, но и возврата мне тех преимуществ, которыми я пользовался благодаря ее расположению, – если она заподозрит меня в подлости, этого я не смогу перенести».
Он остановился; гордость и присущее ему от природы упрямство, борясь в нем с другим, более высоким чувством, подсказывали ему, что лучше навлечь на себя презрение леди Эвенел, нежели вновь обрести ее благосклонность, пойдя по тому пути, на который толкнула его внезапно возникшая в нем жажда раскаяния.
«Если бы еще был какой-нибудь удобный предлог, – подумал он, – какая-либо веская причина для моего возвращения или извиняющее меня обстоятельство; что-нибудь, показывающее, что я пришел не как униженный проситель или выброшенный за дверь слуга, – тогда я мог бы пойти туда; но так я не могу, – сердце мое выскочит из груди и разорвется».
В то время как эти мысли проносились в сознании Роланда, что-то промелькнуло в воздухе перед самыми его глазами, на мгновение ослепив его и едва не задев пера на его шляпе. Он поднял глаза: любимый сокол сэра Хэлберта кружился над его головой и, казалось, старался привлечь его внимание, как будто узнал в нем своего старого друга. Протянув руку, Роланд издал привычный возглас; сокол тотчас сел ему на запястье и стал охорашиваться, время от времени поворачивая к юнош
Страница 37
свой блестящий желтый глаз и бросая на него острый взгляд, как бы вопрошавший, почему он не ласкает его с обычной нежностью.– Ах, Алмаз, – сказал Роланд птице, будто она могла понять его, – мы с тобой должны теперь расстаться навсегда. Много раз видел я, как ты бросался камнем вниз и поражал беспечную цаплю; но теперь все это в прошлом – кончилась для меня соколиная охота.
– А почему, мейстер Роланд? – спросил сокольничий Адам Вудкок, появляясь из-за скрывавшего его кустарника. – Почему это для тебя кончилась соколиная охота? Ну что за жизнь была бы у нас без этой забавы! Знаешь старую веселую песню:
Уж лучше в темнице бы Аллену гнить,
Чем на свободе без сокола жить.
Ах, жить, не охотясь, – такая тоска!
Уж лучше тогда гробовая доска.
Речь сокольничего была добродушной и дружелюбной; когда он читал нараспев свою незамысловатую балладу, то, слушая его, нельзя было усомниться в его неподдельной искренности и сердечности. Но воспоминание о происшедшей меж ними ссоре и ее последствиях сковывало Роланда, и он не знал, что ответить.
Сокольничий заметил его неуверенность и сразу угадал, в чем ее причина.
– Что это ты, мейстер Роланд? – сказал он. – Неужто ты, наполовину англичанин[63 - Неужто ты, наполовину англичанин… – Вудкок называет так Роланда потому, что тот прибыл со своей бабушкой в замок Эвенелов из северной части английского графства Камберленд, которая была спорной землей.], думаешь, что я, с головы до пят англичанин, могу иметь зуб на тебя, да еще когда ты в горе? Этак я был бы похож на иных шотландцев (я, как всегда, исключаю из их числа моего уважаемого господина), которые умеют быть учтивыми и лицемерно-приветливыми, но ждут, когда придет их время, а пока что, как они говорят, завязывают узелок на память: делят с вами пищу и питье, охотятся и пускают вместе с вами соколов, а в подходящий момент мстят за какую-нибудь старую обиду ударом кинжала в спину. Мы, мирные йоркширцы, не помним зла. А тебе, парень, я скорее прощу здоровый тумак, чем кому другому – грубое слово. Это потому, что ты понимаешь толк в соколиной охоте, хоть и считаешь, что птенцов надо кормить промытым мясом. Так что давай руку и не злись больше.
Хотя Роланд и чувствовал, что его благородная кровь восстает против слишком вольной манеры честного Адама, все же подкупающая искренность сокольничего покорила его. Закрыв лицо одной рукой, он протянул другую Адаму и охотно ответил на его дружеское рукопожатие.
– Ну вот, так-то оно получается сердечнее, – промолвил Вудкок. – Я всегда говорил, что у тебя доброе сердце, хотя в тебе и сидит дьяволенок – это уж наверняка. Я нарочно отправился с соколом сюда, чтобы найти тебя, а этот неотесанный мужлан, Ралф, сказал мне, по какой дороге ты пошел. Ты всегда был слишком добр к этому пустобреху, мейстер Роланд, а он, по сути, ничего не смыслит в охоте – разве что от тебя кой-чему научился. Я видел, что тут было между вами, и прогнал его прочь от себя, крикнув ему вдогонку, что не могу терпеть рядом с собой вероломного слугу, – лучше уж держать коршуна среди соколов. А теперь, мейстер Роланд, скажи, куда ты держишь путь?
– Куда Бог поведет, – ответил паж со вздохом, который он не смог подавить.
– Ну, ну, парень, не роняй перьев из-за того, что тебя бросили на произвол судьбы, – сказал сокольничий. – Как знать, может быть, от этого твои крылья только окрепнут и ты взлетишь еще выше. Вот, к примеру, наш Алмаз: благородная птица – и как нарядно выглядит со своим колпачком, бубенчиками и тесемками; а ведь в Норвегии есть немало диких соколов, которые не захотели бы поменяться с ним своим положением. То же самое сказал бы я и о тебе. Ты больше не паж миледи, и так красиво, как раньше, теперь тебе не одеваться, так сладко не есть, так мягко не спать, так нарядно не выглядеть. Ну и что же из того? Пускай ты больше не состоишь пажом при даме, зато ты принадлежишь самому себе и можешь идти куда тебе угодно, не ожидая всякую минуту, что тебя окрикнут или позовут свистком. Самое худое здесь то, что ты не можешь больше охотиться; но кто знает, чего ты еще можешь достичь в жизни? Говорят, что сам сэр Хэлберт – я говорю о нем с глубоким уважением – когда-то был рад получить от аббата должность лесничего, а теперь у него есть собственные гончие, и соколы, и сокольничий Адам Вудкок в придачу.
– Ты прав, Адам, мне по душе твои слова, – ответил юноша, сильно покраснев. – Сокол без бубенцов может взлететь намного выше, чем с ними, хотя бы они были сделаны из чистого серебра.
– Вот это сказано как надо! – воскликнул сокольничий. – Ну а куда же теперь?
– Я думал пойти в Кеннаквайрское аббатство, – ответил Роланд Грейм, – попросить совета у отца Амвросия.
– И иди себе с богом, – сказал сокольничий. – Правда, может статься, что ты найдешь старых монахов в некотором расстройстве: говорят, народ хочет выкурить их из келий и отслужить в старой церкви обедню дьяволу; люди считают, что слишком долго воздерживались от этой забавы, и, по правде говоря, я с ними вполне согласе
Страница 38
.– В таком случае для отца Амвросия будет полезно, если рядом с ним окажется друг, – решительно сказал паж.
– Так-то так, мой юный храбрец, – возразил сокольничий, – да только для этого друга едва ли будет полезно оставаться рядом с отцом Амвросием: подвернется как-нибудь под руку, да и схватит ни за что пару-другую тумаков, – вот и выйдет ему в чужом пиру похмелье, а уж что может быть хуже!
– Меня это не пугает, – сказал паж, – страх перед тумаками не удержал бы меня; но я боюсь, что нарушу покой братии, если явлюсь к отцу Амвросию. Лучше я переночую в келье святого Катберта[64 - Святой Катберт – монах, живший в VI в.; проповедовал христианство в пограничных областях между Шотландией и Англией. Жители этих мест считали его своим покровителем.] – старый отшельник предоставит мне убежище на ночь, – а оттуда сообщу о себе отцу Амвросию и попрошу его совета, прежде чем сам пойду в монастырь.
– Клянусь Пресвятой Девой, – сказал сокольничий, – это подходящий план. А теперь, – продолжал он, и при этом его прежняя непосредственность вдруг сменилась неловким смущением, словно ему нужно было что-то сказать, но он затруднялся в выборе выражений, – теперь вот что: тебе известно, что я ношу при себе кошель с мясом для соколов, но знаешь ли ты, чем он подбит изнутри, мейстер Роланд?
– Кожей, конечно, – ответил Роланд, несколько удивленный той несмелостью, с которой Адам Вудкок задал свой вопрос, казалось бы, столь простой.
– Думаешь, кожей? – произнес Вудкок. – Да, но, сверх того, еще и серебром. Смотри-ка, – тут он показал потайной разрез в подкладке своей должностной сумки[8 - Такая сумка, как и прочие принадлежности соколиной охоты, считалась почетным отличием. Ее часто носили знатные вельможи. Одного дворянина из рода кэмнитенских Соммервилов называли «сэр Джон с красной сумкой», потому что он имел обыкновение носить при себе соколиный кошель, обтянутый атласом алого цвета. (Примеч. авт.)], – видишь, здесь ровно тридцать гротов с изображением короля Гарри[65 - …с изображением короля Гарри… – Имеется в виду английский король Генрих VIII, царствовавший с 1509 по 1547 г. Хэл – его прозвище.], самые лучшие из тех, что чеканились во времена старого рубаки Хэла. Десять из них готовы тебе служить от всей души. Уф, наконец-то выпалил!
Первым побуждением Роланда было отказаться от всякой помощи; но он вспомнил обет смирения, который только что дал самому себе, и рассудил, что как раз сейчас представляется возможность испытать твердость принятого решения.
Усилием воли овладев собой, он со всею душевностью, какую только мог проявить, поступая прямо противоположно своим наклонностям, ответил Адаму Вудкоку, что с благодарностью принимает его любезное предложение, но тут же, ища удовлетворения своей вновь проснувшейся гордости, добавил, что надеется вскоре вернуть долг.
– Это уж как захочешь, как захочешь, молодой человек, – радостно сказал сокольничий, отсчитывая и вручая своему юному другу деньги, которые так щедро предложил. Затем он весело добавил:
– Теперь можешь бродить по белу свету, потому что кто умеет ездить верхом, трубить в рог, натравливать гончих, спускать сокола да орудовать мечом и щитом, имея пару целых башмаков, зеленый камзол и десяток новехоньких гротов в кошельке, – тому сам черт не брат! Прощай, и да благословит тебя Бог!
Сказав это, он круто повернулся, словно желая избежать благодарности своего собеседника, и пошел прочь, оставив Роланда Грейма продолжать свое путешествие в одиночестве.
Глава VIII
Погасли свечи, храм во мраке,
Повсюду разрушенья знаки,
Разорены святые раки,
И колокол затих.
Алтарь поверженный – во прахе,
Распятье сломано, и в страхе
По свету разбрелись монахи…
Господь, помилуй их!
Redlviva[9 - Возрожденная (церковь) (лат.).]
Так называемая пустынь Святого Катберта[66 - …пустынь Святого Катберта… – Вальтер Скотт в своих примечаниях к «Аббату» указывает, что место действия в этой главе является вымышленным.] была, или, по крайней мере, считалась, одним из тех мест отдохновения этого почтенного святого, в которых он велел останавливаться своим монахам, когда они, изгнанные датчанами[67 - …изгнанные датчанами… – Нашествия датчан на Британские острова начались только с конца VIII в. У Вальтера Скотта здесь анахронизм.] из своего монастыря в Линдисферне, превратились в странствующую монашескую братию. Переходя с места на место, они обошли всю Шотландию, а частично также и Англию, неся на плечах своего патрона, пока наконец он не пожелал освободить их от обязанности носить его на себе и не избрал местом своего постоянного пребывания величественный храм в Дареме[68 - Дарем – один из древнейших городов на севере Англии.]. Аромат святости оставался после него всюду, где он давал монахам краткий отдых от их трудов; и горды были те, кто мог назвать в своей округе какое-нибудь место, где хоть ненадолго останавливался святой Катберт. Пустынь Святого Катберта, куда Роланд Грейм направил свой путь, была одной из самых известн
Страница 39
х и почитаемых в стране; она была расположена к северо-западу от Кеннаквайрского аббатства, которому была подчинена, на довольно большом расстоянии от него. Этот край обладал такими преимуществами, которые римско-католическое духовенство всегда принимало в расчет при выборе места для монастыря. Здесь был целебный источник, покровителем и патроном которого считался, конечно, святой Катберт; источник этот время от времени приносил обитавшему в пустыни отшельнику некоторый доход, – поскольку никому и в голову не приходило воспользоваться целительной силой воды, не одарив щедро священнослужителя. Клочок плодородной земли был занят садом; возделывал его сам монах. Небольшая гора, поросшая лесом, возвышалась за пустынью, прикрывая ее с северо-востока, а с противоположной, юго-западной стороны, куда здание было обращено фасадом, простиралась не тронутая рукой человека, но приятная для глаза долина, по которой бежал быстрый ручей, увлекая за собой встречавшиеся на его пути камни.Обитель была скорее простым, нежели грубым сооружением; она представляла собой невысокое здание в готическом стиле с двумя помещениями скромных размеров, одно из которых служило жилищем для монаха, а другое – часовней. Поскольку мало кто из представителей белого духовенства отваживался селиться так близко от границы, население нуждалось в помощи монаха для исполнения религиозных обрядов, пока католическая вера еще сохраняла преимущественное влияние в стране; он мог заключать браки, крестить и совершать другие таинства римской церкви. Однако в последнее время, в связи с широким распространением протестантского учения, он предпочитал жить в строгом отшельничестве, стараясь по возможности не привлекать к себе внимания и не вызывать ничьего недовольства. Но внешний вид здания, каким его увидел добравшийся сюда к концу дня Роланд Грейм, ясно показывал, что все предосторожности монаха оказались бесполезными.
Первым побуждением пажа было постучать в дверь, но он тут же с удивлением заметил, что она распахнута настежь, и вовсе не потому, что ее решили оставить незапертой: верхняя петля была сорвана, и дверная створка, держась только на нижней петле, не могла больше выполнять свое назначение. Несколько встревоженный этим и убедившись, что никто не отвечает ни на стук, ни на зов, Роланд внимательно осмотрел здание снаружи, прежде чем решился войти в него. Цветы, посаженные вдоль стен и любовно выращенные, были сорваны, по-видимому, недавно; помятые и истерзанные, они в беспорядке валялись на земле. Окно было разбито, а решетка на нем – силой вдавлена внутрь. Сад, который всегда выглядел аккуратным и красивым благодаря неустанным заботам монаха, теперь был разорен и вытоптан сапогами и конскими копытами, следы которых были отчетливо видны на земле.
Не избежал печальной участи и чудотворный ключ. Прежде он бил под сенью сводчатой аркады, которую еще в древние времена воздвигли верующие, заботясь о чистоте и сохранности источника целебных вод. Теперь эта аркада была почти полностью разрушена: камни, из которых она состояла, были навалены на источник, как бы нарочно для того, чтобы закрыть выход для воды и уничтожить ключ, доселе разделявший славу своего святого покровителя, а отныне вместе с ним обреченный на забвение. Часть крыши была сорвана, а один из углов здания явно пытались обрушить при помощи рычагов и ворота, так как несколько больших камней фундамента было выворочено; но у осаждающих, по-видимому, не хватило времени и терпения, чтобы преодолеть прочность старинной кладки, и они отказались от этой затеи. Такие разрушенные здания по прошествии многих лет, в течение которых природа постепенно прикрывает ползучими растениями и сглаживает ветром и дождем следы повреждений, приобретают меланхолическую красоту руин. Но когда взору предстают свежие, недавно причиненные повреждения, ничто не смягчает потрясающей душу картины опустошения; именно таким было зрелище, открывшееся юному пажу; он глядел на него с естественным ужасом, который охватил бы в этом случае каждого.
Оправившись от первого потрясения, Роланд Грейм без труда сообразил, кем мог быть учинен такой разгром. Уничтожение зданий, принадлежащих католической церкви, происходило не сразу по всей Шотландии, а разновременно, и судьба их зависела от того, как было настроено местное реформатское духовенство: некоторые из протестантских священнослужителей подстрекали своих прихожан на эти разрушительные действия, другие же, обладая более тонким вкусом и более возвышенными чувствами, старались спасти от гибели древние храмы и желали только, чтобы они были очищены от предметов языческого поклонения. Поэтому население шотландских городов и деревень, побуждаемое чувством отвращения к папистскому суеверию или же поучениями наиболее пылких проповедников, время от времени снова принималось разрушать, направляя свою ярость на уединенно расположенные монастыри, часовни или пустыни, которые уцелели после первой вспышки возмущения против римско-католической религии. Во многих местах пороки католич
Страница 40
ского духовенства, порожденные богатством и лихоимством всех членов этой гигантской иерархии, были настолько велики, что мстительное уничтожение зданий, в которых они обитали, казалось вполне оправданным. Старый шотландский летописец приводит тому замечательный пример:– Зачем скорбите вы об этом разрушенном здании? – сказала одна пожилая женщина людям, которые выражали недовольство тем, что толпа сожгла такой красивый монастырь. – Если б вам были ведомы хотя бы некоторые из гнусных дел, какие творились в этом доме, вы восславили бы Божий приговор, не допустивший, чтобы даже эти бесчувственные стены оставались стоять на христианской земле, ибо они скрывали ужасающее распутство.
Но хотя во многих случаях разрушение зданий римско-католической церкви было актом справедливости, как считала эта женщина, или актом политической необходимости, как считали другие, несомненно, что уничтожать памятники благочестия и щедрости старых времен, да еще в такой бедной стране, как Шотландия, где нельзя было надеяться на замену их новыми сооружениями, значило совершать дело недостойное, зловредное и варварское.
Уединенность простого, мирного обиталища, в котором некогда жил святой Катберт, до сих пор оберегала монаха-отшельника от общего бедствия, но теперь, как видно, несчастье настигло и его. Желая поскорее узнать, остался ли невредимым хотя бы сам монах, Роланд Грейм вошел в полуразрушенную пустынь.
Внутренний вид здания подтвердил худшие предположения, которые возникли у него, когда он рассматривал наружные повреждения. Немногочисленная грубая утварь отшельника была разбита и разбросана по полу, посредине которого, видимо, разжигался из обломков костер, чтобы уничтожить все остальные вещи, и в особенности – примитивную старинную фигуру, изображавшую святого Катберта в епископском облачении. Фигура лежала теперь поверженной на очаге, подобно древнему Дагону[69 - Дагон – бог древних народов, филистимлян и финикийцев. Изображался с рыбьим хвостом. По библейской легенде, идол филистимлян низвергся и рухнул, когда в его храм внесли отбитый в сражении у евреев так называемый ковчег завета.]; она была разрублена топором и покоробилась от огня, но не погибла окончательно. В маленьком помещении, служившем часовней, был опрокинут алтарь, и четыре массивных камня, из которых он был сложен, беспорядочно лежали на полу. Большое каменное распятие, занимавшее нишу позади алтаря и обращенное к молящимся, было сброшено со своего места и от собственной тяжести раскололось на три куска. На каждом из них были заметны следы кувалды, но изображение не было уничтожено полностью из-за больших размеров и прочности оставшихся кусков, на которых, несмотря на значительные повреждения, скульптура отчасти сохранилась, так что можно было понять, что она представляла собой прежде.
Роланда Грейма, тайно воспитанного в католических догматах, ужаснуло это надругательство над распятием, самой священной, согласно его вере, эмблемой нашей христианской религии.
– Негодяи! – вскричал он. – Они осмелились осквернить символ нашего искупления. О боже, если бы моих слабых сил хватило на то, чтобы восстановить его! О, если бы я только мог стереть следы святотатства!
Обдумывая, как взяться за эту задачу, он наклонился над обломками и вдруг, с неожиданным для себя самого приливом сил, поднял за один конец нижний брус креста и перенес его на большой камень, служивший для него цоколем. Ободренный успехом, Роланд взялся за другой конец, и, к собственному изумлению, ему удалось вставить брус в гнездо, из которого он был вырван, и вернуть, таким образом, этому обломку распятия вертикальное положение.
В то время как он был занят этой работой, или, точнее говоря, в тот самый момент, когда обломок был водружен на свое место, позади него раздался хорошо знакомый ему резкий голос, который произнес:
– Благое дело совершаешь ты, ревностный и преданный раб Господень! Таким я хотела увидеть снова мое любимое дитя, свет очей моих, надежду моей старости.
Роланд в изумлении обернулся и увидел рядом с собой высокую, величественную фигуру Мэгделин Грейм. Старуха была облачена в свободно ниспадавшее одеяние, подобное тем, какие носят в католических странах кающиеся, но черное и лишь несколько отличающееся по своему покрою от паломнического плаща, чтобы его можно было безопасно носить в стране, во многих местах которой обвинение в исповедании католичества угрожало тяжелыми последствиями для всякого, кого можно было заподозрить в приверженности старой вере. Роланд Грейм упал к ее ногам. Она подняла его и заключила в объятия; это, несомненно, был порыв искренней любви, но тем не менее ее лицо не утратило строгого выражения, граничащего с суровостью.
– Ты сумел сохранить голубя в своем сердце[10 - Слова, которые произнес, умирая, сэр Ралф Перси, смертельно раненный в сражении при Хеджлимуре в 1464 г.; они должны были означать его нерушимую верность Ланкастерскому дому*. (Примеч. авт.)* Ланкастерский дом – английская династия, боровшаяся за власть с Йоркским до
Страница 41
ом во время войны Алой и Белой роз (1455–1485).], – сказала она. – И мальчиком и юношей ты твердо держался своей веры. Живя среди еретиков, ты сумел скрыть от врагов нашу тайну. Я плакала, расставаясь с тобой, я редко плачу, но тогда я пролила слезу: не потому, что твоя жизнь была в опасности, но потому лишь, что опасность грозила душе твоей. Я даже не разрешила себе повидаться с тобой, чтобы сказать тебе последнее прости, ибо горе, переполнившее мою душу, выдало бы меня этим еретикам. Но ты сумел сохранить свою веру – так пади же на колени пред священным символом, который злодеи кощунственно хулят и уродуют, возблагодари святых и ангелов за ниспосланную тебе благодать, ибо она оберегла тебя от проказы, укоренившейся в том доме, где ты воспитывался.– О мать моя! Ибо только так я должен называть вас, – воскликнул Грейм. – Если я вернулся таким, каким вы хотели видеть меня, вы должны благодарить за это благочестивого отца Амвросия: его наставления укрепили в моей душе заповеди, которые вы внушили мне в детстве, научив меня сохранять свою веру и молчать.
– Да будет он благословен за это, – сказала старуха, – благословен везде и повсюду, в келье и в поле, на кафедре и у алтаря. Да осыплют его святые своими милостями! Это они, праведники, побуждают его к свершению благочестивых трудов для противодействия тому злу, которое его ненавистный брат причиняет королевству и церкви. Но он не осведомлен о твоем происхождении?
– Я сам ничего не мог сказать ему об этом, – ответил Роланд. – Мне было известно только одно, с ваших же слов: что сэр Хэлберт Глендининг присвоил мое наследство и что в моих жилах течет такая же благородная кровь, как и в жилах любого шотландского барона. Такие слова не забываются, но сейчас я должен просить вас объяснить мне их.
– Это будет сделано в свое время. Но люди говорят, сын мой, что ты дерзок и вспыльчив. Тем, у кого такой характер, нельзя с легкостью поверять вещи, которые могут привести их в сильное волнение.
– Скажите лучше, мать моя, – возразил Роланд Грейм, – что я хладнокровен и медлителен. Какого еще терпения, какой выдержки можно требовать от того, кто, слушая годами, как высмеивают и оскорбляют его религию, так и не решился вонзить кинжал в грудь богохульника?
– Успокойся, дитя мое, – ответила Мэгделин Грейм, – время вынужденного терпения на исходе: оно сменяется временем, когда надо будет напрячь все свои силы и действовать: надвигаются великие события, и ты окажешься среди тех, кто приблизит их. Ты сам оставил службу у леди Эвенел?
– Меня уволили, матушка, попросту прогнали, как самого последнего из слуг.
– Тем лучше, дитя мое, – промолвила старуха. – Твой дух еще более закалится для дела, которое должно быть свершено.
– Только бы оно не причинило вреда леди Эвенел, – сказал паж, – а именно на это как будто намекают ваши слова, и о том же говорит ваш взгляд. Я ел ее хлеб и пользовался ее милостями – и никогда я не позволю себе оскорбить или предать ее.
– Об этом после, сын мой, – сказала Мэгделин, – но ты должен знать, что тебе не дано права хоть в чем-нибудь отступать от твоего долга, говоря: «Вот это я сделаю, а этого делать не буду». Нет, Роланд! И Господь Бог и сам род человеческий не станут больше терпеть пороков нынешнего поколения. Ты видишь эти обломки? Знаешь ты, что они собой представляют? Как же можешь ты не уравнивать в своем мнении всех этих людей, которые, будучи прокляты Небесами, пали так низко, что отвергают, хулят, оскорбляют и разрушают все, во что нам положено верить, что мы обязаны почитать?
Говоря это, она склонилась над сломанным распятием. На лице ее выражались одновременно сильнейшее негодование, одержимость одной идеей и фанатическая набожность. Она подняла левую руку, как бы давая обет, и продолжала:
– Перед этим священным символом нашего спасения, перед твоим ликом, пресвятой угодник, в чьем поруганном храме мы находимся сейчас, я клянусь, что не жажда личной мести заставляет меня преследовать этих ненавистных мне людей и что никакие блага, никакие земные привязанности не заставят меня снять руку с плуга, пока им не будет до конца проведена заветная борозда! Я клянусь пред тобою, пресвятой угодник, который некогда был таким же бездомным скитальцем, какими ныне являемся мы сами; пред тобой, милосердная Матерь Божья, царица небесная; пред всеми вами, святые угодники и ангелы!
Охваченная религиозным экстазом, она стояла, устремив свой взор к звездам, которые уже начинали мерцать в тусклом сумеречном небе, видневшемся сквозь разрушенный свод; вечерний ветер, свободно проникая сквозь эту широкую расселину и разбитые окна, шевелил длинные седые волосы, спадавшие ей на плечи. Роланд Грейм с детства привык робеть перед нею и сейчас, как и в прежние времена, почтительно присмирев от таинственной многозначительности ее слов, не решался просить ее яснее раскрыть те цели, на которые она столь смутно намекала. Сама же она не проявляла больше желания говорить об этом: завершив свою молитву, или заклинание, она благоговейно сл
Страница 42
жила руки, затем осенила себя крестным знамением и вновь обратилась к внуку – уже в другом тоне, более уместном для обыденных житейских дел.– Ты должен будешь отправиться дальше, Роланд, – сказала она, – но не ранее завтрашнего утра. Тебя не пугает, что ночь тебе придется провести не на таком ложе, к какому ты привык? Ведь ты приучен за эти годы мягко спать – не так, как в ту пору, когда мы с тобой бродили среди туманных Камберлендских и Лидсдейлских гор.
– Я все же не забыл, моя добрая матушка, того, чему научился тогда: я могу спать на жестком ложе, могу скудно питаться и не страдать от этого. За время, прошедшее с тех пор, как мы вместе скитались в горах, я стал охотником, рыбаком и птицеловом, а каждое из этих занятий требует от человека умения проводить ночи под открытым небом, не имея над головой даже такого ненадежного укрытия, какое оставили нам здесь святотатцы.
– Какое оставили нам здесь святотатцы… – повторила старуха слова Роланда и, как бы раздумывая над ними, немного помолчала. – Ты совершенно прав, сын мой, – продолжала она. – Ныне для преданных Господу чад его Божьи дома и обиталища святых праведников – самые ненадежные убежища. Мы проведем здесь ночь на холоде, овеваемые ветром, дующим сквозь бреши, пробитые в этих стенах еретиками. Но те, кто совершил это, скоро обретут покой там, куда нет доступа холодному ветру. И сон их долго не прервется.
Несмотря на странные, зловещие речи старухи, можно было заметить, что она сохранила в своем сердце такую нежную и преданную любовь к Роланду Грейму, какую обычно испытывают женщины к рожденным ими младенцам или к чужим детям, доверенным их попечению. Казалось, она не хочет позволить ему делать самостоятельно что-либо из того, о чем привыкла заботиться для него сама, и считает, что стоящий перед нею рослый юноша не может обойтись без ее заботливого внимания так же, как и в то время, когда он был маленьким сироткой, который всем был обязан ее любовному уходу.
– Чем же утолишь ты теперь свой голод? – спросила она, перейдя вместе с ним из часовни в келью монаха. – Каким способом ты добудешь огонь, чтобы защититься от резкого немилосердного ветра? Бедное дитя! Ты плохо подготовился к такому длинному путешествию; и ты еще не умеешь проявить сметку, когда средств, имеющихся в твоем распоряжении, недостаточно. Но Пресвятая Дева поставила рядом с тобой старую женщину, столь же хорошо узнавшую нужду во всех ее видах, как прежде она знала богатство и роскошь. А нужда, Роланд, изобрела необходимые человеку ремесла, она заставляет его быть мастером на все руки.
С озабоченным и хлопотливым видом, что странным образом не соответствовало ее недавним речам, высокопарным и отрешенным от всего земного, она занялась приготовлениями к ужину. Из спрятанной под плащом сумки она достала кремень и огниво, а затем, собрав разбросанные по полу обломки (но не притрагиваясь при этом к кускам, отвалившимся от фигуры святого Катберта), наколола щепок, которых оказалось достаточно, чтобы в очаге покинутой кельи вновь заиграл веселый огонь.
– А теперь, – сказала она, – надо подкрепиться.
– Не думайте об этом, матушка, – сказал Роланд, – если только сами вы не голодны. Для меня будет совсем нетрудно воздержаться сегодня вечером от еды, и я еще отнюдь не искуплю этим того невольного нарушения церковных предписаний, к которому был принужден во время моего пребывания в замке.
– Да разве я могу быть голодна! – воскликнула эта почтенная особа. – Знай, юноша, что мать никогда не испытывает голода, пока не насытится ее ребенок. – И с неожиданной нежностью в голосе, столь противоречившей обычной суровости ее тона, она добавила:
– Ты не должен поститься, Роланд; от тебя это не требуется: ты молод, а молодость не может обходиться без пищи и сна. Щади свои силы, дитя мое, к этому тебя обязывают повелевающая тобой державная власть, твоя религия, твоя родина. Пусть старики измождают постом и бдением свою плоть, способную уже только страдать; молодые люди в наше бурное время должны заботиться о своем телесном здоровье, укреплять свои силы, необходимые для дела.
Пока она говорила, из той же сумы, в которой содержались орудия для добывания огня, появилось съестное: сама старуха едва прикоснулась к пище, но ревниво следила за тем, как ел ее подопечный, испытывая истинно эпикурейское наслаждение[70 - …испытывая истинно эпикурейское наслаждение… – Древнегреческий философ-материалист и атеист Эпикур (341 – 270 до н. э.) учил, что счастье заключается в наслаждении покоем, который достигается скорее духовными радостями, чем чувственными. Впоследствии, однако, под эпикурейством стали понимать стремление к чувственным наслаждениям.] от каждого куска, который он проглатывал с присущим молодости аппетитом, необычайно усилившимся вследствие вынужденного воздержания.
Охотно последовав ее совету, Роланд уплетал за обе щеки еду, предложенную ему с такой любовью и заботой. Когда же сам он пригласил Мэгделин отведать припасенного ею угощения, старуха в ответ только отрицательно п
Страница 43
качала головой; но так как Роланд продолжал настаивать, она высокомерным, не допускавшим возражений тоном решительно заявила о своем отказе.– Молодой человек, – сказала она, – ты сам не знаешь, о чем говоришь и к кому обращаешь свою речь. Те, кому Небо открыло свои высшие предначертания, должны умерщвлять свою плоть, дабы заслужить приобщения к этому знанию. Они обретают нечто такое, что не нуждается в подкреплении земной пищей, необходимой людям, которых не озарило откровение. Бдение, отданное молитве, заменяет им освежающий сон, а сознание, что они выполняют волю Божью, услаждает их более, нежели самые роскошные яства, которые могли бы предоставить им пиршественные столы монархов. А ты должен ночью спать, сын мой, и притом с удобством, – добавила она, и в голосе ее, только что звучавшем фанатически исступленно, вдруг послышались материнская любовь и нежность. – Пусть сон твой будет крепок, пока ты еще молод и можешь в ночном забытьи топить дневные тревоги. Различны наши с тобой обязанности, различны и средства, которыми мы готовим и закаляем себя для их выполнения. От тебя требуются телесные силы, от меня – душевные.
Говоря это, она тем временем быстро и ловко приготовляла постель, прежде всего употребив для этой цели сухие листья, на которых обычно спали отшельник и его редкие гости; разрушители не обратили на них внимания, и они остались почти нетронутыми в отведенном для них углу. К листьям она позаботилась присоединить кое-какое валявшееся на полу тряпье. При этом она тщательно отобрала все обрывки, которые могли относиться к церковному облачению, и, отложив их в сторону как непригодные для обыденного употребления, живо и искусно соорудила из остальных ложе, на которое охотно прилег бы всякий человек, нуждающийся в отдыхе; в то же время она решительно и даже с какой-то желчностью отвергала все попытки юноши помочь ей и его настоятельные просьбы воспользоваться самой этим ложем для отдыха.
– Спи, Роланд Грейм, – сказала она, – спи, гонимый, обездоленный сирота, сын злосчастной матери. Спи! Я буду молиться тут, рядом с тобой, в часовне.
Она говорила с такой пламенной страстью и была так непреклонно тверда, что Роланд Грейм не решился больше с ней спорить. И все же ему было как-то неловко уступать ей. В самом деле, она словно забыла, сколько лет прошло с тех пор, как они расстались, и ожидала, что возвращенный ей рослый юноша, избалованный и своенравный, окажется таким же беспрекословно послушным, каким был ребенок, некогда оставленный ею в замке Эвенелов. Это обстоятельство, разумеется, задевало гордость Роланда, которая была главной и отличительной чертой его характера.
Он, конечно, выполнил ее требование, приведенный к повиновению ожившей в нем давней привычкой неизменно ей подчиняться, а также чувствами привязанности и благодарности. Однако это заметно угнетало его.
«Неужели я отказался от соколиной охоты, – думал он, – только для того, чтобы эта женщина руководила мной по своему усмотрению, как если бы я оставался еще ребенком? Ведь даже завистливые товарищи признавали мое превосходство в этом искусстве, которое они усваивали с большим трудом, а я постиг сразу, словно мне по праву рождения дано владеть им. Нет, так не может и не должно быть! Я не буду ручным ястребом-перепелятником, который сидит на руке у женщины, накрытый колпачком, и видит свою добычу только тогда, когда ему открывают глаза, чтобы пустить в полет. Я узнаю, каковы ее цели, прежде чем стану, как она того желает, способствовать их достижению».
Эти мысли, а также многие другие, одна за другой мелькали в голове Роланда Грейма; и хотя он был сильно утомлен минувшим тяжелым днем, прошло немало времени, прежде чем он успокоился и заснул.
Глава IX
Стань на колени, Небом поклянись мне:
Словам без изгороди клятв – не верю!
Старинная пьеса
Проспав всю ночь крепким сном, который естественно последовал за нервным возбуждением и усталостью, Роланд был разбужен утренней прохладой и лучами восходящего солнца. Сначала его охватило удивление, ибо вместо Эвенелского озера, вид на которое открывался из окна его комнаты, расположенной в одной из башен замка, его взору сквозь оконный проем с выбитой решеткой предстал разоренный сад изгнанного анахорета. Роланд приподнялся на своем ложе из листьев и стал не без удивления перебирать в памяти странные события предшествующего дня. Чем больше он думал о них, тем более удивительными они ему представлялись. Он лишился покровительницы своей юности, но в тот же самый день вновь обрел наставницу и опекуншу своих детских лет. Юноша отдавал себе отчет, что о первом из этих обстоятельств, то есть о своей утрате, он еще не раз будет горько сожалеть; что же касается второго, ему, по-видимому, не с чем было особенно поздравлять себя. Он помнил, что эта старая женщина, заменившая ему мать, всегда заботилась о нем столь же нежно, сколь властно им руководила. Воспоминания о проведенных с нею детских годах связывались с каким-то смешанным чувством любви и страха, которое
Страница 44
н испытывал тогда; и теперь радость встречи после долгой разлуки тоже сильно умерялась страхом, – он боялся, что она снова вздумает управлять по своей воле всеми его поступками, – страхом, которого отнюдь не могло рассеять ее вчерашнее поведение.«Не намерена же она, в самом деле, – думал он, ощущая новый прилив гордости, – водить меня за руку и опекать, словно малого ребенка, зная, что я уже достиг возраста, когда могу сам отвечать за себя. А если именно таковы ее намерения, то она будет горько разочарована».
Чувство благодарности к той, против кого восставало все его существо, заставило Роланда устыдиться этих движений своей души. Он так яростно гнал от себя невольно приходившие ему на ум мысли, словно сопротивлялся подстрекательству самого дьявола. Пытаясь найти поддержку в этой борьбе, он захотел достать свои четки. Но, покидая замок Эвенелов, он, торопясь, совершенно забыл о них, и они остались в его комнате.
«Час от часу не легче, – подумал он, – две вещи заповедала она мне в строжайшей тайне: молиться, перебирая четки, и тщательно скрывать это ото всех; и я до сих пор хранил слово, данное ей; а теперь, когда она спросит у меня четки, мне придется ответить, что я забыл их в замке! Вправе ли я рассчитывать на ее доверие, говоря, что сохранял тайну своей религии, если я так легкомысленно обошелся с символом веры?»
Сильно взволнованный, он шагал по келье взад и вперед. В самом деле, хотя его религиозные чувства были совсем иного рода, чем те, что воодушевляли пылавшую фанатизмом старуху, все же он ни за что на свете не отрекся бы от своей веры. Обладая от природы незаурядным умом и превосходной памятью, он не забыл наставлений, полученных им некогда от бабушки. Хотя тогда он был еще ребенком, он гордился тем, что ему доверяют хранить тайну, и был намерен доказать, что не напрасно облечен таким доверием. Однако это было всего лишь решение ребенка, и оно неизбежно забылось бы в результате воздействия других внушений и примеров, если бы не уверения отца Амвросия, когда-то в миру именовавшегося Эдуардом Глендинингом. Этот ревностный монах был извещен анонимным письмом, врученным ему неким пилигримом, о том, что в замке Эвенелов живет воспитанный в католической вере ребенок, которому, говорилось в письме, грозит такая же опасность, как тем трем отрокам, что были ввергнуты злодеями в пещь огненную[71 - …грозит такая же опасность, как тем трем отрокам, что были ввергнуты злодеями в пещь огненную. – В Библии рассказывается о трех юношах – Анании, Азарии и Мисаиле, – которые были уведены в Вавилон и за отказ поклоняться «истукану» были по приказу царя Навуходоносора брошены в печь, но чудесным образом спасены.].
Письмо предупреждало, что если беззащитный агнец, которого пришлось оставить во владениях хищного волка, станет в конце концов его добычей, ответственность за это всецело падет на отца Амвросия. Монаха не нужно было больше убеждать ни в чем: ему достаточно было узнать, что чья-то душа находится в опасности и что католик может стать вероотступником; он участил свои посещения замка, дабы из-за отсутствия духовной поддержки и руководства с его стороны (а он всегда умел находить возможность быть полезным в этом отношении) церковь не утратила одного из своих приверженцев, чьей душой, если бы это произошло, согласно римскому вероучению, неизбежно завладел бы дьявол.
Однако беседы отца Амвросия с Роландом были редкими, и хотя они побуждали сироту сохранять тайну и твердо придерживаться своей религии, все же происходили они недостаточно часто и были слишком краткими, чтобы внушить мальчику что-нибудь большее, чем слепое выполнение обрядов, на которые указал ему священник. Он следовал канонам католической церкви скорее потому, что считал бесчестным предавать религию своих предков, нежели в силу сознательного убеждения или искренней веры в ее непостижимые разумом догматы. Он сам считал, что именно это отличие главным образом и выделяет его из тех, среди кого он жил, предоставляя ему дополнительный – невольно скрытый и невысказываемый – мотив для того, чтобы презирать своих явных недоброжелателей из числа замковой челяди и не воспринимать никаких наставлений капеллана Генри Уордена.
«Этот фанатический проповедник и не подозревает, – думал он про себя во время очередных нападок капеллана на римскую церковь, – к чьим ушам обращена его нечестивая речь и с каким презрением и отвращением выслушивается его кощунственная хула на святую религию, которая возводила королей на царства и во имя которой принимали смерть многие мученики».
Но этим гордым вызовом, обращенным к ереси, как тогда называли новое исповедание, и ее проповедникам, исчерпывалась вера Роланда Грейма, в чьем представлении католическая религия связывалась с благородной независимостью, а протестантская – с подчинением своего ума и сердца духовной власти мистера Уордена; гордясь тем, что он отличается от всех окружающих, Роланд удовлетворялся этим сознанием и не стремился вникнуть в сущность исповедуемого им учения, а рядом с ним не было
Страница 45
никого, кто бы мог ему разъяснить его. Поэтому в своем сожалении о забытых четках, которые передал ему отец Амвросий, он скорее походил на воина, пристыженного потерей кокарды или какого-либо иного атрибута своей службы, нежели на ревностного сына церкви, скорбящего об утрате вещественного символа своей веры. Однако он был чрезвычайно огорчен происшедшим, предчувствуя, что о допущенной им небрежности непременно станет известно его бабушке. Какое-то чувство подсказывало ему, что только она могла тайно вручить отцу Амвросию четки для него, а он плохо отплатил ей за ее заботу.«Уж конечно, она не преминет спросить меня о четках, – говорил он себе, – ибо ее рвение не ослабевает с годами; и если нрав ее остался прежним, она, несомненно, будет разгневана моим ответом».
В то время как он рассуждал таким образом сам с собой, в комнату вошла Мэгделин Грейм.
– Да осенит главу твою благословение Неба в начале этого нового дня, сын мой, – сказала она с торжественностью в голосе, от которой юноше стало не по себе, так сурово и возвышенно прозвучало в ее устах это обращение, в котором любовь к нему была слита с истовой набожностью.
– Ты покинул в такой ранний час свое ложе, чтобы не пропустить первый луч солнца? Но это неблагоразумно, мой мальчик. Вкушай мирный сон, пока можешь; недалеко то время, когда ты, как и я, должен будешь пребывать в неустанном бдении.
Нежность и тревога, сквозившие в этих словах, свидетельствовали о том, что, хотя мысли ее были направлены главным образом на божественное, в ней, когда она думала о своем воспитаннике, просыпались связывавшие ее с бренным миром земные чувства и страсти. Но она недолго пребывала в этом душевном состоянии, которое, по-видимому, сама считала минутной слабостью, несовместимой с ее якобы высоким призванием.
– А теперь, юноша, – сказала она, – надо действовать. Нам пора уходить отсюда.
– Куда мы пойдем? – спросил молодой человек. – Какова цель нашего путешествия?
Старуха отступила на шаг и смерила его взглядом, который выражал удивление с оттенком некоторой досады.
– К чему эти вопросы? – произнесла она. – Разве мало того, что я поведу тебя? Ужели оттого, что ты долго пробыл среди еретиков, суетное стремление жить своим умом заставило тебя забыть о почтительности и послушании?
«Настало время, – подумал Роланд Грейм, – когда я должен утвердить свою свободу, или же я навсегда останусь в добровольном рабстве. Я чувствую, что должен именно сейчас позаботиться об этом».
Его опасения не замедлили оправдаться, ибо Мэгделин тут же вернулась к теме, которая, казалось, неотвязно занимала ее мысли, хотя никто не умел лучше, чем она, скрывать свою религию, когда она того желала.
– А где твои четки, сын мой? Молился ли ты уже сегодня?
Роланд Грейм густо покраснел; он чувствовал, что гроза приближается, но счел для себя недостойным прибегнуть к обману, чтобы избежать ее.
– Я забыл их в замке, – сказал он.
– Ты забыл свои четки! – воскликнула старуха. – Ты нарушил верность своей религии и своему долгу, утратил пересланный тебе издалека, с превеликими опасностями, дар самой искренней любви, которым ты должен был дорожить бесконечно, оберегая каждую бусину как зеницу ока!
– Я очень опечален происшедшим, матушка, – ответил юноша, – и я высоко ценил этот дар, догадываясь, что он исходит от вас. Что касается прочего, то я надеюсь заработать достаточно золота, когда выйду в люди, а до тех пор можно будет обойтись четками, вырезанными из дуба или составленными из орешков.
– Да что он такое говорит! – воскликнула Мэгделин Грейм. – Еще совсем юн, а уже как усвоил уроки этой сатанинской школы! Четки, освященные самим Папой и удостоившиеся его благословения, – всего лишь ряд золотых бусин, стоимость которых можно возместить жалованьем за свой мирской труд, – и нанизанные на нитку орешки будут обладать той же силой! Да это чистая ересь! Так думать и так говорить научил тебя Генри Уорден – этот волк, опустошающий стадо пастыря.
– Матушка, – сказал Роланд, – я не еретик; я верю и молюсь согласно правилам нашей церкви. О случившемся несчастье я сожалею, но уже никак не могу его исправить.
– Зато ты можешь предаться раскаянию, – возразила его духовная наставница, – ты можешь каяться, простершись во прахе и посыпав голову пеплом; можешь искупить свою вину постом, молитвой, епитимьей, вместо того чтобы смотреть на меня с таким безмятежным видом, словно ты потерял пряжку от шляпы.
– Успокойтесь, матушка, – сказал Роланд, – я вспомню о своем проступке на ближайшей исповеди, как только для нее представится место и время, и сделаю во искупление его все, что мне прикажет священник. Будь я повинен в тягчайшем преступлении, я не мог бы сделать большего. Но, матушка, – добавил он после короткой паузы, – не гневайтесь на меня по другому поводу – за мои вопросы о том, куда лежит наш путь и где он должен окончиться. Я уже не ребенок, а взрослый мужчина и вправе сам распоряжаться своей судьбой; у меня уже пробивается борода, и я ношу при себе шпагу. Я пойд
Страница 46
за вами на край света – лишь бы вы были довольны, – но мой долг перед самим собой осведомиться о направлении и цели нашего путешествия.– Долг перед самим собой, неблагодарный мальчишка? – воскликнула Мэгделин Грейм, и от сильного волнения кровь прихлынула к ее лицу, вернув ее щекам румянец, который давно уже согнали с них годы. – Нет у тебя никакого долга перед самим собой и быть не может. Ты у меня в долгу за все: я спасла тебе жизнь, когда ты был младенцем, я заботилась о тебе, когда ты подрастал, дала тебе воспитание и надежду на высокое положение в будущем, и лучше мне увидеть тебя бездыханным трупом у своих ног, нежели дождаться того, чтобы ты изменил благородному делу, которому я тебя посвятила.
Роланда испугало охватившее старуху страшное возбуждение, которое могло оказаться губительным в ее возрасте, и он поторопился ответить ей:
– Я не забыл своего долга перед вами, дорогая матушка, и готов пожертвовать жизнью, чтобы доказать вам это; только прикажите – и вы увидите, поколеблюсь ли я хоть на миг. Но слепое повиновение столь же малоценно, сколь и неразумно.
– О святые угодники и ангелы небесные! – воскликнула Мэгделин Грейм. – И этакие слова я слышу от своего детища, на которое возлагала столько надежд, от своего питомца, над чьим изголовьем я не смыкала глаз, о чьем благополучии неустанно молила всех святых! Помни, Роланд, что только повиновением можешь ты доказать свою любовь и благодарность. Какая будет польза от того, что тебе заблагорассудится принять план действий, который предложу я, если он заранее будет тебе подробно разъяснен? В таком случае ты будешь руководствоваться не моим приказом, а собственным усмотрением; не будешь выполнять Божью волю, сообщаемую тебе через твоего лучшего друга, которому ты всем обязан, а будешь следовать случайным указаниям своего несовершенного разума. Слушай, Роланд! Высокий удел предназначен тебе – он ждет, он зовет, он требует тебя. Это достойнейший удел, какой только может выпасть смертному, и он возвещается тебе устами твоего первого, лучшего и единственного друга. Ужели ты отвергнешь его? Тогда иди своим путем, оставь меня одну, – мои земные надежды растаяли, разлетелись как дым… Я преклоню колени перед вот этим оскверненным алтарем, а когда вернутся беснующиеся еретики, пусть они обагрят его кровью мученицы!
– Но я не покину вас, моя дорогая матушка! – воскликнул Роланд Грейм, чьи полузабытые воспоминания об ее неистовом нраве были внезапно воскрешены этим диким порывом безудержного фанатизма. – Я не покину вас, я всегда буду возле вас; никакие блага мира не заставят меня расстаться с вами; я буду охранять, защищать вас; я хочу жить вместе с вами и готов умереть за вас.
– Одно слово, сын мой, стоило бы всего сказанного тобой. Скажи только: «Я буду повиноваться».
– Не сомневайтесь в этом, матушка, – ответил юноша. – Я хочу, всем сердцем хочу повиноваться вам; но только…
– Нет, я не желаю слышать никаких оговорок, – сказала Мэгделин Грейм, ловя его на слове. – Повиновение, которого я требую от тебя, должно быть беспрекословным; и да благословит тебя Господь, дорогой мой мальчик, живое напоминание о моем возлюбленном дитяти, за то, что у тебя хватило сил дать такое обещание, с которым столь трудно примириться человеческой гордыне. Поверь мне, что на том пути, на который ты вступаешь ныне, твоими соратниками будут люди доблестные и влиятельные – могущественная церковь и гордое дворянство. Победишь ты или потерпишь поражение, останешься жив или умрешь, – твое имя будет сиять среди имен тех, вместе с кем равно почетно делить и успех и неудачу, равно желанно жить и умереть. Вперед же, сын мой, вперед! Жизнь коротка, а наше предприятие потребует многих трудов и усилий. Ангелы, святые – весь сонм сил небесных смотрит сейчас на разоренную, истерзанную Шотландию. Что говорю я – на Шотландию! На нас с тобой он смотрит, Роланд, на слабую женщину и на неопытного юношу, поклявшихся среди развалин, в которые превращена богохульниками святая обитель, быть верными Божьему делу и делу законной королевской власти. Да будет так, аминь! Святые угодники и великомученики, чьи светлые очи глядят на нас, принимающих это решение, узрят, как оно будет исполнено, или же до их ушей, внемлющих сейчас нашему обету, донесутся наши предсмертные стоны, – ибо мы готовы отдать жизнь за святое дело.
Во время этой речи она одной рукой указывала на небо, а другой крепко сжимала руку Роланда Грейма, чтобы не дать ему воспротивиться клятве, участником которой он таким образом становился. Произнеся свое воззвание к Небесам, она не предоставила ему времени для колебаний и расспросов относительно ее целей, но, перейдя с такой же легкостью, как и прежде, на заботливый тон хлопотливой, любящей родственницы, стала настойчиво выспрашивать у него все, что касалось его пребывания в замке Эвенелов и приобретенных им там знаний и навыков.
– Это хорошо, – сказала она, удовлетворив свое любопытство, – мой соколенок хорошо обучен и высоко взлетит; но тем, кто вскормил его, приде
Страница 47
ся не только с удивлением, а и со страхом следить за его полетом. Ну а теперь, – произнесла она, помолчав, – надо поесть. Не смотри, что наш завтрак скуден: несколько часов ходьбы приведут нас в более дружественный дом.Они подкрепились остатками вчерашних припасов и не мешкая отправились в дальнейший путь. Мэгделин Грейм шла впереди быстрым, уверенным шагом, на который редко бывают способны люди ее возраста, а Роланд следовал за ней, задумчивый и озабоченный; он был отнюдь не в восторге от того, что снова попал в зависимое положение.
«Неужели я обречен, – говорил он себе, – вечно мучиться жаждой независимости и все же вечно быть руководимым, подчиняться чужой воле?»
Глава X
Среди нехоженых дорог,
Где ключ студеный бил,
Ее узнать никто не мог
И мало кто любил.
Вордсворт[72 - Вордсворт Уильям (1770–1850) – выдающийся английский поэт-романтик, один из представителей так называемой «озерной школы».]
На всем протяжении своего пути Мэгделин Грейм и Роланд почти не говорили друг с другом. Мэгделин шла вперед, погруженная в мысли о божественном, порою напевая один из тех прекрасных старинных латинских гимнов, которые исполняются во время католических богослужений, или бормоча про себя Ave и Credo. Размышления ее внука носили более земной характер: всякий раз, как, метнувшись из вереска и вызывающе прокричав, над полем проносилась белая куропатка, он вспоминал о весельчаке Адаме Вудкоке и его верном соколе; или же, когда они пробирались сквозь заросли, в которых невысокие деревья и кусты перемежались с пышным папоротником, дроком и ракитником, образуя густой и спутанный растительный покров, воображение рисовало ему оленя и свору гончих. Но чаще всего он возвращался мыслями к своей благожелательной госпоже, которую оставил глубоко оскорбленною, не сделав даже попытки помириться с нею.
«Мне было бы сейчас легче идти, – думал он, – и на душе у меня не было бы так тяжело, если бы я мог хоть на мгновение вернуться, чтобы повидать ее и сказать: “Леди, воспитанный вами сирота необуздан, но он умеет быть благодарным”».
Совершая в столь различном расположении духа свое путешествие, они к полудню добрались до небольшой, но раскинувшейся на значительном пространстве деревушки, над которой возвышались две четырехугольные башни, какие в те времена для оборонительных целей, подробно изложенных нами в другом месте, сооружались в каждом селении на границе Шотландии и Англии. Близ деревни протекала речка, орошавшая окрестную долину. На краю селения, чуть поодаль от него, стоял господский дом, очень ветхий и пришедший в чрезвычайный упадок, но служивший, по-видимому, жилищем для людей довольно знатных. Место это было очень приятное: оно находилось в излучине речки, и здесь росли четыре больших явора, которые прикрывали своей пышной листвой мрачные стены дома, построенного из темно-красного камня. Дом был большой, а теперь стал даже чересчур велик для своих обитателей: несколько окон были наглухо заложены камнем – главным образом окна нижнего этажа; другие же заделаны менее основательно.
Двор перед домом, некогда огороженный низким наружным валом, теперь наполовину разрушенным, был замощен, но камни сплошь покрыты буйно разросшейся крапивой, чертополохом и другими сорняками, которые, прорастая между плитами, сдвинули и перекосили многие из них. Даже то, о чем совершенно необходимо было позаботиться, оставалось без внимания, свидетельствуя о лени или крайней бедности хозяев. Поток, подмыв берег у поворота полуразрушенного вала, снес его вместе с угловой башней, обломки которой теперь лежали поперек русла реки. Течение, прегражденное опрокинутой им глыбой и устремившееся туда, где прежде стояла башня, сильно расширило пробитую брешь и уже подтачивало участок земли, занятый домом, спасти который теперь можно было только безотлагательным сооружением прочной дамбы.
Все это Роланд Грейм успел разглядеть, пока они шли по извилистой дорожке, с которой временами, то с одной, то с другой стороны, открывался вид на здание.
– Если мы направляемся в этот дом, – сказал он своей названой матери, – то я надеюсь, что задержимся мы там недолго. Поглядеть на него, так кажется, что достаточно двух дождливых дней при северо-восточном ветре, и он весь обрушится в реку.
– Ты смотришь на это земными глазами, – ответила старуха. – Господь охранит Свое достояние – пусть оно будет даже заброшено и пренебрегаемо людьми. Лучше оставаться на зыбучем песке, уповая на покровительство Божье, нежели искать спасения на скале, надеясь лишь на земные силы.
Пока она произносила эту тираду, они вступили во двор перед домом, и Роланд увидел, что фасад старинного здания прежде был богато украшен резьбой по тому же темно-красному камню, из которого оно было сложено. Но все украшения были сломаны и разрушены, а на тех местах, где некогда были ниши и карнизы, видны были только их случайно уцелевшие части. Большой парадный вход посредине был заложен каменной кладкой, но по узенькой тропинке, которой, видимо, пользова
Страница 48
ись не часто, можно было пройти к низкому боковому входу, защищенному дверью с толстыми железными заклепками; в нее-то и постучалась троекратно Мэгделин Грейм, пережидая после каждого удара, пока наконец за дверью не послышался шорох. Когда она постучала в третий раз, дверь открылась, и на пороге появилась бледная худая женщина, которая произнесла:– Benedicti qui veniunt in nomine Domini[11 - Благословенны грядущие во имя Господне (лат.).].
Они вошли, и впустившая их особа, поспешно закрыв за ними дверь, вновь задвинула предохранявшие ее массивные засовы. Затем она провела их по узкому коридору в довольно просторные сени с каменным полом и расставленными вдоль стен скамьями, тоже высеченными из камня. В верхней части одной из стен было расположено большое окно, но промежутки между некоторыми из стоявших здесь каменных столбов были загорожены, так что, в общем, помещение выглядело весьма мрачно.
Здесь они остановились, и хозяйка дома – ибо это была она – обняла Мэгделин Грейм и, назвав ее своей сестрой, весьма торжественно поцеловала в обе щеки.
– Да благословит тебя Пресвятая Дева, сестра моя, – произнесла она вслед за тем, и после этих слов Роланду уже не приходилось сомневаться относительно религии владелицы усадьбы, даже если бы он допускал, что его почтенная и благочестивая руководительница может остановиться в доме, не принадлежащем правоверным католикам. Женщины о чем-то тихо заговорили между собой, и пока длилась их недолгая беседа, Роланд смог получше разглядеть внешность приятельницы своей бабушки.
На вид ей было за пятьдесят; выражение грусти и недовольства, близкого к досаде, было на ее лице, и это мешало сразу увидеть на нем следы былой красоты, которых еще не стерли годы. Она была одета весьма скромно: на ней было темное платье, напоминавшее, как и платье Мэгделин Грейм, монашеское одеяние. Тщательная опрятность ее внешности, весь ее подтянутый и аккуратный вид, казалось, говорили о том, что, несмотря на бедность, она не пала духом и не опустилась, настолько сохранив еще привязанность к жизни, чтобы не утратить желания выглядеть достойно, хотя уже отнюдь не изысканно. Ее манеры, лицо, весь ее облик убедительно свидетельствовали о том, что эта бедная одежда далеко не соответствует ее рождению и воспитанию. Короче говоря, все в этой женщине наводило на мысль, что у нее за плечами должна быть полная необычайных событий жизнь. Роланд Грейм стал размышлять на эту тему, но тут как раз женщины перестали шептаться, а хозяйка дома, подойдя к нему, принялась внимательно, и даже не без любопытства, разглядывать его с головы до ног.
– Так, значит, – сказала она, обращаясь к его пожилой родственнице, – этот мальчик и есть дитя твоей несчастной дочери, сестра Мэгделин? И его, единственного наследника вашего старинного рода, ты хочешь посвятить нашему праведному делу?
– Да, клянусь распятием, – ответила Мэгделин Грейм в своем обычном непреклонном, решительном тоне, – я посвящаю его нашему праведному делу, и пусть он целиком принадлежит ему: плотью и кровью, каждой жилочкой и каждым суставом, всем телом и всей душой!
– Ты счастлива, сестра Мэгделин, – отозвалась ее подруга, – ибо настолько высоко поднялась над земными чувствами и привязанностями, что можешь принести на алтарь такую жертву. Будь я призвана совершить подобное жертвоприношение – толкнуть столь юное и прекрасное существо в самую гущу заговоров и кровавых событий нашего времени, то, выполняя Божью волю, я бы печалилась об этом больше, чем патриарх Авраам, когда он возводил на вершину горы своего сына Исаака[73 - …я бы печалилась об этом больше, чем патриарх Авраам, когда он возводил на вершину горы своего сына Исаака. – В Библии рассказывается о том, как Бог повелел Аврааму принести в жертву его единственного сына Исаака. Когда Авраам уже занес нож над Исааком, руку его удержал посланный Богом ангел.].
Она продолжала упорно смотреть на него с горестным и сочувствующим видом, и в конце концов от ее испытующего взгляда лицо Роланда залилось румянцем; он хотел уже было отойти в сторону, чтобы не чувствовать на себе этих глаз, но бабушка одной рукой удержала его, а другой, отбросив его волосы с пунцового от смущения лба, произнесла слова, в которых звучали любовь и гордость, но вместе с тем и непоколебимая решимость:
– Посмотри-ка на него хорошенько, сестрица. Ведь правда, тебе никогда не приходилось видеть более прекрасного лица? И во мне тоже, когда я впервые увидела его после долгой разлуки, шевельнулись чувства, присущие простым смертным, и я поколебалась было в своем намерении. Но никакой ветер не сорвет и единого листа с иссохшего древа, давно уже лишенного листвы, и никакая земная утрата не пробудит мирских чувств, давно усыпленных любовью к Господу.
Во время этой речи старуха сама опровергла собственные утверждения, ибо на глазах у нее показались слезы, и тогда она добавила:
– Но не правда ли, сестра моя, чем прекрасней, чем чище жертва, тем более она угодна Богу?
Казалось, она освободилась от волновавших
Страница 49
ее чувств и испытала облегчение, произнеся:– Он избежит опасности, сестра; в чаще изловят овна, и наши восставшие братья не обрекут на погибель младого Иосифа. Господь умеет отстаивать Свои права – даже с помощью несмышленых детей и младенцев, женщин и безбородых юнцов.
– Господь покинул нас, – сказала другая, – за наши грехи и грехи наших отцов святые угодники отреклись от покровительства этой проклятой стране. Нас ждут тернии мучеников, а не лавры победителей. Еще один из наших, чья мудрость среди всех этих глубоких потрясений была столь необходима нам, отошел в лучший мир: нет больше отца Евстафия.
– Господи, помилуй душу его! – произнесла Мэгделин Грейм. – Помилуй и нас, грешных, еще оставшихся жить в этой залитой кровью стране! Смерть аббата поистине тяжелый удар для нашего дела: кто из живущих отличается такой же безграничной опытностью, такой же самозабвенной преданностью Господу, такой же высокой мудростью, такой же неустрашимой отвагой? Он пал как знаменосец церкви, но по воле Господа встанет другой боец и вновь поднимет святую хоругвь. Кого избрал капитул[74 - Капитул – общее собрание членов какого-либо ордена, в данном случае – монахов монастыря Святой Марии.] на его место?
– Ходят слухи, что ни один из немногих еще остающихся братьев не осмеливается вступить в эту должность. Еретики поклялись, что не допустят новых выборов, и грозят жестоким наказанием за всякую попытку назначить кого-либо аббатом монастыря Святой Марии. Conjuraverunt inter se principes, dicentes, Projiciamus laqueos ejus[12 - Сговорились между собой князья: «Накинем петлю» (лат.).].
– Quousque, Domine![13 - Доколе, о Господи! (лат.)] – воскликнула Мэгделин Грейм. – Это, сестрица, нанесло бы поистине ужасный, непоправимый ущерб нашему делу; но я твердо верю, что преемник аббата Евстафия, столь несвоевременно ушедшего от нас, будет найден. Где дочь твоя Кэтрин?
– Она в гостиной, – ответила хозяйка дома, – но…
Тут она посмотрела на Роланда Грейма и прошептала что-то на ухо своей приятельнице.
– Не бойся этого, – ответила Мэгделин Грейм. – Это вполне оправданный и необходимый шаг. Не опасайся ничего со стороны Роланда: я хотела бы, чтобы он был так же непоколебим в своей вере, которая одна только и может оборонить человека от опасностей, насколько он чужд всякой низости в своих мыслях, поступках и речах. В этом отношении нужно отдать должное выучке еретиков: они воспитывают свою молодежь в строгой нравственности и пресекают любые проявления юношеского безрассудства.
– Это все равно что сосуды, начищенные только снаружи, – заметила ее собеседница, – гробы повапленные. Но пускай он увидит Кэтрин, поелику ты, сестра моя, считаешь это безопасным и благопристойным. Следуй за нами, юноша, – добавила она и вместе со своей приятельницей направилась из сеней в комнаты. Это были единственные слова, сказанные на протяжении всей беседы хозяйкой Роланду Грейму, который молча повиновался. Пока они неторопливым шагом проходили по узким коридорам и пересекали обширные залы, юный паж имел возможность обдумать свое положение, которое, при его пылком воображении, не могло не показаться ему чрезвычайно неприятным.
Теперь у него, по-видимому, появились две повелительницы, или опекунши, вместо одной, две старухи, твердо намеревавшиеся вдвоем руководить им по своей воле ради осуществления планов, в составлении которых он не принимал никакого участия. «Это уж слишком», – думал он, выдвигая мысленно тот убедительный довод, что если его бабушка, она же его благодетельница, и имеет какое-то право руководить им, то, уж во всяком случае, не уполномочена передавать свои права или делить их с приятельницей, которая, как уже можно было судить, бесцеремонно усвоила себе в обращении с ним такой же властный, не терпящий возражений тон.
«Но долго так продолжаться не будет, – подумал он. – Я не стану всю свою жизнь подчиняться свистку женщины: являться по ее зову и отправляться, куда она велит. Нет, клянусь святым Андреем! Рука, умеющая держать копье, не может быть подвластна прялке. При первой возможности я улизну от них и оставлю их с носом: пусть осуществляют свои замыслы собственными силами. Это может отвратить от них обеих большую опасность, ибо, как я догадываюсь, задуманное ими отнюдь не является безопасным и легким делом: граф Мерри и его ересь пустили слишком глубокие корни, чтобы их могли выкорчевать две старые женщины».
К тому времени, когда он принял свое решение, они вошли в невысокую комнату, где находилось еще одно существо женского пола. Тогда как все предыдущие помещения, через которые провели Роланда, были пусты, в этой комнате имелись кое-какие предметы обстановки: здесь стояли стулья и деревянный стол, покрытый куском гобелена. Пол был устлан ковром, в камине была решетка – короче говоря, помещение имело жилой вид и действительно было обитаемо.
Но глаза Роланда вскоре нашли для себя более приятное занятие, нежели рассматривание комнатной обстановки, поскольку вторая обитательница этого дома резко отличалась о
Страница 50
всего, что он уже успел здесь увидеть.В момент его появления она молча приветствовала глубоким реверансом обеих пожилых особ, а затем, бросив беглый взгляд на Роланда, взялась рукой за спадавшую ей на плечи вуаль и прикрыла ею лицо; она проделала это с должной скромностью, но при этом не выказала ни чрезмерной поспешности, ни особого смущения.
Пока она делала это движение, Роланд успел разглядеть личико молоденькой девушки, по-видимому лет шестнадцати или чуть постарше, и заметить, что взор у нее нежный и сияющий. К этим весьма приятным наблюдениям присоединилась уверенность, что их прелестный объект обладает великолепным сложением (возможно, с некоторой склонностью к embonpoint[14 - Полноте (фр.).] и потому скорее напоминающим формы Гебы, нежели сильфиды, но изящным и пропорциональным); это последнее обстоятельство выгодно подчеркивалось облегающим жакетом и сшитой по заграничной моде юбкой, не настолько длинной, чтобы совсем скрыть очаровательную ножку, которую ее обладательница, сидевшая у стола, поставила на одну из его перекладин. Ее пухленькие ручки с тонкими пальчиками усердно занимались починкой лежавшей на столе гобеленовой материи, на которой было несколько серьезных повреждений – таких, что для их устранения требовалось мастерство искуснейшей швеи.
Надо заметить, что Роланду удалось рассмотреть все эти любопытные подробности, потому что он украдкой бросал взгляды в ее сторону, причем один или два раза ему показалось, что сквозь ткань вуали он уловил взгляд девушки, которая была занята тем же делом, что и он, то есть внимательно изучала его собственную персону. Между тем их пожилые родственницы продолжали свою беседу, время от времени вскидывая глаза на молодых людей, из чего Роланду стало ясно, что именно они-то и составляют предмет этой беседы. Наконец он отчетливо услышал, как Мэгделин Грейм произнесла:
– Нет, сестра моя, мы должны дать им возможность поговорить и познакомиться; они должны лично знать друг друга, а иначе – как смогут они выполнить то, что им поручается?
Очевидно, хозяйка дома, не вполне убежденная доводами своей приятельницы, продолжала представлять какие-то возражения; однако та, как личность более властная, решительно их отвергла.
– Так надо, дорогая сестра, – сказала Мэгделин, – поэтому выйдем на балкон и там закончим нашу беседу. А вы, – обратилась она к Роланду и девушке, – познакомьтесь друг с другом.
С этими словами она подошла к юной особе и откинула вуаль с ее лица, которое, возможно, обычно было более бледным, но сейчас все было залито густым румянцем.
– Licitum sit[15 - Да будет дозволено (лат.).], – сказала она, обращаясь к хозяйке дома.
– Vix licitum[16 - Дозволено по необходимости (лат.).], – отозвалась та, давая свое согласие, но с явной неохотой и внутренним сопротивлением, и тут же снова набросила вуаль на лицо девушки, так, чтобы оно оставалось затененным, если и не совсем закрытым. При этом она шепнула девушке несколько слов, которые, однако, были произнесены настолько громко, что паж мог услыхать их:
– Помни, Кэтрин, кто ты и для какой судьбы ты предназначена.
Затем она вместе с Мэгделин вышла из комнаты через одно из доходящих почти до полу высоких окон на большой, просторный балкон с массивной балюстрадой, который когда-то тянулся вдоль всей южной стороны здания, обращенной к речке, и был приятным и удобным местом для прогулок на свежем воздухе. Теперь на нем отсутствовали целые куски балюстрады, кое-где он был обломан и стал значительно уже, но, несмотря на разрушения, по нему еще можно было прогуливаться не без приятности. Здесь и прохаживались медленным шагом две пожилые дамы, занятые каким-то своим разговором, но, видимо, не полностью поглощенные им, ибо, как отметил про себя Роланд, всякий раз, когда их тощие фигуры то с одной, то с другой стороны появлялись перед окном, затемняя в нем свет, они заглядывали в комнату, интересуясь тем, как там обстоят дела.
Глава XI
У жизни есть ее веселый май.
Поют леса, цветы благоухают, –
И даже непогода веселит;
И девушки, закутавшись в плащи,
Чтоб не промокнуть под весенним ливнем,
Хохочут – им смешно, что дождик льется.
Старинная пьеса
Кэтрин отличалась свойственными ее счастливому возрасту неопытностью и жизнерадостностью, и поэтому, когда прошел первый момент смущения, ей вдруг показалось весьма забавным то неловкое положение, в котором она очутилась, оставшись с глазу на глаз с красивым молодым человеком для того, чтобы познакомиться, хотя ей было неизвестно его имя. Она сидела за столом, устремив свои прекрасные глаза на работу, которой была занята, и сохраняла чрезвычайную серьезность, пока старухи вторично не появились перед окном. Однако затем ее глубокие синие глаза на мгновение обратились к Роланду; и, заметив смущение юноши, который, совершенно растерявшись, ерзал на стуле и теребил свою шляпу, решительно не зная, как начать разговор, она не могла сдержать себя и вдруг с полнейшей непосредственностью и от всей души расхохоталась
Страница 51
При этом ее глаза, сияя сквозь выступившие от хохота слезы, тоже весело смеялись; ее тяжелые косы покачивались, и весь облик Кэтрин дышал такой прелестью, какой могла бы позавидовать сама богиня смеха. Всякий придворный паж тут же разделил бы с ней ее веселье, но Роланд воспитывался в сельской обстановке и к тому же, будучи несколько подозрителен и застенчив, вообразил, что причиной неудержимого смеха Кэтрин является он сам. Поэтому, сделав попытку подладиться к заданному ею тону, он смог ответить только натянутым смешком, в котором скорее слышалось недовольство, чем веселье, отчего девушка стала хохотать еще пуще, так что, казалось, ей уж никогда не остановиться, как бы она ни старалась побороть себя. Каждому человеку известно по собственному опыту, что когда смех нападает не вовремя и в неподобающих обстоятельствах, все попытки подавить его – и даже самое сознание его неуместности – ведут только к усилению и затяжке непреодолимого хохота.Несомненно, Кэтрин, как и Роланду, было на пользу то, что он вместе с ней не впал в такую же чрезмерную веселость. Дело в том, что Кэтрин сидела спиной к окну, и ей нетрудно было ускользнуть от наблюдения старух, гулявших по балкону, тогда как Роланд сидел так, что через окно он был виден в профиль; его веселость, раздели он ее с Кэтрин, сразу же была бы замечена, и обе вышеупомянутые особы, конечно, почувствовали бы себя оскорбленными. Он, однако, с некоторым нетерпением пережидал, пока у Кэтрин не истощатся силы или не пропадет желание смеяться, и когда она с милой улыбкой снова взялась за иголку, он довольно сухо заметил, что, пожалуй, нет надобности советовать поближе познакомиться друг с другом, поскольку они, очевидно, и так уже довольно-таки хорошо знакомы. Кэтрин испытывала сильное желание вновь разразиться хохотом, но усилием воли сдержалась и не поднимая глаз от шитья, в ответ попросила извинить ее, пообещав, что впредь не позволит себе ничего оскорбительного.
Роланд был достаточно чуток, чтобы понять, насколько нелепо сейчас было бы разыгрывать оскорбленное достоинство; он сообразил также, что ему нужно решительно изменить свое поведение, если он хочет снова увидеть эти бездонные синие глаза, которые произвели на него столь сильное впечатление, когда девушка, смеясь, смотрела ему в лицо. Поэтому он попытался, как умел, загладить свою оплошность, заговорив подходящим к случаю оживленным тоном, и осведомился у прелестной феи, «с чего ей угодно приступить к более обстоятельному взаимному знакомству, которое так весело началось».
– Об этом, – ответила она, – вы должны догадаться сами; может быть, я зашла немного дальше, чем следовало, поскольку первая начала разговор.
– А что, если мы начнем с того же, – сказал Роланд Грейм, – с чего начинаются все повести в книгах: назовем друг другу наши имена и расскажем кое-что о себе?
– Недурно придумано, – заметила Кэтрин, – и свидетельствует о проницательности вашего ума. Итак, начинайте вы, а я буду слушать и лишь задам вопросик-другой, если в вашем рассказе для меня будет что-нибудь неясно. Откройте ваше имя и расскажите мне о себе, мой новый знакомый.
– Меня зовут Роланд Грейм, а эта высокая пожилая женщина – моя бабушка.
– И ваша опекунша? Так, так. А кто ваши родители?
– Их обоих нет в живых, – ответил Роланд.
– Но кто они были? Ведь были же у вас родители, я полагаю.
– Да, по-видимому, – сказал Роланд, – но мне никогда не удавалось узнать о них поподробнее. Отец мой был шотландский рыцарь, он погиб смертью храбрых, не покидая седла. Моя мать принадлежала к роду Греймов Хезергилских со Спорной земли. Почти вся ее родня была убита, когда лорд Максуэл Хэррис Керлеврок[75 - Керлеврок Максуэл Хэррис (1512?–1583) – лорд, один из влиятельнейших шотландских вельмож того времени. Вначале примыкал к Реформации, был другом Нокса, потом перешел на сторону Марии Стюарт и оставался верен ей до конца.] выжег дотла Спорную землю.
– Это было давно? – спросила девушка.
– Еще до моего рождения, – ответил паж.
– Значит, с тех пор прошло немало времени, – сказала она, с серьезным видом покачав головой. – Не взыщите, я не могу оплакивать их.
– И не нужно, – сказал юноша, – они умерли с честью.
– Ну, довольно толковать о вашей родословной, любезный сэр, – отозвалась его собеседница. – Живущая ныне представительница вашего рода (тут она бросила взгляд на окно) нравится мне куда меньше, чем те, кого уже нет в живых. Поглядеть на вашу почтеннейшую бабушку, так можно предположить, что она хоть кого заставит плакать горючими слезами. А теперь, любезный сэр, рассказывайте о самом себе, но если вы не будете говорить побыстрее, ваш рассказ прервут на середине. Матушка Бриджет все дольше и дольше задерживается у окна, а в ее обществе так же весело, как в склепе ваших предков.
– Моя сказка скоро сказывается: я попал в замок Эвенелов и стал пажом хозяйки замка.
– Она ведь ревностная гугенотка[76 - Она ведь ревностная гугенотка… – Гугенотами назывались швейцарские и французские протестанты-кальвинисты
Страница 52
Наименование это перешло также в Англию и Шотландию.], не правда ли? – заметила девушка.– Не менее ревностная, чем сам Кальвин. Но моя бабушка умеет изобразить из себя пуританку, когда это ей нужно для чего-либо, а у нее тогда был план – устроить меня в замке. Он, однако, не осуществился бы, хотя мы и провели несколько недель в соседней деревушке, если бы на сцене не появился неожиданный церемониймейстер.
– А кто это был? – спросила девушка.
– Большая черная собака по имени Волк, которая в один прекрасный день притащила меня в замок в зубах, как подбитую дикую утку, и преподнесла госпоже.
– Поистине весьма достойный способ попадать в дом, – сказала Кэтрин. – А чему вы смогли научиться в этом самом замке? Мне всегда очень интересно знать, что мои знакомые умеют делать в случае необходимости.
– Гонять сокола, травить собаками зверя, сидеть в седле, владеть копьем, мечом и луком.
– И хвастаться всем тем, чему выучились, – прервала его Кэтрин. – Во Франции, по крайней мере, это считается высшим достоинством пажа. Ну, продолжайте, любезный сэр. Как могли ваш хозяин-гугенот и ваша хозяйка, не в меньшей степени гугенотка, принять в свой дом и держать при себе столь опасную личность, как паж-католик?
– Так получилось потому, что они не знали этого обстоятельства моей жизни, которое меня учили держать в тайне с самого раннего детства, а также потому, что бабушка перед этим усердно посещала проповеди их капеллана-еретика и усыпила всякие подозрения, любезнейшая Каллиполис[77 - …любезнейшая Каллиполис… – Каллиполис – жена мавританского короля в трагедии Д. Пиля «Битва при Алькасаре» (1591). Это имя употреблялось в нарицательном смысле как обращение к возлюбленной.], – сказал паж и пододвинул свой стул поближе к прелестной собеседнице, учинившей ему этот допрос.
– Нет, нет, держитесь на прежнем расстоянии, достойнейший сэр, – ответила синеокая дева, – ибо, насколько я понимаю, эти почтенные дамы прервут нашу дружескую беседу, как только им покажется, что знакомство, состоявшееся по их желанию, переходит положенные границы. Поэтому соблаговолите, сэр, оставаться там, где вы сидели, и оттуда отвечайте на мои вопросы. Какие доблестные поступки совершены вами благодаря тем качествам пажа, которые вам столь счастливо удалось приобрести?
Роланд уже начал приспосабливаться к тону Кэтрин и ее манере вести разговор; он ответил ей в том же духе:
– Не было таких славных деяний из числа приносящих вред, благородная барышня, в свершении которых я не отличился бы. Я подстреливал лебедей, гонялся за кошками, пугал служанок, охотился на оленя и воровал яблоки в саду. О том, что я всячески изводил капеллана, я уж не говорю, потому что я рассматривал это как долг доброго католика.
– Так вот, раз я благородная барышня, – сказала Кэтрин, – я смею предположить, что эти еретики несли католическую епитимью, держа при себе столь разносторонне образованного слугу. А какой же несчастный случай, любезный сэр, мог лишить их общества такого драгоценного домочадца?
– Воистину, благородная барышня, – ответил юный паж, – верна поговорка, что у самой длинной дорожки есть поворот. Нашелся он и у моей дорожки, но это был, так сказать, «от ворот поворот».
– Браво! – воскликнула насмешливая девушка. – Удачный каламбур. Так по какой же причине разразилась столь ужасная катастрофа? Только не начинайте растолковывать мне все подробно, как ученице, я уже обученная. Скажите в двух словах – за что вас уволили со службы?
Пожав плечами, Роланд ответил:
– Короткая сказка скоро сказывается, только начал – глядишь, и конец. Я познакомил помощника сокольничего с моим хлыстом, а сокольничий, в свою очередь, пригрозил помять мне кости дубиной. Он – славный старик, толстый и добрый, и нет человека во всем христианском мире, которому я охотнее дал бы себя отдубасить; да только тогда я еще не знал его достоинств и потому пригрозил всадить в него кинжал, а леди велела мне убираться вон, и пришлось мне распрощаться с должностью пажа в прекрасном замке Эвенелов, но не успел я еще далеко уйти, как встретил свою почтенную родственницу. А теперь начинайте ваш рассказ, благородная барышня, мой – окончен.
– Счастливая бабушка! – воскликнула Кэтрин. – Изловила заблудшего пажа сразу же, как только хозяйка спустила его с поводка. И как счастлив должен быть паж, который, перестав быть пажом, тотчас превратился в человека для услуг при пожилой леди!
– Все это не имеет касательства к вашей истории, – возразил Роланд Грейм, которого уже начала сильно занимать живость характера этой барышни с острым язычком. – Рассказ за рассказ – таков неписаный закон всех, кто путешествует вместе.
– Ну, так погодите до тех пор, пока мы не начнем вместе путешествовать, – ответила Кэтрин.
– Э, нет, так легко вы от меня не отделаетесь, – сказал паж. – Если вы не будете поступать со мной по справедливости, я призову сюда госпожу Бриджет, или как там ее зовут, и нажалуюсь, что вы меня обманули.
– В этом не будет нужды, – ответила девушка. – Моя и
Страница 53
тория в точности совпадает с вашей. Ее можно рассказать почти теми же самыми словами, достаточно лишь заменить имя и поменять мужское платье на женское. Меня зовут Кэтрин Ситон, и я тоже сирота.– И давно умерли ваши родители?
– Этот вопрос, – сказала она, опустив свои прекрасные глаза, вдруг ставшие печальными, – единственный, который не может вызвать у меня смеха.
– А госпожа Бриджет – ваша бабушка?
Подобно тому, как исчезает облачко, набежавшее на летнее солнце, так исчезла с ее лица грусть, и с обычной для нее живостью она ответила:
– В двадцать раз хуже, госпожа Бриджет – моя тетка и к тому же – старая дева.
– Господь спаси и помилуй! – воскликнул Роланд. – Как печален ваш рассказ! Какие же еще ужасы последуют за этим?
– В точности такая же история, как и ваша. Меня взяли на службу, положив мне испытательный срок…
– И дали отставку за то, что вы ущипнули дуэнью или оскорбили камеристку миледи?
– Нет, здесь наши пути расходятся: моя госпожа распустила свой штат, или, вернее, штат ее сам разбежался, что, впрочем, дела не меняет. Во всяком случае, теперь я свободна и живу как истинное дитя леса.
– И я этому так рад, как если бы мой колет был подбит чистым золотом, – сказал юноша.
– Благодарю вас за то, что вы так радуетесь, только не вижу, какое отношение это имеет к вам.
– Неважно, продолжайте рассказывать, – воскликнул паж, – потому что скоро вас прервут: почтенные дамы уже довольно давно бродят по балкону, каркая там, как вороны. Дело идет к вечеру, их карканье становится все более хриплым, и скоро им надоест там кружиться и захочется вернуться в гнездо. Так кто же такая была ваша госпожа, как ее имя?
– Имя ее хорошо известно повсюду, – ответила Кэтрин Ситон. – Редкая леди имеет такой богатый дом и столько же благородных дам в своем штате; моя тетушка, госпожа Бриджет, была одной из ее домоправительниц. Правда, мы никогда не видели лица нашей госпожи, но немало слышали о ней. Мы вставали рано, а ложились поздно, питались скудно, но зато много молились.
– И как только не стыдно было старой ведьме так скаредничать! – с сердцем сказал паж.
– Ради всего святого, не богохульствуйте! – воскликнула девушка с выражением страха на лице. – Господи, прости обоих нас! Я не имела в виду ничего дурного. Я называла своей госпожой святую Екатерину Сиенскую[78 - Екатерина Сиенская (1347–1374) – итальянская монахиня и церковная деятельница, причисленная в XV в. к лику святых.] – да простит меня Господь за мои легкомысленные слова и за то, что я позволила вам совершить великий грех богохульства. Этот дом был раньше монастырем Святой Екатерины, здесь жили двенадцать монахинь и аббатиса. Аббатисой была моя тетка – пока еретики не выгнали всех отсюда.
– А где теперь ваши сестры-монахини?
– А где прошлогодний снег? – отозвалась Кэтрин. – Они где угодно – на востоке, на севере, на юге, на западе, кто – во Франции, кто – во Фландрии… Боюсь даже, что некоторые – снова в миру и вкушают земные радости. Нам позволили остаться здесь, вернее – не помешали, потому что моя тетка имеет могущественных родственников среди Керров[79 - Керры – один из наиболее влиятельных шотландских кланов.], а они пригрозили жестоко отомстить всякому, кто только посмеет нас тронуть. В наши дни ведь нет лучшей защиты, чем лук и копье.
– Ну, в таком случае вы под надежным крылышком, – сказал юноша. – Могу себе представить, что вы немало наплакались, когда святая Екатерина распустила свой штат, прежде чем вы стали получать жалованье за свою службу.
– Замолчите вы, бога ради, – сказала девушка и при этом перекрестилась. – Ни слова больше! Как я ни плакала, а глаз не выплакала, – прибавила она, обратив взор к Роланду, а затем снова устремив его на работу. Это был один из тех взглядов, против которых сердце могло бы устоять, только если бы оно было заковано в тройную медную броню, более крепкую, чем та, которая, по мнению Горация, необходима морякам[80 - …сердце могло бы устоять, только если бы оно было заковано в тройную медную броню, более крепкую, чем та, которая, по мнению Горация, необходима морякам. – Имеется в виду ода третья из I книги «Од» Горация.]. У нашего юного пажа не было решительно никакой защиты.
– Как смотрите вы, Кэтрин, – сказал он, – на то, если бы мы с вами, столь удивительным образом одновременно отставленные от службы, поручили нашим двум почтенным дуэньям нести факел, а сами отправились вместе прогуляться по белу свету?
– Вот поистине замечательное предложение! – сказала Кэтрин. – Оно только и могло родиться в сумасбродной голове разжалованного пажа. А какие хитроумные способы добывать средства к жизни могла бы предложить ваша милость? Петь баллады, срезать кошельки или разбойничать на большой дороге? Ни из каких других источников, я полагаю, вы не сможете извлекать себе доход.
– Ну что же, воля ваша, гордячка вы этакая, – пренебрежительно ответил паж, выказывая свое полное безразличие к тому, что его дикое предложение было встречено весьма спокойно и открыто высмеяно.
Страница 54
В тот момент, когда он произносил эти слова, за окном снова выросли фигуры обеих старух. Окно открылось, и Мэгделин Грейм вместе с матерью-аббатисой (так должны мы теперь называть госпожу Бриджет) вошла вкомнату.
Глава XII
Послушай, брат, я старше, умудренней
И праведней тебя, – а возраст, мудрость
И праведность – источник прав высоких:
Почтительности требуют они.
Старинная пьеса
Когда старухи вернулись, положив этим конец описанному нами в предыдущей главе разговору, почтенная Мэгделин Грейм обратилась к своему внуку и его прелестной собеседнице со следующими словами:
– Ну как, поговорили, дети мои? Хорошо ли вы познакомились друг с другом, постарались ли, вступая вместе на неизведанную, ненадежную дорогу, как попутчики, которых сводит случай, получше узнать характер и наклонности друг друга, дабы представлять себе, с кем каждому из вас придется делить все опасности пути?
Смешливой Кэтрин трудно было удержаться от шуточек даже в тех случаях, когда ей лучше было бы помолчать.
– Ваш внук, – сказала она, – в таком восторге от замышляемого вами путешествия, что собрался отправиться немедленно.
– Это было бы уж слишком поспешно, Роланд, – сказала Мэгделин внуку. – А еще вчера ты был слишком нетороплив. Золотая середина достигается только послушанием, а это значит – ждать сигнала к действию и подчиняться, когда он дан. Но, снова спрашиваю вас, дети мои, достаточно ли пытливо вгляделись вы в лица друг друга, чтобы при любом переодевании, которое может оказаться необходимым в тех или иных обстоятельствах, каждый из вас мог опознать в другом тайного посланца того могущественного союза, к которому вы оба отныне приобщаетесь? Смотрите же еще, изучите лица друг друга вплоть до малейшей черточки. Научитесь каждый по походке, по голосу, по движению руки, по случайно брошенному взгляду узнавать сотоварища, посланного Господом вам в помощь для осуществления Его воли. Узнаешь ты эту девушку в любом месте и во всякое время, мой Роланд?
Роланд без запинки и с полной искренностью ответил в утвердительном смысле.
– А ты, дочь моя, хорошо ли будешь помнить черты этого юноши?
– Право же, матушка, – ответила Кэтрин Ситон, – я не так много видела мужчин за последнее время, чтобы сразу же забыть, как выглядит ваш внук, хотя и не заметила в нем ничего такого, что стоило бы запомнить.
– А теперь соедините руки, дети мои, – снова заговорила Мэгделин Грейм, но тут ее прервала аббатиса, которая в силу своих монастырских предрассудков во время этой сцены проявляла признаки возрастающего беспокойства и наконец не смогла больше мириться с происходящим.
– Нет, нет, возлюбленная сестра моя, – сказала она Мэгделин, – ты забываешь, что Кэтрин – обрученная Божья невеста; такая фамильярность недопустима.
– Так вот, по Божьему повелению я и приказываю им обняться! – прогремел голос Мэгделин во всю свою могучую силу. – Наша цель, сестра, освящает средства, к которым мы должны прибегать.
– Все, кто обращается ко мне, именуют меня госпожой аббатисой или, по крайней мере, матерью, – сказала, вскинув голову, леди Бриджет, явно оскорбленная властным поведением своей приятельницы. – Леди Хезергил забывает, что говорит с аббатисой монастыря Святой Екатерины.
– Когда я именовалась так, как сейчас ты назвала меня, – ответила Мэгделин Грейм, – ты действительно была аббатисой монастыря Святой Екатерины, но оба эти звания ушли в прошлое вместе с тем положением в миру и в схиме, которое было с ними связано; теперь в глазах людей мы с тобой обе – всего лишь нищие, презираемые, сломленные судьбой старухи, обреченные влачить в бесчестье остаток своих дней, пока нас не скроет безвестная могила. Но кем являемся мы в очах Господа? Его посланницами, отряженными для исполнения Его воли: через нас, слабых женщин, должна проявить себя сила церкви; перед нами должны склониться в унижении и мудрость Мерри, и мрачная сила Мортона. Так нам ли быть во власти жестких правил замкнутой монастырской жизни? И, наконец, разве ты забыла о показанном мною тебе предписании твоего церковного начальства подчиняться мне в этих делах?
– В таком случае пусть позор и грех падут на твою голову, – угрюмо произнесла аббатиса.
– Пусть будет так, принимаю их на себя, – сказала Мэгделин. – Обнимитесь же, дети мои.
Но Кэтрин, по-видимому догадываясь, чем может закончиться этот спор, успела выскользнуть из комнаты, разочаровав внука в такой же, если не в большей степени, как и его бабушку.
– Она пошла принести чего-нибудь съестного, – сказала аббатиса. – Но наша еда вряд ли особенно придется по вкусу мирянам, ибо как угодно, но я не могу отказываться от правил, следовать которым я дала обет, только потому, что злодеи пожелали разрушить святую обитель, где эти правила издавна соблюдались.
– Справедливо, сестра моя, – возразила ей Мэгделин, – отдавать церкви тмин и мяту точно в меру причитающейся ей десятины[81 - … отдавать церкви тмин и мяту точно в меру причитающейся ей десятины… – слегка перефразированная цитат
Страница 55
из Евангелия от Матфея (гл. XXIII).], и я не осуждаю тебя за строгое соблюдение правил твоего ордена. Но они были установлены церковью и ради блага церкви и не должны быть помехой, когда дело идет о спасении церкви.Аббатиса не промолвила в ответ ни слова.
Кто-нибудь лучше знающий человеческую природу, чем неопытный паж, мог бы позабавиться, сравнив два рода фанатизма, которым отличались эти женщины. Аббатиса, робкая, ограниченная и полная недовольства, цеплялась за старинные обычаи и привилегии, которым положила конец Реформация; в несчастье, так же как некогда в благополучии, она оставалась мелочной, малодушной и склонной к ханжеству. Напротив, для неистового и более возвышенного духа ее единомышленницы требовалось более широкое поле деятельности; она не могла ограничивать себя обычными правилами, стремясь к осуществлению тех необычайных проектов, которые ей подсказывало смелое, пылкое воображение. Но Роланду Грейму было не до того, чтобы сопоставлять характеры обеих старух: он с нетерпением ждал возвращения Кэтрин, возможно надеясь, что им снова будет предложено по-братски обняться, поскольку его бабушка, видимо, взялась распоряжаться делами по своему усмотрению.
Его ожидания – или надежды, если позволено так выразиться, – были, однако, обмануты, ибо, когда Кэтрин, позванная аббатисой, вернулась в комнату, принеся с собой и поставив на стол глиняный кувшин с водой, а также деревянные тарелки и чашки по числу присутствующих, госпожа Хезергил, удовлетворенная тем, что ей удалось так решительно подавить сопротивление аббатисы, не стала добиваться вящих доказательств своей победы, проявив этим умеренность, за которую ее внук в глубине души едва ли был ей особенно благодарен.
Тем временем Кэтрин продолжала готовить стол для скудного отшельнического ужина, состоявшего в основном из отварной капусты, которая была подана на деревянных тарелках без какой-либо приправы, кроме щепотки соли, и не сопровождалась никаким дополнительным блюдом, кроме грубого ячневого хлеба, притом в весьма ограниченном количестве. Единственным напитком за столом была вода, содержавшаяся в уже упомянутом глиняном кувшине. После молитвы, прочитанной аббатисой по-латыни, гости сели за стол и принялись за свой незамысловатый ужин.
По-видимому, обеим старухам и Кэтрин эта простая и грубая пища не казалась невкусной: они ели умеренно, однако с явным аппетитом. Но Роланд Грейм привык к лучшей еде. Сэр Хэлберт Глендининг, любивший подчеркивать, что его дом ведется на широкую ногу, как у высшей знати, поддерживал в замке дух такого радушного хлебосольства, что мог потягаться в этом даже с баронами Северной Англии. Возможно, он полагал, что, поступая таким образом, он лучше выполняет ту роль, которую ему предназначила судьба, – роль влиятельного вельможи и военачальника. Два быка и шесть баранов составляли еженедельное довольствие жителей замка, когда сам барон Эвенел был дома; оно не намного уменьшалось в отсутствие хозяина. Бочка солода шла еженедельно на варку пива, которое в доме потреблялось вволю. Хлеба пекли столько, сколько нужно было, чтобы все слуги и все люди из свиты барона наедались досыта. Вот среди какого изобилия Роланд Грейм прожил несколько лет, и сейчас сравнение с прошлым не способствовало привлекательности пресного овощного блюда и ключевой воды. Вероятно, на лице его отразилась некоторая досада, вызванная ощущением различия между прошлым и настоящим, потому что аббатиса сделала следующее замечание:
– Видно, в доме барона-еретика, которому ты долго служил, сын мой, стол пышнее, чем у страдающих дочерей церкви; и все же, скажу я тебе, даже в двунадесятые праздники, когда монахиням позволялось разделить со мной за моим столом вечернюю трапезу, самые изысканные яства, которые подавались тогда, не были для меня и вполовину столь лакомы, как сейчас эта капуста с водой; лучше мне не иметь ничего больше для своего пропитания, нежели отступить хоть на волосок от данного мною обета. Никто никогда не скажет, что я, хозяйка этого дома, учиняла здесь пиршества в мрачные времена, когда бедствия со всех сторон угрожали святой церкви, недостойной служительницей которой я являюсь.
– Ты хорошо сказала, сестра моя, – отозвалась Мэгделин Грейм, – но ныне настала пора действовать во имя праведного дела, а не только страдать за него. Ну а сейчас, когда наша паломническая трапеза окончена, мы с тобой должны пойти приготовиться к завтрашнему путешествию и обсудить, как нам лучше применить способности наших детей и какие меры следует принять, чтобы не было вреда от их легкомыслия и доверчивости.
Несмотря на тощий ужин, сердце Роланда Грейма радостно забилось при этих словах, которые позволяли рассчитывать на новый t?te-?-t?te[17 - Свидание наедине (фр.).] с прелестной послушницей. Но ему не повезло. Кэтрин, видимо, покамест не была намерена поощрять его, ибо, движимая скромностью, или капризом, или же одним из тех неизъяснимых сочетаний того и другого, которыми женщины любят дразнить и одновременно покорять грубый пол, она
Страница 56
апомнила аббатисе, что ей перед вечерней необходимо отлучиться на час, и, удостоившись в ответ от своей начальницы милостивого кивка головой, поднялась с места и направилась к выходу. Но, прежде чем выйти из комнаты, она сделала старухам реверанс, склонившись перед ними так низко, что руки ее коснулись колен; затем, оборотясь лицом к Роланду, она сделала реверанс и ему, но менее глубокий, слегка пригнувшись и отвесив небольшой поклон. Она выполнила это весьма церемонно, но молодому человеку, к которому эти знаки почтения были обращены, почудилось в ее манере какое-то насмешливо-озорное торжество по поводу постигшего его разочарования. «Черт побери эту ехидную девицу, – сказал он про себя, хотя присутствие аббатисы должно было бы удержать его от таких нечестивых мыслей. – Она жестокосерда, как хохочущая гиена, о которой рассказывается в сказках: ей хочется, чтобы она не выходила у меня из головы, по крайней мере, всю эту ночь».Обе пожилые особы тоже удалились, наказав пажу ни в коем случае не покидать стен монастыря и не подходить к окнам, поскольку, как разъяснила аббатиса, бессовестные еретики пользуются любым предлогом, чтобы опозорить монашеские ордена.
«Ну и порядки! Построже, чем у самого мистера Генри Уордена, – сказал паж самому себе, когда остался один. – Тот хоть и требовал, чтобы во время его проповедей все сидели не шелохнувшись, зато, надо отдать ему справедливость, потом позволял нам делать что угодно и порой даже принимал участие в наших развлечениях, если они казались ему вполне невинными. А от этих старух так и веет мраком, таинственностью, отрешенностью от всего мирского. Ну что ж, если мне запрещено высунуть нос за ворота или выглянуть в окошко, остается только посмотреть, нет ли внутри дома чего-нибудь любопытного; а вдруг случится так, что я встречу в каком-нибудь уголке эту самую синеглазую насмешницу».
Выйдя поэтому через дверь, противоположную той, через которую удалились старухи (ибо, как легко можно догадаться, у него не было никакого желания нарушать их уединение), он отправился бродить по комнатам опустевшего здания, с детским любопытством ища в них чего-нибудь занятного или развлекательного. Так попал он в длинный коридор, по обеим сторонам которого были расположены узкие кельи монахинь, сейчас совершенно пустые, лишенные даже той предельно скудной обстановки, которая допускалась уставом ордена.
«Птички улетели, – подумал паж, – а хуже ли им от того, что они вырвались на свежий воздух из этих сырых, тесных клеток, пускай решают между собой моя почтенная родственница и госпожа аббатиса. Но полагаю, что жаворонок, оставленный ими здесь, куда охотнее пел бы на воле, под открытым небом».
Винтовая лестница, узкая и крутая, словно нарочно сделанная для напоминания монахиням об их долге – поститься и умерщвлять плоть, вела в нижнюю анфиладу комнат, занимавшую весь первый этаж здания. Эти помещения были еще более разрушены, чем те, которые Роланд только что покинул, ибо они приняли на себя первый натиск разъяренных врагов, пришедших громить монастырь: окна были высажены, двери сорваны с петель, и даже кое-где были разрушены стены между комнатами. Переходя из одного разоренного помещения в другое, он вдруг с удивлением услышал поблизости от себя коровье мычание. Эти звуки казались здесь настолько странными и неуместными, что Роланд Грейм вздрогнул, словно услыхал львиный рык, и схватился за кинжал; но в этот момент на пороге помещения, откуда эти звуки исходили, внезапно выросла стройная, красивая фигура Кэтрин Ситон.
– Бог тебе в помощь, доблестный воин! – сказала Кэтрин. – Со времен Гая Уорика[82 - Гай Уорик – герой средневекового (XIII в.) англо-норманнского рыцарского романа, совершающий ряд подвигов (умерщвление дракона, победа в единоборстве с датчанином-великаном и пр.).] не было никого достойнее тебя, чтобы сразиться в открытом бою с дойной коровой.
– С коровой? – воскликнул Роланд Грейм. – Честное слово, я было подумал, что сам дьявол зарычал тут у меня над ухом. Слыханное ли дело, чтобы коровник помещался прямо в монастыре?
– Здесь теперь место и коровам и телятам, – ответила Кэтрин, – потому что нет больше возможности держать их где-либо снаружи. Но я советую вам, дорогой сэр, вернуться туда, откуда вы явились.
– Вернусь, но не раньше чем увижу вашу подопечную, – возразил Роланд и решительно переступил порог, несмотря на полушутливые-полусерьезные возражения девушки.
Несчастная одинокая корова – теперь единственная строгая затворница монастыря – была помещена на жительство в обширную залу, которая некогда служила трапезной. Потолок здесь был украшен крестовыми сводами, а стены – нишами со статуями святых, теперь сброшенными со своих постаментов. Эти остатки архитектурных украшений странно контрастировали с грубо сколоченными яслями, возле которых была навалена куча корма для коровы.
– Честное слово, – сказал паж, – буренушка устроилась здесь удобнее всех, истинно по-барски.
– Вам бы не мешало остаться при ней, – ответила Кэтрин, – чтобы свои
Страница 57
и сыновними заботами постараться заменить ей наследника, которого она имела несчастье потерять.– Я останусь хотя бы для того, чтобы помочь вам приготовить ей на ночь постель, прелестная Кэтрин, – сказал Роланд, хватаясь за вилы.
– Ни в коем случае, – возразила Кэтрин, – так как, во-первых, вы не имеете ни малейшего понятия о том, как нужно прислуживать ей по этой части, а во-вторых, из-за вас меня основательно распекут, чего мне и так-то предостаточно.
– Что? Распекут? За то, что вы мне позволили помочь вам? – воскликнул паж. – И не кому иному, а именно мне, тому, кто отныне становится вашим союзником в каком-то таинственном и важном деле? Но это было бы совершенно неразумно! А теперь, раз уж пришлось к слову, скажите-ка мне, – если можете, конечно, – на какое такое необычайно отважное предприятие меня прочат?
– На то, чтобы разорять птичьи гнезда, я полагаю, – ответила Кэтрин, – принимая во внимание доблести воителя, избранного нашими руководительницами.
– Честное слово, – сказал юноша, – тот, кто добрался до соколиного гнезда на Гледскрейгской скале, сделал кое-что, чем не грешно и похвастаться, дорогая сестричка. Но все это теперь позади, и пропади они пропадом, все эти гнезда и соколята вместе с их пищей – мытой или непромытой: ведь как раз из-за кормежки этих проклятых птиц я и вынужден был отправиться в дальнюю дорогу. Не встреть я вас, милая сестричка, я бы стал кусать себе локти от досады на собственное безрассудство. Но так как мы с вами попутчики…
– Сотоварищи, а не попутчики, – возразила девушка, – ибо, да будет вам известно, мы, госпожа аббатиса и я, отправляемся завтра в путь раньше, чем вы с вашей уважаемой родственницей, и я терплю сейчас ваше общество отчасти потому, что может пройти немало времени, пока мы встретимся снова.
– Клянусь святым Андреем, этому не бывать, – ответил Роланд. – Или мы пойдем охотиться вдвоем, или же я не пойду на охоту вовсе.
– Подозреваю, что в этом вопросе, как и во всех других, нам придется поступать так, как нам прикажут, – закончила свою речь юная леди. – Но постойте, я слышу голос моей тетушки.
Действительно, в этот момент старая леди собственной персоной вошла в залу и бросила сердитый взгляд на племянницу; Роланда же вовремя осенила счастливая мысль затеять какую-то возню с веревкой, которая была на шее у коровы.
– Молодой человек, – сказала Кэтрин с серьезным видом, – помогает мне покрепче привязать корову к столбу, потому что прошлой ночью, когда она высунула голову в окно и замычала, она, по-моему, переполошила всю деревню; еретики заподозрят нас в колдовстве, если не дознаются причины этого явления, ну, а если дознаются, то мы лишимся коровы.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Сноски
1
Действующих лиц (лат.).
2
Сидела дома и пряла шерсть (лат.).
3
Брошюры, появившиеся в ходе диспута между шотландским реформатором и Квентином Кеннеди, аббатом Кросрэгуэлским, считаются в шотландской библиографии редчайшими. См. «Жизнь Нокса» Мак-Края, с. 258. (Примеч. авт.)
4
Округ в Камберленде, примыкающий к шотландской границе. (Примеч. авт.)
5
Знатоки расходятся в мнениях относительно того, сколько времени следует кормить соколиного птенца непромытым мясом. (Примеч. авт.)
6
Род алебарды, получившей свое название от старинного герба Джеддарта, на гербе которого и по сей день можно видеть всадника, размахивающего этим оружием. (Примеч. авт.)
7
Ave (Ave Maria) – «Богородице, Дево, радуйся»; Credo – «Верую» – названия католической молитвы и символа веры. Ими обозначались малые и большие бусины на четках.
8
Такая сумка, как и прочие принадлежности соколиной охоты, считалась почетным отличием. Ее часто носили знатные вельможи. Одного дворянина из рода кэмнитенских Соммервилов называли «сэр Джон с красной сумкой», потому что он имел обыкновение носить при себе соколиный кошель, обтянутый атласом алого цвета. (Примеч. авт.)
9
Возрожденная (церковь) (лат.).
10
Слова, которые произнес, умирая, сэр Ралф Перси, смертельно раненный в сражении при Хеджлимуре в 1464 г.; они должны были означать его нерушимую верность Ланкастерскому дому*. (Примеч. авт.)
* Ланкастерский дом – английская династия, боровшаяся за власть с Йоркским домом во время войны Алой и Белой роз (1455–1485).
11
Благословенны грядущие во имя Господне (лат.).
12
Сговорились между собой князья: «Накинем петлю» (лат.).
13
Доколе, о Господи! (лат.)
14
Полноте (фр.).
15
Да будет дозволено (лат.).
16
Дозволено по необходимости (лат.).
17
Свидание наедине (фр.).
Комментарии
1
Работая над «Монастырем», Вальтер Скотт задумал и его продолжение – роман «Аббат». В предшествующем тексту «Монастыря» послании от капитана Клаттербака автору «Уэверли» говорится, что рукопись, переданная капитану неким монахом-бе
Страница 58
едиктинцем, состоит из двух частей. В конце «Монастыря» Скотт уведомляет читателя: «На этом заканчивается первая часть рукописи бенедиктинца».«Монастырь» появился в марте 1820 года, а в сентябре того же года издатель Лонгмен выпустил в свет «Аббата». За этот промежуток времени первоначальный замысел «Аббата» несколько изменился. Сперва Скотт хотел сосредоточить повествование вокруг того же Мелрозского аббатства, которое описано в «Монастыре» под именем Кеннаквайрского. Но затем обстоятельства, относящиеся к жизни монастыря, были оттеснены другим материалом, и лишь одна сцена романа разыгрывается в стенах Кеннаквайрского аббатства. В ответе автора «Уэверли» капитану Клаттербаку Скотт говорит о «сокращениях и изменениях», якобы произведенных им в «рукописи бенедиктинца», и отмечает, что название романа «перестало соответствовать его содержанию». Действительно, аббат Амвросий занимает в романе более или менее заметное место, но отнюдь не является ведущим его персонажем. Исчезла также и Белая дама – призрак, играющий значительную роль в сюжете «Монастыря». Зато большое внимание уделено историческим событиям и персонажам.
2
…в вводном послании к первому изданию «Приключений Найджела»… вложены в уста вымышленного персонажа… – Роман Вальтера Скотта «Приключения Найджела» вышел в 1822 г. Его открывает «Вводное послание капитана Клаттербака», в которое включена беседа-диалог между этим вымышленным персонажем и автором «Уэверли» о литературе.
3
…со времен Чосера до Байрона… – Чосер Джефри (1340–1400) – крупнейший поэт раннего периода английского Возрождения, автор знаменитых «Кентерберийских рассказов». Своего великого современника Байрона Вальтер Скотт глубоко почитал и вскоре после появления его первых поэм отказался от поэтического творчества.
4
Джонсон Сэмюел (1709–1784) – английский писатель, критик, языковед, автор известного словаря английского языка, издатель Шекспира.
5
Аристарх Самофракийский (217–145 до н. э.) – знаменитый греческий грамматик и критик, издатель и комментатор Гомера. Имя его стало нарицательным обозначением авторитетного и справедливого критика.
6
Черчил Чарлз (1731–1764) – английский поэт-сатирик, в своих стихах высмеивал актеров (в частности, знаменитого Гаррика) и журналистов, в том числе Джонсона.
7
Гримм Фридрих (Фредерик) (1723–1807) – немецкий барон; прожил долгие годы во Франции и стал французским литератором. Был близко знаком с Руссо, Дидро и другими французскими просветителями. В своих многочисленных письмах, изданных под названием «Литературная, философская и критическая переписка», давал критические обзоры современной ему французской литературы.
8
…неистощимый Вольтер выпускал памфлет за памфлетом… – Вольтер был автором многочисленных сочинений памфлетного характера, направленных главным образом против католического фанатизма и мракобесия.
9
Фернейский патриарх – прозвище Вольтера, поселившегося в 1758 г. в имении Ферне, на юге Франции, возле швейцарской границы.
10
Теперь либо всплывешь, либо утонешь! – цитата из исторической хроники Шекспира «Король Генрих IV», ч. I (акт I, сц. 3).
11
…способом бакалавра Самсона Карраско, который закрепил флюгер Хиральды Севильской… – Самсон Карраско – персонаж из «Дон Кихота» Сервантеса. В главе XIV второй части романа он рассказывает вымышленную историю о том, как он победил севильскую великаншу Хиральду и велел ей «стоять спокойно и не вертеться, ибо уже больше недели ветер дул только с севера». В действительности Хиральда (исп. giralda – флюгер) – установленный в XVI в. на башне севильского собора огромный флюгер, трехметровой высоты, изображающий статую победы.
12
Джек Убийца Великанов – герой английских сказок.
13
Бассанио – персонаж из комедии Шекспира «Венецианский купец».
14
Бывало, в юности я упускал стрелу… – цитата из «Венецианского купца» (акт I, сц. 1).
15
Аякс – имя двух греческих героев, о которых рассказывается в поэмах Гомера. Аякс, сын Оилея, носил прозвище Малого, в отличие от значительно превосходившего его ростом другого Аякса, сына Теламона; последний обладал непомерной физической силой и имел огромный «семикожный» щит «с восьмой оболочкой из меди» («Илиада», песнь седьмая). В «Илиаде» Аяксы сражаются иногда вместе, но они не братья – Скотт ошибается.
16
Пажон Анри (ум. 1776) – французский литератор, писавший в жанре волшебной сказки. Его «История принца Соли и принцессы Феле» вышла в 1740 г.
17
…Мелроз стал местом погребения сердца великого Роберта Брюса. – Мелроз – деревня на берегу Твида, в 60 километрах к югу от Эдинбурга; от нее получило свое название расположенное поблизости аббатство, которое сторонники Реформации разрушили в 1559 г. Роберт Брюс (1274–1329) – шотландский король с 1306 по 1329 г. Возглавил восстание шотландцев против английского господства, завершившееся после битвы при Бэн
Страница 59
окберне (1314) возвращением Шотландии независимости.18
…сослаться на авторитет автора «Калеба Уильямса», который так никогда и не снизошел до того, чтобы раскрыть нам истинное содержание сундука… – «Калеб Уильямс» (1794) – роман английского писателя Уильяма Годвина (1756–1836). Сундук действительно играет важную роль в сюжете романа: злоключения героя начинаются после его попытки вскрыть сундук, где хранилось нечто, разоблачавшее тайну его хозяина. Однако тайна открывается другим путем, а содержимое сундука так и остается неизвестным.
19
…Мунго из «Висячего замка»… – «Висячий замок» (1768) – фарс английского комедиографа Исаака Бикерстафа (ок. 1735 – ок. 1812). Мунго – чернокожий слуга, жалующийся на обилие поручений.
20
Альфред, по прозванию Великий (849–900) – англосаксонский король, правил с 871 г.
21
Елизавета I (1533–1603) – английская королева, дочь Генриха VIII.
22
Уоллес Уильям (1270–1305) – национальный герой Шотландии, вождь начавшегося в 1297 г. народного восстания против англичан. После поражения восстания был схвачен англичанами и казнен.
23
Хотспер (hot spur – англ. «горячая шпора») – прозвище сэра Генри Перси (1364–1403), воевавшего с шотландцами и взятого ими в плен в битве при Оттерборне. Хотспер выведен Шекспиром в исторической хронике «Король Генрих IV», часть I. «Пройти через гулко ревущий поток» – стих из этой хроники (акт I, сц. 3), однако произносит эти слова не Хотспер, а другой персонаж, Вустер, в беседе с Хотспером.
24
Мария Стюарт (1542–1587) – «королева шотландцев» по официальному титулу, дочь короля Иакова V, умершего вскоре после ее рождения, и Марии де Гиз. Провозглашенная королевой еще в младенчестве, с семилетнего возраста воспитывалась при французском дворе. В 1558 г. вышла замуж за дофина, впоследствии короля Франциска II. После смерти Франциска вернулась в 1561 г. в Шотландию. Правление королевы-католички в стране, принявшей Реформацию, было с самого начала чревато конфликтами. В 1567 г. происходит открытый разрыв Марии с протестантскими лордами. Низложенная и заключенная в Лохливенский замок, Мария подписывает отречение, но 2 мая 1568 г. совершает побег и, после проигранного ее сторонниками сражения, бежит в Англию. Принятая своей соперницей и злейшим врагом королевой Елизаветой формально как гостья, Мария провела более восемнадцати лет в заключении, после чего ее предали суду и казнили 8 февраля 1587 г.
25
Тильбюри – легкая двуколка в одну лошадь; название произошло от имени изобретателя этого экипажа.
26
Дуглас Гоуэйн (1474–1522) – шотландский поэт. Его перу принадлежат две аллегорические поэмы – «Дворец Чести» и «Король Сердце», а также первые переводы на английский язык древнеримской поэзии.
27
Мерри Джеймс Стюарт (1531?–1570) – граф, побочный сын короля Шотландии Иакова V и Маргарет Эрскин (в браке – леди Лохливен), сводный брат Марии Стюарт и ее политический противник. Возглавил группу шотландских лордов, перешедших на сторону Реформации и свергнувших Марию с престола. После вынужденного отречения Марии стал регентом Шотландии (в романе Вальтер Скотт сознательно допускает анахронизм).
28
…воинствующего реформатского духовенства… – В Шотландии главное направление Реформации носило более радикальный характер, чем в Англии. Протестантские проповедники усердно насаждали суровую, аскетическую мораль. Во всей своей деятельности они проявляли крайнюю нетерпимость и жестокость по отношению к инакомыслящим.
29
Нокс Джон (1505–1572) – вождь Реформации в Шотландии, основоположник и глава шотландской протестантской церкви, непримиримый враг католичества и королевы Марии Стюарт. Диспут, о котором упоминает Вальтер Скотт, происходил в 1563 г. по инициативе епископа Кросрэгуэлского и носил характер публичного состязания. Каждый из богословов имел эскорт в сорок человек. Темой диспута было толкование одного места в Библии – говорит оно в пользу служения мессы или против него.
30
…напоминали о былых днях в Глендеарге… – Глендеарг – название башни, в которой жила госпожа Глендининг, мать мужа леди Эвенел. Там прошли детство и юность Мэри Эвенел. Об этом рассказывается в романе «Монастырь».
31
Тибб Тэккет – персонаж романа «Монастырь», служанка матери леди Эвенел.
32
Жизнь нам дана не для того, чтобы растрачивать ее в праздном веселье, подобном треску тернового хвороста под котлом. – Слегка видоизмененная цитата из Библии, где сказано: «Смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом» (Екклесиаст, гл. VIII, стих 6).
33
«Граф Бэзил» (1802) – трагедия шотландской писательницы Джоанны Бэйли (1762–1851).
34
Масоны (или франкмасоны, «вольные каменщики») – участники так называемых масонских лож – тайных организаций, возникших в Англии в первой четверти XVIII в. в результате преобразования средневековых цеховых объединений каменщиков и распростр
Страница 60
нившихся впоследствии во многих странах Европы и в Америке. Общими чертами масонского движения являлись религиозность со значительной долей мистицизма, умеренный демократизм, проповедь христианской «любви к ближнему» независимо от расы, национальности, вероисповедания. Масоны окружали себя атмосферой таинственности, обставляли свою деятельность сложными ритуалами, выработали систему тайных условных знаков, шифров, паролей и т. п.35
Не раньше, чем хелвеллинский орел усядется на башню Лейнеркоста… – Хелвеллин – горная вершина с водопадом в Уэстморленде (Северная Англия). Лейнеркост – селение в Камберленде (Северная Англия), известное некогда расположенным вблизи него монастырем августинцев, церковь которого сохранилась до времен Вальтера Скотта.
36
…задерживают его хозяина при холирудском дворе. – Холируд – королевский дворец в столице Шотландии Эдинбурге.
37
Лейден Джон (1775–1811) – шотландский поэт, автор «Шотландских описательных поэм» (1803) и вышедшего посмертно сборника «Поэмы и баллады» (1819).
38
Летингтон Уильям Мейтленд (1528?–1573) – лорд, известный под прозвищем «секретарь Летингтон», при Марии Стюарт ведал иностранными делами Шотландии. Впоследствии, уже во время пленения Марии в Англии, поднял открытый мятеж против протестантского правительства. Выдержав двухлетнюю осаду в Эдинбургском замке, был взят в плен и умер в тюрьме.
39
Мортон Джеймс Дуглас (1527?–1581) – граф, с 1563 г. занимал должность лорда-канцлера Шотландии, впоследствии – один из самых непримиримых врагов Марии Стюарт. Вскоре после смерти Мерри стал регентом Шотландии. В дальнейшем был предан суду и обезглавлен.
40
Грейндж Уильям Кирколди (1520?–1573) – лорд, занимал видное положение среди мятежных лордов, однако после поражения Марии стал на ее сторону. Вместе с Летингтоном удерживал Эдинбургский замок, после падения которого был казнен.
41
Линдсей Байрс Патрик (ум. 1589) – лорд, один из первых шотландских лордов, ставших на сторону Реформации, непримиримый враг Марии Стюарт, верный соратник Мерри.
42
Темно-серый человек Хей Ланкарти. – См. подстрочное примечание Вальтера Скотта на с. 329.
43
Дугласы – один из самых знатных и могущественных шотландских родов.
44
Брэн, Луас – собаки, о которых рассказывается в «Сочинениях Оссиана» (1762–1765) – сборнике древних кельтских легенд, обработанных шотландским поэтом Джеймсом Макферсоном (1736–1796).
45
«Валентин и Орсон» – рыцарский роман XV в., повествующий о приключениях двух братьев-близнецов.
46
Мальвольо – персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как вам будет угодно».
47
Грот – шотландская серебряная монета достоинством в 4 пенса.
48
Раймунд Луллий (1235–1315) – средневековый философ-схоласт, поэт и алхимик, уроженец острова Майорки. Его главное произведение – «Ars magna Lulli» («Великое искусство Луллия») – попытка систематизации понятий с целью усовершенствования искусства доказательств. Луллий изобрел «логическую машину», которая механическим комбинированием понятий должна была заменить человеческое мышление. Последний труд Луллия – «Arbor scientiae» («Древо наук»), разделенный на шестнадцать частей, каждая из которых посвящена особой науке, – представляет собой энциклопедию знаний XIII в.
49
…знаменитого Лейденского университета… – Университет в Лейдене (Нидерланды) был основан только в 1575 г. В романе – анахронизм. Имя профессора вымышленное.
50
Пусть каждый исторгнет из груди своей проклятый побег, выросший из семени злосчастного яблока… – Яблоко здесь – тот же плод с древа познания добра и зла.
51
Старинная пьеса. – Эпиграфы с таким названием сочинены самим Вальтером Скоттом. Иногда Вальтер Скотт ссылается на вымышленный источник.
52
Он осмеливается напоминать миледи о несчастьях ее семьи! – Имеются в виду события, описанные в «Монастыре», – изгнание матери леди Эвенел из родового замка, повлекшее за собой многолетнее пребывание ее вместе с дочерью в глендеаргской башне у госпожи Глендининг.
53
Жена Лота. – По библейскому преданию, Бог вывел из обреченного им на гибель города Содома праведника Лота с семьей. Несмотря на запрет Бога, жена Лота на пути оглянулась. В наказание за это она была превращена в соляной столб.
54
Давид Риччо (1533?–1566) – итальянец-музыкант, приближенный Марии Стюарт и ее секретарь. Был зверски убит 9 марта 1566 г. на глазах у Марии, в ее покоях, протестантскими заговорщиками-вельможами, опасавшимися его влияния в государственных делах. Обвинение Марии в любовной связи с Риччо не было доказано.
55
…католика под плащом пресвитерианина… – Пресвитерианами в Англии и Шотландии назывались кальвинисты, стоявшие за выборность духовенства и передачу управления церковными делами коллегиям старейшин – пресвитериям (греч. presbyter – «старейший»).
56
Страница 61
Граф Нортумберленд – Томас Перси Нортумберленд, который в 1572 г. был казнен как католический заговорщик.
57
Граф Уэстморленд – титул, принадлежавший Чарлзу Невиллу, одному из главарей католического мятежа 1569 г. Умер в изгнании в 1601 г.
58
…хотя наш шотландский король… истинный протестант, все же он еще ребенок… – Имеется в виду сын Марии Стюарт, король Иаков VI (1566–1625).
59
Гамильтоны – старинный и некогда могущественный шотландский род; в середине XVI в. играли видную роль в католической партии.
60
Гордоны – старинный знатный шотландский род; боролись против Реформации.
61
…конец… женевским мантиям… – Шотландские священники-реформаты, следуя во всем женевской церкви Кальвина, отказались от католической сутаны, носили, как и женевское духовенство, мантии и ермолки и отращивали длинные бороды.
62
Асквибо – шотландская водка.
63
Неужто ты, наполовину англичанин… – Вудкок называет так Роланда потому, что тот прибыл со своей бабушкой в замок Эвенелов из северной части английского графства Камберленд, которая была спорной землей.
64
Святой Катберт – монах, живший в VI в.; проповедовал христианство в пограничных областях между Шотландией и Англией. Жители этих мест считали его своим покровителем.
65
…с изображением короля Гарри… – Имеется в виду английский король Генрих VIII, царствовавший с 1509 по 1547 г. Хэл – его прозвище.
66
…пустынь Святого Катберта… – Вальтер Скотт в своих примечаниях к «Аббату» указывает, что место действия в этой главе является вымышленным.
67
…изгнанные датчанами… – Нашествия датчан на Британские острова начались только с конца VIII в. У Вальтера Скотта здесь анахронизм.
68
Дарем – один из древнейших городов на севере Англии.
69
Дагон – бог древних народов, филистимлян и финикийцев. Изображался с рыбьим хвостом. По библейской легенде, идол филистимлян низвергся и рухнул, когда в его храм внесли отбитый в сражении у евреев так называемый ковчег завета.
70
…испытывая истинно эпикурейское наслаждение… – Древнегреческий философ-материалист и атеист Эпикур (341 – 270 до н. э.) учил, что счастье заключается в наслаждении покоем, который достигается скорее духовными радостями, чем чувственными. Впоследствии, однако, под эпикурейством стали понимать стремление к чувственным наслаждениям.
71
…грозит такая же опасность, как тем трем отрокам, что были ввергнуты злодеями в пещь огненную. – В Библии рассказывается о трех юношах – Анании, Азарии и Мисаиле, – которые были уведены в Вавилон и за отказ поклоняться «истукану» были по приказу царя Навуходоносора брошены в печь, но чудесным образом спасены.
72
Вордсворт Уильям (1770–1850) – выдающийся английский поэт-романтик, один из представителей так называемой «озерной школы».
73
…я бы печалилась об этом больше, чем патриарх Авраам, когда он возводил на вершину горы своего сына Исаака. – В Библии рассказывается о том, как Бог повелел Аврааму принести в жертву его единственного сына Исаака. Когда Авраам уже занес нож над Исааком, руку его удержал посланный Богом ангел.
74
Капитул – общее собрание членов какого-либо ордена, в данном случае – монахов монастыря Святой Марии.
75
Керлеврок Максуэл Хэррис (1512?–1583) – лорд, один из влиятельнейших шотландских вельмож того времени. Вначале примыкал к Реформации, был другом Нокса, потом перешел на сторону Марии Стюарт и оставался верен ей до конца.
76
Она ведь ревностная гугенотка… – Гугенотами назывались швейцарские и французские протестанты-кальвинисты. Наименование это перешло также в Англию и Шотландию.
77
…любезнейшая Каллиполис… – Каллиполис – жена мавританского короля в трагедии Д. Пиля «Битва при Алькасаре» (1591). Это имя употреблялось в нарицательном смысле как обращение к возлюбленной.
78
Екатерина Сиенская (1347–1374) – итальянская монахиня и церковная деятельница, причисленная в XV в. к лику святых.
79
Керры – один из наиболее влиятельных шотландских кланов.
80
…сердце могло бы устоять, только если бы оно было заковано в тройную медную броню, более крепкую, чем та, которая, по мнению Горация, необходима морякам. – Имеется в виду ода третья из I книги «Од» Горация.
81
… отдавать церкви тмин и мяту точно в меру причитающейся ей десятины… – слегка перефразированная цитата из Евангелия от Матфея (гл. XXIII).
82
Гай Уорик – герой средневекового (XIII в.) англо-норманнского рыцарского романа, совершающий ряд подвигов (умерщвление дракона, победа в единоборстве с датчанином-великаном и пр.).


