Читати онлайн “Квартира в Париже” «Гийом Мюссо»
- 05.05
- 0
- 0
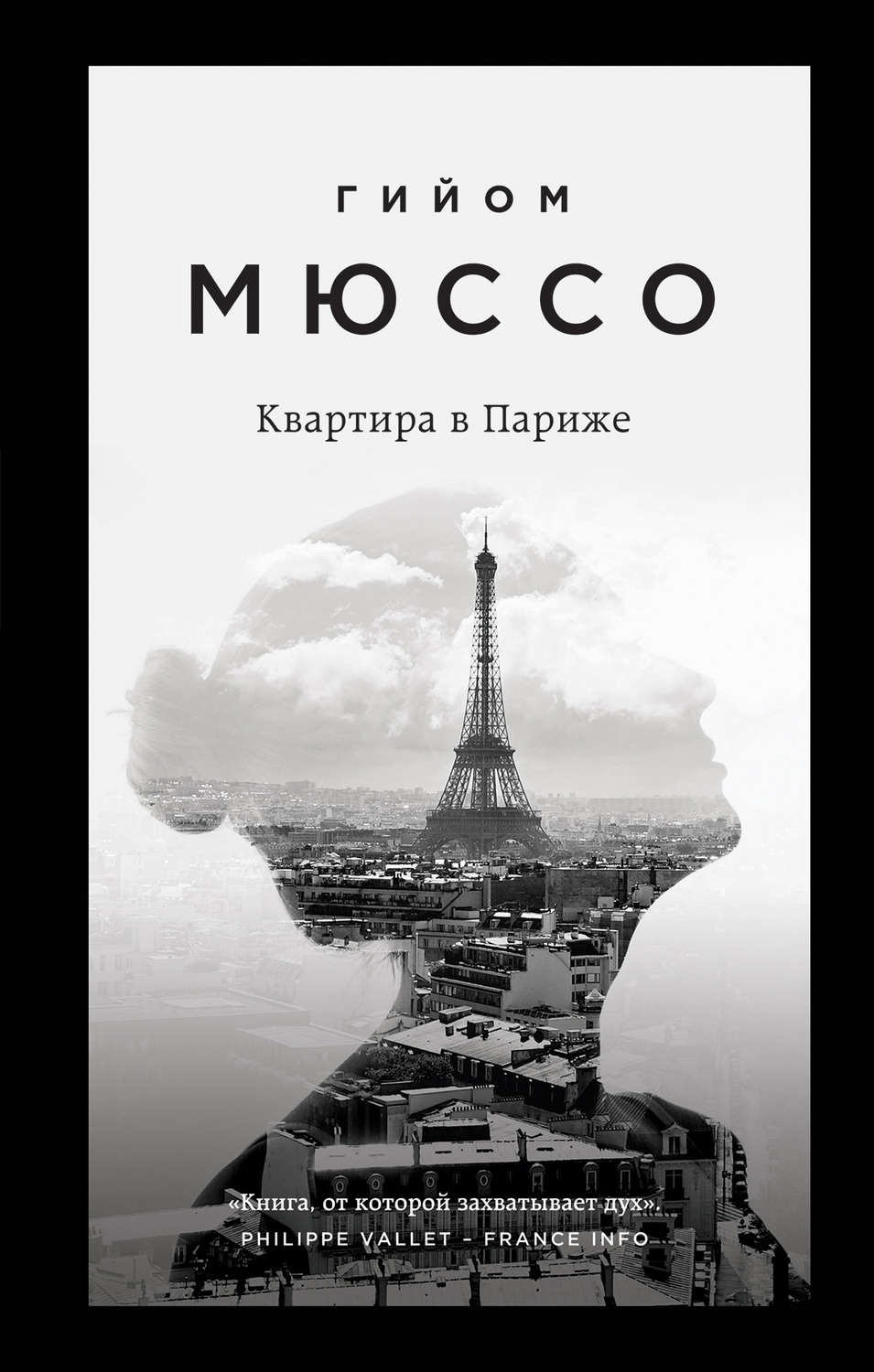
Сторінка 1
Квартира в ПарижеГийом Мюссо
Что может быть ужаснее, чем искать уединения и оказаться в одной квартире с незнакомцем? Маделин Грин, в прошлом офицер полиции, а сегодня просто несчастная женщина, которую бросил любимый человек, сняла квартиру в Париже. По недоразумению ту же квартиру снял драматург Гаспар Кутанс – мизантроп, умеющий работать только в одиночестве. Это недоразумение могло бы стать просто досадным эпизодом в жизни обоих, если бы не очень важное обстоятельство: раньше квартира принадлежала известному художнику Шону Лоренцу, который умер, потому что был не в силах пережить смерть своего сына Джулиана. Маделин и Гаспар воссоздают шаг за шагом его жизнь после исчезновения Джулиана и обнаруживают, что с этим делом связана тайна. И не исключено, что Шон был буквально в шаге от ее разгадки, но смерть помешала ему довести расследование до конца. И теперь это предстоит сделать им – Маделин и Гаспару. Бывшей полицейской и драматургу-мизантропу. И как знать, возможно, вместе с разгадкой они найдут и самих себя.
Гийом Мюссо
Квартира в Париже
Guillaume Musso
UN APPARTEMENT A PARIS
© XO Еditions, 2017. All rights reserved
© Кабалкин А., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Ингрид,
Натану
Самой холодной зимой я узнал, что внутри меня непобедимое лето.
Альбер Камю
Мальчуган
Лондон, суббота, ближе к полудню
Ты еще не подозреваешь, что меньше чем через три минуты столкнешься с одним из самых болезненных в твоей жизни испытаний. Ты не заметила, как оно подкралось, это испытание, но оно оставит на тебе отметину, страшную, как ожог от прикосновения раскаленного железа к нежной коже.
А пока ты беспечно прогуливаешься по торговой галерее, смахивающей на античный атриум. После десяти дней дождей небо снова синее, у тебя хорошее настроение, тебя радуют солнечные лучи, бьющие сквозь стеклянную крышу. В честь начавшейся весны ты купила себе красненькое платьице в белый горошек, на которое заглядывалась целых две недели. Ты чувствуешь легкость, даже игривость. Денек обещает сплошные удовольствия: обед с Жюль, твоей лучшей подругой, вы вместе пойдете на маникюр, потом тебя ждет выставка в Челси, а вечером концерт Пи Джей Харви[1 - Британская альтернативная певица, музыкант и автор песен. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.] в Брикстоне.
Спокойное плавание по затейливым изгибам жизни.
Но не тут-то было: внезапно ты замечаешь его.
* * *
Белобрысый мальчуган в джинсовом комбинезончике и в полупальтишке цвета морской волны. Годика два, ну чуть больше. Светлые смешливые глазищи под разноцветными очками. Тонкие черты круглой, еще кукольной мордашки, окаймленной короткими светлыми локонами. Не головка, а копна сена под летним солнцем. Ты смотришь на него издали, потом направляешься к нему, и чем ближе подходишь, тем больше тебя завораживает его личико – нехоженая, залитая светом территория, на которую еще не покусились ни зло, ни время. Веер возможностей – вот что цветет на этом лице. Радость жизни, счастье в чистейшем виде.
Теперь и он смотрит на тебя. Его лицо озаряет бесхитростная, заговорщическая улыбка. Он гордо показывает тебе железный самолетик и поднимает его над головой, держа пухлыми пальчиками: гляди, как летит!
– Вввжик!
Ты отвечаешь улыбкой на его улыбку, испытывая странное ощущение. Медленный яд не поддающегося расшифровке чувства отравляет все твое существо неведомой тоской.
Мальчуган, растопырив руки, семенит вокруг каменного фонтанчика, мечущего водяные струи под купол галереи. На какое-то мгновение тебе кажется, что он бежит к тебе, сейчас бросится к тебе в объятия, но…
– Папа, папа! Видишь, я – самолет!
Ты поднимаешь глаза и встречаешься взглядом с мужчиной, ловящим ребенка на лету. Тебя пронзает ледяное лезвие, у тебя останавливается сердце.
Вы знакомы. Пять лет назад у вас завязался роман, затянувшийся на год с лишним. Ради него ты поменяла Париж на Манхэттен и сменила работу. Полгода вы безуспешно пытались зачать ребенка. Потом он вернулся к своей бывшей жене и к их общему ребенку. Ты сделала все, что могла, чтобы его удержать. Не помогло. Тот отрезок жизни дался тебе нелегко, и вот теперь, едва ты вообразила, что страница наконец перевернута, ты снова его встречаешь – и твое сердце оказывается вдребезги разбито.
Теперь ты лучше понимаешь, почему тебе так сильно не по себе. Ты говоришь себе, что этот ребенок мог бы быть вашим. Что он должен был быть вашим.
Мужчина сразу тебя узнает и не избегает твоего взгляда. По его огорченному виду ты догадываешься, что он удивлен не меньше тебя, чувствует себя не в своей тарелке, испытывает смутный стыд. Ты думаешь, что он подойдет и заговорит, но нет, он, как затравленный олень, загораживает свое чадо и торопится отвернуться.
– Пошли, Жозеф, нам пора.
Отец и сын удаляются, а ты стоишь как вкопанная, не веря своим ушам. Жозеф – одно из имен, которы
Сторінка 2
вы обсуждали для вашего будущего ребенка. У тебя туман перед глазами, тебя сверлит чувство, что тебя обокрали. Наваливается тяжелая усталость, в горле застревает ком, и ты на несколько минут прирастаешь к месту, чувствуя себя каким-то никчемным булыжником.* * *
Еле двигая ногами, ты добираешься до выхода из магазина. В ушах гул, ты движешься как автомат, руки и ноги налились свинцом. Перед Сент-Джеймским парком ты с усилием вскидываешь руку, подзывая такси, а потом всю дорогу дрожишь, борясь с мерзкими мыслями и гадая, что с тобой будет дальше.
Шмыгнув в квартиру и захлопнув дверь, ты первым делом набираешь ванну. В спальне, не зажигая свет и не раздеваясь, валишься на кровать. Из головы не выходит мальчишка, изображающий самолетик, и вскоре испепеляющее отчаяние, которое ты испытала при виде бывшего возлюбленного, сменяется чувством чудовищной пустоты, больно стискивающим грудь. Ты, конечно, ревешь и при этом твердишь себе, что это очистительные слезы и что кризис пройдет сам собой. Но боль только усиливается, пухнет, обрушивается на тебя, как морской вал, уволакивающий в запретные глубины, разбивающий все плотины, высвобождающий копившуюся годами неудовлетворенность, горечь от несбывшихся надежд. Вскрываются старые раны – зря ты воображала, что они зажили.
Вскоре ты ощущаешь на себе холодную гидру паники и рывком вскакиваешь. Сердце колотится как бешеное. Нечто похожее случилось несколько лет назад – тогда все кончилось очень нехорошо. Но эта мысль не в силах тебя остановить, неумолимое колесо уже вращается. Даже не пытаясь совладать с дрожью, ты ползешь в ванную.
Аптечка с лекарствами, уйма коробочек. Ты растягиваешься в ванне, не до конца раздевшись, вода плещет на пол. То ли она слишком горячая, то ли слишком холодная – не разобрать. Ну и пусть. Грудь сдавливают тиски, в животе разверзается бездна, перед глазами угольная чернота, все вымазано беспросветной тоской.
А ведь ты не вполне сознавала, что дошла до предела. В последние годы ты немного потерялась, было дело, а что жизнь хрупка, тебе давно известно. Но ты не ждала, что именно сегодня почва уйдет из-под ног, что ты окажешься такой нестойкой. Главное – тебе было невдомек, что внутри у тебя зреет этот грязевой фонтан, эта чернота, отрава, беспомощность. Чувство непролазного одиночества, вдруг поднявшее голову и вонзившее в тебя свои ядовитые клыки.
* * *
Блистеры от таблеток лежат на воде, как кораблики в штиль. Ты отправляешь себе в рот одну горсть за другой и судорожно глотаешь. Но этого мало, надо идти до конца. Ты нашариваешь на краю ванны бритвенное лезвие и подносишь его к запястью.
Ты всегда упорно боролась, но сегодня у тебя иссякли все силы, а у твоего врага крепкая хватка, и он знает тебя лучше, чем ты сама. Прежде чем вскрыть себе вены, ты с иронией вспоминаешь наивную радость, с которой встретила несколько часов назад утро, увидев солнце в своем окне.
Потом наступает странный, сулящий успокоение момент: ты знаешь, что жребий брошен, что путешествие в один конец уже началось. Как загипнотизированная, любуешься узорами безымянной красоты, что рисует на воде изливающаяся из тебя кровь. Чувствуя, что отходишь, ты говоришь себе, что боль скоро утихнет. Уверенность, которой в этот момент нет цены.
Дьявол уже уволакивает тебя в свои огненные владения, как вдруг перед глазами снова появляется тот мальчуган. Ты видишь его на морском пляже – то ли в Греции, то ли на юге Италии. Тебе достаточно протянуть руку, чтобы до него дотронуться, ты даже чувствуешь его запах: так пахнет песок, так пахнет пшеница, эти манящие запахи вместе с уверенностью в будущем приносит легкий вечерний ветерок.
Он поднимает голову, смотрит на тебя, и ты с волнением любуешься его чудесным личиком, вздернутым носиком, редкими молочными зубками, делающими такой неотразимой его улыбку. Вот он раскидывает руки и устраивает вокруг тебя пробежку.
– Смотри, мама, я – самолет!
В разгар зимы
Вторник, 20 декабря
1. Парижский синдром
Париж – всегда хорошая идея.
Одри Хепбёрн
(«Сабрина», 1954 г., реж. Б.Уайлдер)
1
Руасси-Шарль-де-Голль, зона прибытия
Одно из мест ада на земле.
В зале паспортного контроля сотни пассажиров сбились в плотную змеящуюся очередь, похожую на страдающего ожирением удава. Гаспар Кутанс в тоске разглядывал плексигласовые кабинки метрах в двадцати от него. Кабинок-то было не счесть, но со всей немереной толпой управлялись всего двое несчастных полицейских. Гаспар обреченно вздохнул. Всякий раз, попадая в этот аэропорт, он задавался вопросом, как ответственные чиновники умудряются закрывать глаза на столь вредную для престижа Франции витрину, как эта.
Он проглотил слюну. К бесконечному ожиданию добавлялась нестерпимая жара. Сырой тяжелый воздух пропитался потным зловонием. Соседями Гаспара в очереди были несколько азиатов и подросток, с виду мотоциклист. Напряжение становилось осязаемым: муками от смены часовых поясов после полета длительностью в десять-двенадцат
Сторінка 3
часов беды пассажиров с лицами зомби, оказывается, не исчерпывались: они с возмущением обнаруживали, что их крестный путь еще далеко не завершен.Страдания начались сразу после посадки. Это притом, что рейс Гаспара из Сиэтла прибыл вовремя: самолет приземлился около девяти утра, но пришлось двадцать с лишним минут ждать подачи рукава. Потом – переход по обветшалым коридорам, которым, казалось, не будет конца. Лабиринт, усложненный указателями, словно специально придуманными, чтобы сбивать заблудших с толку, сменился сломанными эскалаторами, грозившими любому зазевавшемуся переломом конечностей, эскалаторы – битком набитым автобусом, нещадно трамбовавшим свой груз. И все это, оказывается, чтобы скопиться, как бессловесная скотина, в этом мрачном зале! Добро пожаловать во Францию!
Гаспар, скособоченный из-за висевшего на плече рюкзака, обильно потел. У него было такое чувство, будто, покинув самолет, он пробежал километра три. От подавленности он уже не понимал, что здесь делает. Зачем каждый год обрекать себя на месяц затворничества в Париже? Разве новую пьесу можно сочинить только здесь? Он нервно усмехнулся. Ответ был нехитрым и хлестким, как лозунг: «Техника письма во враждебном окружении». Год за годом к одной и той же дате его агент Карен снимала для него домик или квартиру, где он мог спокойно работать. Гаспар так ненавидел Париж – в особенности в рождественские дни, – что не возражал проводить двадцать четыре часа в сутки взаперти. В результате пьеса писалась сама по себе – или почти. Так или иначе, к концу января текст всегда бывал готов.
Очередь двигалась так медленно, что впору было совсем отчаяться. Ожидание превращалось в пытку. Перевозбудившиеся ребятишки с воплями носились между барьерами, двое престарелых путешественников держались друг за друга, чтобы не упасть, грудного младенца тошнило на мамину шею.
«Будь прокляты эти рождественские каникулы!» – простонал про себя Гаспар, давясь отравленным воздухом. Глядя на своих недовольных товарищей по несчастью, он вспомнил не так давно прочитанную в каком-то журнале статью о «парижском синдроме». Каждый год десятки японских и китайских туристов попадали в больницы, а то и отправлялись восвояси из-за тяжелых психологических нарушений, вызванных первым в их жизни посещением французской столицы. Едва ступив на французскую землю, бедные отпускники начинали страдать странными недугами: тут и бред, и депрессия, и галлюцинации, и паранойя. В конце концов психиатры нашли объяснение: бедняг подкашивал вопиющий разрыв между их воображаемым представлением о «городе света» и действительностью. Они мечтали открыть чудесный мир Амели Пулен[2 - Героиня одноименного кинофильма 2001 г. с Одри Тоту в главной роли.], прославляемый в кино и в рекламе, а вместо этого попадали в суровое, даже враждебное место. Париж их фантазий – город романтических кафе, букинистов на набережных Сены, Монмартра и Сен-Жермен-де-Пре – вдребезги разбивался о реальность: неопрятность, карманники и прочие опасности, вездесущая грязь, уродство крупных городских ансамблей, запущенность общественного транспорта.
Чтобы поменять ход мыслей, Гаспар достал из кармана несколько сложенных вчетверо листочков – описание и фотографии позолоченной тюрьмы, снятой для него агентом в 16-м округе. Раньше там располагалась мастерская художника Шона Лоренца. Соблазнительные клише навевали грезы о просторном светлом убежище, проникнутом покоем, – рае для ожидающего его писательского марафона. Обычно он с подозрением относился к фотографиям, но Карен побывала на месте и уверяла, что он останется доволен. «И даже сверх того», – загадочно добавляла она.
Только бы поскорее туда попасть!
Он еще с четверть часа протомился в очереди, прежде чем пограничники удосужились заглянуть в его паспорт. Любезности у них было ровно столько же, сколько у тюремных церберов: ни тебе «здравствуйте», ни «спасибо», ни ответа на его «всего хорошего». Паспорт в руки – и пошевеливайся!
Вновь пришлось стоять перед табло: Гаспар шарахнулся не туда, надо было возвращаться. Каскад железных лестниц, серия не спешащих открываться автоматических дверей. Он так торопился, что обгонял движущиеся дорожки. Хорошо хоть ему хватило ума не сдавать багаж.
Теперь до выхода из ада было рукой подать. Он поднажал, чтобы прорваться сквозь толкотню в зале прибытия, ненароком толкнул обнимавшуюся пару, перепрыгнул через пассажиров, прикорнувших прямо на полу. Тамбур с вращающейся дверью, на которой было написано «Выход – такси», означал для него конец затянувшейся пытки. Еще несколько метров, и весь этот кошмар останется позади. Он сядет в такси, наденет наушники и мысленно унесется в сладостную даль, внимая пианино Брэда Мелдау и контрабасу Ларри Гренадье[3 - Американские джазовые музыканты.]. Уже днем он сядет писать, и тогда…
Дождь смыл налет излишнего воодушевления. На асфальт низвергались небесные хляби. Небо походило на потолок угольного забоя. В воздухе разлилась наэлектризованная тоска. И ни одного такси до самого горизон
Сторінка 4
а! Только фургоны жандармерии – и промокшие растерянные пассажиры.– Что происходит? – спросил он носильщика, с равнодушным видом курившего у пепельницы на высокой ножке.
– Месье не в курсе? Дело плохо!
2
В этот самый момент Маделин Грин выходила на Северном вокзале из поезда «Евростар», прибывшего в 9.47 из Лондона.
Первые ее шаги по французской земле были неуверенными – она еще не знала, куда идти, отяжелевшие ноги дрожали. К усталости примешивались головокружение, тошнота и невыносимая изжога. Несмотря на обещание, что прописанное лекарство избавит от побочных действий процедур, которые она проходила, встречать Рождество ей предстояло в разобранном состоянии.
Чемодан, который она волокла за собой, весил не меньше тонны. Шум колесиков под этой бесформенной торбой отдавался в голове с утроенной силой и усугублял мигрень, от которой ей не было спасения с самого утреннего пробуждения.
Маделин резко остановилась и полностью застегнула молнию на своей кожаной куртке на овчинной подкладке. Она вся взмокла, и при этом ее пробирала дрожь. Дыхание перехватило, и она испугалась, что сейчас хлопнется в обморок, но, дойдя до конца перрона, немного приободрилась, как будто лихорадочное вокзальное оживление стало допингом, как по щелчку пальцев восстановило ее связь с окружающей жизнью.
Вопреки своей недоброй репутации Северный вокзал всегда завораживал Маделин. В том, что для других было только устрашающим хаосом, она чувствовала концентрацию грубой и заразительной энергии. Для кого-то это было скоплением всего самого убогого и порочного, но ее притягивал вечно копошащийся улей, пересечения тысяч жизней и судеб, гигантская, не прекращающая разрастаться паутина. Она оживала, окунаясь в этот тугой пьянящий поток, где зазевавшийся новичок мог в два счета захлебнуться.
Вокзал был для нее театральной сценой, запруженной актерами: туристами, жителями пригородов, деловыми людьми, обитателями трущоб, полицейскими патрулями, торговцами, не имеющими разрешения на торговлю, жуликами, официантами и продавцами, отлучившимися из соседних кафе и магазинчиков. Наблюдая за этим варевом, срезом человечества под громадной стеклянной крышкой, Маделин мысленно сравнивала его с сувенирным шаром – неизменным подарком ее возвращавшейся из поездок бабушки. Только внутри этого шара вместо пластмассовых блесток мельтешила такая необъятная жизнь, что он мог вот-вот лопнуть от ее напора и тяжести.
Стоило Маделин выйти на улицу, как ее чуть не свалило с ног порывом ветра. Куда там Лондону с его вошедшим в поговорку ненастьем: Париж встречал ее проливным дождем, грязным небом, влажной духотой. Такуми не ошибся – все подъезды к вокзалу перегородили десятки такси, приходилось долго идти, чтобы погрузиться в автобус или в автомобиль. Те, кто попадал в камеру подсуетившегося репортера, не жалели бранных слов: забастовщики и незадачливые пассажиры вели на радость газетам и информационным каналам нескончаемую войну.
Маделин торопливо обогнула возмущенную толпу, проклиная себя за то, что забыла про зонт, и направилась в сторону бульвара Мажанта. Машина, проехавшая по луже, обрызгала ее с головы до ног. Мокрая и возмущенная, она свернула на улицу Сен-Винсен-де-Поль и дошла до церкви. Там за рулем фургончика, мигавшего «аварийкой» во втором ряду, ее ждал Такуми. Молодчина, не опоздал! На его разноцветном «Рено Эстафетт» красовалась жизнерадостная надпись, контрастировавшая с окружающей серостью: «Необыкновенный сад – продажа цветов. 3 бис, ул. Деламбр, 75014, Париж». Заметив его, Маделин с облегчением взмахнула рукой и поспешила залезть в кабину.
– Привет, Маделин, добро пожаловать в Париж! – С этими словами цветочник сунул ей салфетку.
– Салют, старина, страшно рада тебя видеть!
Вытирая голову, она косилась на молодого азиата. Такуми носил вельветовую куртку и шелковый шарф, на круглую, коротко остриженную голову он нахлобучивал клетчатую фланелевую кепку, из-под которой торчали оттопыренные ушки, делавшие его похожим на мышонка. Усики у него были реденькие, как у юнца, а не как у частного детектива из телесериала. За время ее отсутствия – уезжая из Парижа, Маделин оставила на его попечение чудесный цветочный киоск, куда он нанялся за несколько лет до этого, – он ничуть не повзрослел.
– Здорово, что ты меня встретил, спасибо!
– Брось! В общественном транспорте ты бы нынче хлебнула лиха.
Такуми воткнул передачу и поехал по улице Абвиль.
– Как видишь, в этой стране со времени твоего отъезда ничего не изменилось, – проворчал он, указывая на группу демонстрантов. – С каждым днем все печальнее – ну, да тебе не привыкать!
Дворники на ветровом стекле с трудом справлялись с потоками воды. Борясь с новым приступом тошноты, Маделин попыталась поддержать разговор:
– Ну а ты как? Ждешь не дождешься рождественских каникул?
– Если и устрою себе отпуск, то только в конце следующей недели. Поедем праздновать Новый год к родителям Маржолен. У них винокуренный заводик в Кальвадосе.
– Если ты все так же плох
Сторінка 5
переносишь спиртное, я тебе не завидую!Лицо Такуми побагровело. Он как был, так и остался обидчивым. С этой веселой мыслью Маделин уставилась на мокрый пейзаж за окном фургона. Проехав с полкилометра по бульвару Осман, они повернули на улицу Тронше. Несмотря на дождливую погоду и на гадкий социальный климат в столице, Маделин радовалась, что вернулась сюда.
Ей нравилось жить на Манхэттене, но заразиться пресловутой тамошней энергией, которую так расхваливали некоторые ее знакомые, она так и не сумела. Наоборот, Нью-Йорк высасывал из нее силы. Городом-фетишем для нее был и остался Париж, сюда она возвращалась зализывать раны. Здесь она прожила четыре года – не сказать, что лучшие в ее жизни, зато самые важные: это были годы сопротивления, восстановления, возрождения.
До 2009 года она работала в Англии, в уголовном розыске Манчестера. Но одно скверное расследование, за которое она несла ответственность, – дело Элис Диксон[4 - Г. Мюссо. Зов ангела. М.: Эксмо. Пер. С. и К. Нечаевых.] – сломило ее и принудило уволиться из полиции. Из-за этой неудачи она всего лишилась: ремесла, уважения коллег, уверенности в себе. В Париже она завела цветочный магазинчик и зажила на Монмартре, вдали от расследований убийств и исчезновений детей. Но эта спокойная жизнь снова сделала резкий поворот: внезапная встреча толкнула ее на неожиданный путь и позволила вернуться к расследованию, перевернувшему ее жизнь. В конце концов дело Элис Диксон счастливо завершилось в Нью-Йорке. Благодаря обстоятельствам этого успеха она поступила на службу в администрацию WITSYC – Федеральной программы США защиты свидетелей. Передала свой цветочный магазинчик Такуми и улетела в Нью-Йорк. Спустя год полиция Нью-Йорка предложила ей место консультанта в службе разбора закрытых дел. Задачей Маделин было постараться по-новому подойти к некоторым старым нераскрытым делам. Работенка как будто прямиком из телесериала или из детективного романа Харлана Кобена[5 - Американский автор детективных триллеров, сюжет которых часто связан с «забытыми убийствами» в прошлом и пропажами без вести.], но на самом деле – невообразимая кабинетная скука. За четыре года Маделин ни разу не окунулась в реальную жизнь и не возобновила ни одного расследования. Системе, винтиком которой она была, не хватало средств, ее душила бюрократия, от масштабов которой покраснела бы самая замшелая французская контора. Любая заявка на проведение анализа ДНК сопровождалась заполнением невообразимой кучи бланков, любой запрос о разрешении допросить старого свидетеля или заглянуть в кое-какие процессуальные документы был сопряжен с безумной бумажной волокитой и в большинстве случаев утыкался в отказ ФБР, решавшего судьбу наиболее интересных уголовных дел.
В конце концов она без всякого сожаления уволилась и перебралась в Англию. Больше всего ее удручало то, что она столько тянула с этим решением. С тех пор как Джонатан Лемперер – мужчина, которого она любила и за которым помчалась на Манхэттен, – вернулся к жене, в США ничто ее не удерживало.
– Весной мы с Маржолен ждем ребенка, – вдруг выпалил Такуми.
– Я… Я очень за тебя рада, – проговорила Маделен, стараясь, чтобы ответ звучал хоть немного радостно.
Но фальшь в ее голосе резанула слух им обоим. Такуми даже сменил тему.
– Ты так мне и не сказала, что привело тебя в Париж.
– Много всего разного, – уклончиво ответила она.
– Если хочешь встретить Рождество с нами, дома, милости просим.
– Большое спасибо, но, пожалуй, нет, не хочу. Не сердись, просто мне надо побыть одной.
– Дело твое.
В фургоне повисло тяжелое молчание. Маделин не возобновляла разговор. Глядя в окно, она искала взглядом знакомые ориентиры, пыталась связать каждое место со своими воспоминаниями о парижской жизни. На площади Мадлен на нее нахлынули воспоминания о выставке Дюфи[6 - Рауль Дюфи – французский художник, выбравший вначале фовизм, позднее – кубизм.] в картинной галерее; на улице Руаяль она высмотрела бистро, где готовили сногсшибательное телячье рагу под белым соусом; мост Александра III остался для нее связанным с мотоциклетной аварией как-то дождливым днем…
– У тебя есть профессиональные планы? – осведомился Такуми.
– А как же! – соврала она.
– Давно не виделась с Джонатаном?
Не лез бы ты не в свое дело!
– Допрос окончен? Ты забыл, что полиция – это я?
– В том-то и дело, я в курсе, что ты больше не полицейская…
Она вздохнула. Бестактный юнец начинал действовать ей на нервы.
– Ладно, буду откровенной, – заговорила она. – Хочу, чтобы ты больше не задавал вопросов. Ты был моим учеником, я продала тебе свое дело, но это не дает тебе права приставать с вопросами о моей жизни!
Пересекая эспланаду Инвалидов, Такуми искоса поглядывал на Маделин. Она ничуть не изменилась: та же старая кожаная куртка, те же белокурые локоны, неизменное старомодное каре и – тот же колючий нрав.
Все еще сердясь, она опустила стекло и закурила.
– Ничего себе! По-прежнему куришь? – удивился Такуми. – Где твои мозги?
– Помо
Сторінка 6
чи! – прикрикнула Маделин и выпустила в его сторону струйку дыма: пусть поерзает.– Нет! Не в моей машине! Не хочу, чтобы мой фургон провонял табаком!
Дождавшись остановки на красном сигнале светофора, Маделин схватила свой чемодан и распахнула дверцу.
– Ты чего, Маделин? Что ты делаешь?
– Я уже не в том возрасте, чтобы выслушивать дешевые уроки морали. Дойду пешком.
– Нет, подожди, ты же про…
Она захлопнула дверцу и решительно зашагала по улице Гренель.
Дождь не думал униматься.
3
– Забастовка? – ахнул Гаспар. – Что еще за напасть?
Носильщик с видом прожженного фаталиста пожал плечами и неопределенно махнул рукой.
– Все как обычно, а то вы не знаете…
Пряча лицо от дождевых струй, Гаспар приставил ладонь ко лбу козырьком. Ясное дело, взять с собой зонт он не додумался.
– То есть на такси можно не рассчитывать?
– Никаких такси. Можно попытать удачи с пригородными электричками, но ходит только одна из трех.
Нет уж, лучше сдохнуть!
– А автобусы?
– Понятия не имею, – поморщился носильщик, докуривая сигарету.
Гаспар, бранясь про себя, вернулся в терминал и полистал в уголке отдыха свежий номер «Паризьен». Заголовок все объяснил: «Большая блокада». Таксисты, железнодорожники, авиадиспетчеры, стюардессы и стюарды, водители-дальнобойщики, докеры, почтальоны, мусорщики – вся эта публика, сговорившись между собой, пригрозила правительству параличом страны, если оно не отзовет проект неугодного закона. Статья предупреждала об опасности расширения забастовок и о том, что в результате блокады нефтеперерабатывающих заводов страна могла через считаные дни столкнуться с дефицитом топлива. Беда не приходит одна: после пика загрязненности в начале месяца на Сене случился рекордный паводок. Вокруг Парижа сплошные наводнения, что усугубляет проблемы с проездом…
Гаспар потер глаза. Вечно одна и та же песня, стоит мне сунуться в эту страну. Конца кошмару не предвиделось, но злость уже вытеснялась безразличием.
Как быть? Будь у него мобильный телефон, он бы позвонил Карен – пусть ищет выход. Но Гаспар не желал иметь ничего общего с сотовой связью. Компьютера у него тоже не было – ни ноутбука, ни планшета. Соответственно он обходился без адреса электронной почты и вообще никогда не заходил в Интернет.
По наивности он стал искать в здании аэропорта кабину телефона-автомата, но безуспешно: похоже, за ненадобностью их убрали все до единой.
Оставалась единственная надежда – автобус. Он снова вышел и стал озираться, однако навести справки было не у кого. Добрых полчаса он потратил на изучение запутанной маршрутной сети автобусов «Эр Франс», после чего с досадой наблюдал, как отъезжали два битком набитых автобуса, в которые уже не пролезла бы даже мышь.
Еще полчаса нервного ожидания под сильнейшим ливнем – и Гаспар сумел-таки загрузиться в автобус. Сидячих мест уже не было – собственно, он и не мечтал сесть, зато с маршрутом не ошибся: конечным пунктом значился вокзал Монпарнас.
Вымокшие до нитки, стиснутые, как сардины в банке, пассажиры смирились с тем, что эту чашу им придется испить до дна. Гаспар, прижимая к себе рюкзак, вспоминал слова Достоевского: «Человек есть существо ко всему привыкающее». Именно ко всему: к тому, что топчутся по твоим ногам, толкают тебя, чихают тебе в лицо. Что ты потеешь в компании незнакомцев в душегубке, висишь вместе с дюжиной попутчиков на железном поручне, собравшем все возможные микробы…
Он снова боролся с желанием все бросить и сбежать из Франции. Утешением стала мысль, что эта голгофа продлится не больше месяца. Если он сумеет уложиться с новой пьесой в срок, то меньше чем через пять недель унесет отсюда ноги и проведет конец зимы и начало весны в Греции, на своем паруснике, ждущем его на якорной стоянке у острова Сифнос. А дальше – полгода плавания в архипелаге Киклады, блаженное слияние с природой, взрыв чувств и красок: ослепительная белизна отражающих солнце известковых утесов, кобальтовая голубизна небес, бирюзовые глубины Эгейского моря… В Греции Гаспар чувствовал гармонию с пейзажем, растениями, запахами. Вот оно, пантеистическое слияние! Допьяна надышавшись морским воздухом, он подолгу бродил по пустошам, карабкался по склонам вдоль стен из иссушенных камней, упивался ароматами тимьяна, шалфея, оливкового масла и жареных овощей. Это счастье продолжалось до середины июня, пока острова не поражала ежегодная гангрена – наплыв туристов. На это время Гаспар находил убежище на американской территории, в своем шале в Монтане.
Там жизнь была устроена иначе: то был возврат к природному естеству в самом диком, грубом виде. Ритм его дням задавали ловля форели, бесконечные скитания по березовым лесам, вокруг озер, вдоль рек и ручьев. Одинокое, но напряженное существование вдали от раковых опухолей, называемых городами, и от их анемичных обитателей.
Еле-еле, метр за метром, автобус тащился по шоссе А3. Указатели, которые Гаспар читал через замызганные окна, были словно четки на нитке дороги, протянутой к северо-восточ
Сторінка 7
ому пригороду: Ольне-су-Буа, Дранси, Ливри-Гарган, Бобини, Бонди…У него была потребность в этих долгих одиноких погружениях в природу, даривших очищение, исцелявших от язв цивилизации, ибо с давних пор Гаспар Кутанс воевал с суетой и хаосом обреченного на погибель мира. Мира, трещавшего по всем швам, постигнуть который он был не в силах. Как положено мизантропу, он чувствовал больше близости к медведям, хищникам и змеям, чем к так называемым собратьям-человекам. Он порывал с презренным миром и гордился этим. Гордился своей способностью проводить большую часть жизни вне общества и его правил. Он перестал бы себя уважать, если бы хоть раз за последнюю четверть века включил телевизор, заинтересовался Интернетом или изменил своему верному «Доджу» конца 70-х годов.
Его отшельническая жизнь была проникнута решительным, но не фанатичным аскетизмом. Бывало, он пользовался подвернувшейся возможностью и позволял себе какую-нибудь выходку. Ему случалось покидать свои горы или греческое логово для полета на концерт Кита Джаррета[7 - Кит Джаррет – американский джазовый пианист и композитор.] в Жуан-ле-Пен или на «Тоску» на античной арене Вероны. К этому добавлялись месяцы творчества в Париже. Целый год он вынашивал очередную пьесу в голове, а потом садился за письменный стол и не вставал по шестнадцать часов в день. И каждый раз боялся, что иссякнут мысли, угаснет вдохновение, желание творить. Но нет, раз за разом возобновлялся загадочный процесс. Слова, ситуации, реплики, диалоги выходили из-под его пера и, зафиксированные его сухим экономным почерком, обретали связность.
Ныне его пьесы, переведенные почти на двадцать языков, ставились по всему миру. Только в прошлом году он насчитал полтора десятка спектаклей в Европе и в США. «Город-призрак», одна из его последних пьес, сыгранная в овеянном легендами берлинском театре «Шаубюне», удостоилась премии «Тони». Больше всего плоды его труда импонировали интеллектуальной прессе, несколько их переоценивавшей и усматривавшей в них даже больше подлинного содержания.
Гаспар никогда не посещал постановки своих пьес и не давал интервью. Сначала Карен беспокоило его нежелание общаться с прессой, но потом она умудрилась использовать эту сдержанность ему во благо и создать «загадку Гаспара Кутанса». Теперь его игра в прятки только побуждала прессу петь ему дифирамбы. Его наперебой сравнивали с Кундерой, Пинтером, Шопенгауэром, Кьеркегором. Гаспар не обольщался всеми этими похвалами, так как всегда считал свой успех недоразумением.
После Баньоле автобус застрял – и, казалось, навечно – на окружной дороге, потом все же оказался на набережной Берси и дополз до Лионского вокзала. Там он снова надолго завис, высадил половину пассажиров и взял курс на запад.
Все пьесы Гаспара произрастали из одного и того же субстрата под названием абсурд и трагизм жизни, или присущее человеческой участи одиночество. Источником было презрение автора к безумию его эпохи, его нежелание верить каким бы то ни было иллюзиям, его неприятие оптимизма, добрых чувств и хеппи-энда. Но при всем отчаянии и жестокости его пьесы были забавными. Это были, конечно, не «Один лишь пшик», не «Клетка для чудаков» и не «В театре сегодня вечером»[8 - Речь идет о водевиле с Луи де Фюнесом 1963 г., комедии 1978 г. и современной популярной передаче французского телевидения.], тем не менее в них хватало жизни и динамизма. По словам Карен, они создавали у зрителей впечатление доступности свободы, а критикам давали повод надуваться важностью: они начинали считать себя большими умниками. Это, возможно, и служило объяснением увлечения его драматургией публикой и самыми заметными актерами, буквально дравшимися за право произносить вымученные им тексты.
Автобус тем временем переехал через Сену. Бульвар Араго с тоскливыми, ощипанными рождественскими украшениями напомнил Гаспару, до чего ему ненавистны предрождественские дни и то, во что превратился этот праздник, – вся эта вульгарная коммерческая блевотина. На площади Данфер-Рошро, прямо напротив входа в катакомбы, автобус опять застрял. Кучка демонстрантов, окружившая Бельфорского льва[9 - Скульптура Фредерика Бартольди, расположенная у подножия Бельфорской крепости, изображает раненого, но готового снова ринуться в бой льва – символ героического сопротивления гарнизона крепости под руководством капитана Пьера Данфер-Рошро во время 103-дневной осады, которой подвергся город в ходе Франко-прусской войны 1870–1871 гг.], размахивала флагами Генеральной конфедерации труда, «Форс Увриер» и Единой профсоюзной федерации. Водитель автобуса опустил стекло и заговорил с регулировщиком. Гаспар навострил уши и уяснил, что авеню Мен и все подъезды к башне Монпарнас наглухо заблокированы.
Двери автобуса распахнулись с пневматическим хлопком.
– Конечная, все выходят! – весело объявил водитель, обрекая своих пассажиров на незавидную участь: снаружи с новой силой бушевала гроза.
4
В связи с забастовкой и с блокадой мест переработки отходов Париж тонул в мусоре. Перед р
Сторінка 8
сторанами, подъездами домов и витринами магазинов выросли горы нечистот. Раздосадованные туристы, даваясь отвращением и негодованием, снимали иронические селфи на фоне переполненных мусорных контейнеров.Маделин шагала по улице Гренель под беспощадным ливнем, волоча за собой чемодан на колесиках, прибавлявший, казалось, лишний килограмм веса каждые сто метров. Но она набралась мужества и решила быть выше мелких невзгод. В этом ей помогало мысленное составление программы на предстоящие дни. Прогулки по острову Сен-Луи, музыкальная комедия в «Шатле», постановка в Театре Эдуарда VII, выставка Эрже в Большом дворце, «Манчестер на море» в кино, ресторанчики в гордом одиночестве… Ей остро требовалось успешно провести время в Париже. Она приехала сюда с надеждой отдохнуть и прийти в себя. Что поделать, она приписывала этому городу волшебные свойства.
По пути она гнала от себя мысли о предстоящих медицинских процедурах. На пересечении с улицей Бургонь дождь взял и перестал. На улице Шерш-Миди ее даже поприветствовал робкий солнечный лучик, вызвавший у нее улыбку. Она поискала в смартфоне адрес сайта аренды недвижимости, на котором заказывала жилье.
«Квартира в Париже» – такой запрос она ввела месяц назад в поисковик, решив заняться подбором временного пристанища. После нескольких десятков кликов и получаса навигации она набрела на сайт агентства недвижимости, специализировавшегося на удовлетворении нетипичных запросов. Облюбованный ею дом существенно выходил за рамки ее бюджета, но она уверенно выбрала именно его. Боясь, что вариант уплывет у нее из-под носа, она тут же вооружилась кредитной карточкой и оформила заказ.
В письме с подтверждением значился адрес дома, его сопровождала куча всевозможных ориентировочных кодов. Они привели ее на аллею Жанны Эбютерн, в тупичок, перегороженный железным забором, напротив ресторана «У Дюмоне». Маделин нашла облезлую калитку и, не отрывая взгляда от экрана телефона, набрала четырехзначный код, отпиравший замок.
Лишь только за ней захлопнулась калитка, она очутилась в неожиданном, особенном мире. Ее сразу заворожила густая зелень: жимолость, бамбук, заросли жасмина, магнолии, какие-то совсем уж сверхъестественные деревца и кустики – мексиканский апельсин, японская андромеда, буддлея Давида, – превращавшие этот уголок в буколический ларец сельской жизни в тысячах миль от шума и лязга города. Сделав несколько шагов, Маделин увидела посреди сада четыре дома, наполовину скрытых разросшимся плющом и страстоцветом.
Арендованный ею домик оказался замыкающим. Три других ничуть ее не интересовали. Внешне это был просто железобетонный куб, обложенный в шашечку красным и черным кирпичом. Маделин набрала очередной код и толкнула железную дверь, над которой висела табличка с витой надписью Cursum Perficio[10 - Здесь завершается мой путь (лат.).].
Лишь только она проникла внутрь, произошло невероятное: приступ острого восхищения, почти что любовь с первого взгляда. Ослепление, полуобморок, помрачение, от которого сжалось сердце. Откуда взялось это чувство, что она попала домой? Это необъяснимое впечатление гармонии? Может, дело было в безупречной организации пространства? В охровых отблесках естественного света? В валившем с ног контрасте с наружным хаосом?
Маделин всегда была неравнодушна к интерьерам. Они долго оставались важной частью ее ремесла: ее задачей было заставить интерьеры говорить. Но тогда у мест, с которыми ей приходилось иметь дело, была неприятная особенность: то были места преступления…
Она оставила чемодан в углу коридора и прошлась по комнатам. Cursum Perficio оказался безупречно отреставрированным домом-мастерской 1920-х годов с общим для всех трех этажей зеленым двориком.
На приподнятом первом этаже располагались кухня, столовая и большая голая гостиная. Оттуда прямо вниз, на землю, вела лестница. Две комнаты следующего уровня выходили дверями на фонтанчик, окруженный вьющейся растительностью. Верхний уровень был поделен между просторной мастерской, спальней и ванной комнатой.
Очарованная, Маделин задержалась в мастерской, залюбовавшись резными оконными проемами высотой в добрых четыре метра, словно впускавшими сюда небо и кроны деревьев. В описании дома на сайте она прочла, что раньше он принадлежал художнику Шону Лоренцу. Можно было подумать, что прежний хозяин лишь недавно отлучился. Повсюду оставались признаки его недавнего присутствия: разнокалиберные мольберты и рамы, рассортированные по размерам нетронутые холсты в коробах, бесчисленные баночки и баллончики с красками, широкие и узкие кисти.
Покинуть мастерскую оказалось не так просто. Здесь, в святая святых живописца, она буквально приросла к полу. Придя наконец в себя и спустившись в гостиную, она распахнула застекленную дверь и вышла на террасу. Там одуряюще пахло цветами с внутреннего дворика. Маделин не могла не улыбнуться при виде двух малиновок, порхавших над кормушкой на стене. Какой это Париж – скорее деревня! Она знала, что делать дальше: сначала ванна, потом чашка ч
Сторінка 9
я и хорошая книга на террасе.Этот дом уже вернул ей умение улыбаться. Выходит, она не ошиблась, послушавшись своего инстинкта и приехав сюда. Что ж, Париж подтверждал репутацию города, куда все-таки стоит наведываться.
5
Кляня ливень, Гаспар перепрыгивал с тротуара на тротуар, натянув на голову куртку. Рюкзак оттягивал плечо, грозя плюхнуться в лужу. Таким манером он, ни разу не остановившись, добрался от Данфер до станции метро «Эдгар-Кине». Вот и улица Деламбр – знакомые места! Два года назад Карен сняла ему большую квартиру по соседству, на углу площади Деламбр. Он хорошо помнил эту улицу: маленькая школа, отель «Ленокс», замечательный сад с густо заросшей оградой, ресторанчики: «Суши Гозен», «Бистро дю Дом».
Когда он добрался до бульвара Монпарнас, дождь уже перестал. Теперь можно было надеть куртку и протереть очки. Он услышал нестройный шум: петарды, рожки, свистки, сирены, лозунги с проклятиями властям. Улицу запрудили демонстранты, собиравшиеся двинуться плотной толпой по улице Ренн. Гаспар опознал желтые жилеты ВКТ, скопившиеся вокруг готового взмыть в воздух воздушного шара, нашарил негодующим взглядом звуковую установку, разогревавшую и без того терявшую терпение толпу.
Драматург нырнул в море знамен и вымпелов, чтобы вынырнуть, запыхавшись, уже на бульваре Распай. Относительная тишина принесла облегчение, здесь Гаспар, опершись о фонарный столб, восстановил дыхание. Утирая со лба пот, он достал из кармана присланный Карен листочек и еще раз прочел адрес и объяснение, как найти квартиру, которую она для него сняла. Когда от тротуара отразились первые робкие лучи проглянувшего солнышка, он зашагал в нужную сторону.
На углу улицы Шерш-Миди его внимание привлекла витрина винного подвальчика. Забавное название: «Красное и черное». Прежде чем спуститься, Гаспар убедился, что в магазинчике нет других покупателей. Зная заранее, что ему нужно, он свел беседу с хозяином к минимуму и уже десять минут спустя продолжил путь, гордо неся ящик лучших вин: «Жевре-Шамбертен», «Шамболь-Мюзиньи», «Сент-Эстеф», «Марго», «Сен-Жюльен»…
Будет чем утолить жажду.
Глядя на свое отражение в витринах, он вдруг вспомнил ужасный начальный эпизод фильма «Покидая Лас-Вегас»: герой Николаса Кейджа покупает в винном магазине десятки бутылок и грузит их в «Кадиллак». Эта остановка стала прелюдией к провалу в самоубийственный ад.
Гаспар еще не дошел, конечно, до такой стадии, но спиртное превратилось в неотъемлемую часть его повседневности. Чаще он выпивал в одиночестве, но были на его счету и памятные пьянки в кабаках Коламбия Фоллс, Уайтфиш и Сифноса. Были и жестокие запои в компании неотесанных мужланов, плевавших на Брейгеля, Шопенгауэра, Милана Кундеру и Гарольда Пинтера, всех вместе и каждого в отдельности.
Что делать, если не находишь лучшего творческого стимулятора и одновременно лучшего средства законопатить течь, не допустить проникновения в твою жизнь лишнего трагизма? Лучшего сообщника, помогающего тебе сорвать с чахлого древа существования плод-другой сладостной беззаботности? Спиртное, то друг, то враг, служило Гаспару щитом, отражавшим избыточные эмоции, кольчугой, предохранявшей от тревог, незаменимым снотворным. Вспомнилась до кучи и фраза Хемингуэя: «Умному человеку иной раз приходится выпить, чтобы не так скучно было с дураками»[11 - Э. Хемингуэй. По ком звонит колокол. – Прим. автора.]. Вот именно! Алкоголь не разрешал толком ни одной проблемы, зато служил временным подспорьем, чтобы не подохнуть от осознания того, какая посредственность поработила род людской!
Гаспар не питал иллюзий и допускал, что алкоголь в конце концов одержит над ним победу. Он даже представлял, и не без подробностей, как это могло бы произойти: в один несчастливый день жизнь покажется ему до того невыносимой, что он больше не сможет с ней мириться на трезвую голову. Время от времени он воображал себя тонущим в сгустившихся алкогольных парах. Сейчас он, как водится, поспешил прогнать свой кошмар. Оказалось, что, погруженный в невеселые мысли, он добрел до нужных ворот, выкрашенных берлинской лазурью.
Удерживая под мышкой ящик с вином, Гаспар набрал четырехзначный код, не пропускавший в тупичок на аллее Жанны Эбютерн кого не следовало. Всего несколько шагов по маленькому раю внутри – и до отказа взведенная у него внутри пружина стала ослабевать. При виде буйной растительности и всей этой старомодной, неожиданно деревенской обстановки он остановился как вкопанный на заросшей тропинке. Само время, казалось, текло здесь медленнее, чем снаружи, как в каком-то параллельном пространстве со своими собственными законами. На солнышке разлеглись два добродушных кота. Среди ветвей вишневого дерева чирикали пташки. Городской хаос остался где-то далеко, и невозможно было поверить, что всего в нескольких сотнях метров от этого блаженного местечка громоздится ненавистная башня Монпарнас.
Гаспар сделал еще несколько шажков по неровной тропе. За зарослями прятались обнесенные ржавой оградкой домики из оштукатуренных
Сторінка 10
камней, обвитые плющом и диким виноградом. Аллея упиралась в дерзкое сооружение строгих геометрических очертаний – железобетонный куб, облицованный в шашечку черными и красными кирпичами и опоясанный широкой галереей из переливающегося стекла. Над дверью висела табличка с витыми буквами, складывавшимися в два слова: Cursum Perficio. Так назывался, помнится, последний дом Мерилин Монро. Дверь дома была заперта на кодовый замок. Гаспар опять последовал инструкциям Карен, и железная дверь, издав нежный щелчок, гостеприимно отворилась.Гаспару уже было любопытно, что там внутри. Миновав холл, он очутился в гостиной. Фотографии грешили против действительности: она оказалась куда лучше. Дом был искусно организован вокруг прямоугольного внутреннего дворика, облагороженного L-образной террасой.
– Ну и дела… – сквозь зубы процедил Гаспар, ошеломленный изяществом своего временного пристанища. Все напряжение, накопившееся в нем за последние часы, куда-то подевалось. Здесь все было как в другом измерении, какое-то смутно знакомое, умиротворяющее, обнадеживающее. Функциональность, чистота, уют! Он попробовал проанализировать, откуда взялось это благостное ощущение, но ни архитектура, ни гармония пропорций не были для него понятной грамматикой со знакомыми правилами.
К интерьерам он обычно был равнодушен. Другое дело пейзажи: для него были исполнены бесконечного смысла отражения заснеженных гор на поверхности озер, отливающая синевой белизна ледников, пьянящая бескрайность хвойных лесов. А вот разглагольствования про фэншуй и влияние расстановки мебели на циркуляцию энергии в помещении он презрительно отвергал. Но сейчас был вынужден признать, что если и не улавливал «врачующих волн», то по крайней мере почему-то исполнился уверенности, что здесь ему будет хорошо и что работа пойдет как по маслу.
Гаспар открыл высокую дверь, вышел на террасу, облокотился о балюстраду и стал слушать пение птиц, впитывая целебную атмосферу сельского уединения. Поднялся ветер, но было не холодно, солнце пригревало. Впервые за долгое время Гаспар заулыбался. В честь прибытия стоило откупорить бутылочку «Жевре-Шамбертен», налить бокал и насладиться волшебным нектаром в неспешном спокойствии…
Его блаженство было нарушено звуком шагов. В доме кто-то был: может, уборщица, может, какой-нибудь ремонтник. Он отправился выяснить, кто это, – и лицом к лицу встретился с женщиной, почти обнаженной, завернутой в широкое полотенце.
– Кто вы такая? Что вы делаете здесь, у меня? – осведомился он.
Она зло посмотрела на него.
– Тот же самый вопрос я собиралась задать вам.
2. Теория 21 грамма
Художники притягивают нас отчасти своей непохожестью, отказом от конформизма, средним пальцем, который суют обществу под нос.
Джесси Келлерман.
Лица
1
– Честно говоря, я не уверен, что вполне понимаю, в чем вы меня упрекаете, мадемуазель Грин.
Гордый своей посеребренной годами шевелюрой, Бернар Бенедик грозно выпячивал грудь, словно нес караул перед широким одноцветным полотном в глубине своей галереи на улице Фобур-Сент-Оноре. Он недавно сбросил вес, поэтому тонул в рубашке с воротом а-ля Мао и в зеленой, оттенка абсента, куртке лесника. Толстые очки «Ле Корбюзье» съедали верхнюю половину его физиономии, зато увеличивали и еще больше округляли глаза, смотревшие живо, даже игриво.
– Информация на сайте вводит в заблуждение, – повторила Маделин, повысив голос. – Там не было упоминания о совместной аренде.
Галерист покачал головой.
– Дом Шона Лоренца не предлагается для совместной аренды, – заверил он ее.
– Полюбуйтесь! – И возмущенная Маделин протянула ему две бумаги: ее собственный контракт и другой точно такой же, предъявленный этим Гаспаром Кутансом, с которым она столкнулась, когда вышла из ванной час назад.
Галерист взял у нее бумаги и уставился в них с недоуменным видом.
– Действительно… Это какая-то ошибка, – нехотя согласился он, вертя в пальцах свои очки. – Не иначе, дело в каком-нибудь компьютерном вирусе, хотя я, честно говоря, мало во всем этом смыслю. Объявление разместила на сайте Надя, одна из наших стажерок. Я бы мог попробовать с ней связаться, но она как раз сегодня утром улетела на каникулы в Чикаго, так что…
– Я уже написала на сайт, но это не решит мою проблему, – перебила его Маделин. – Мужчина, находящийся сейчас в доме, только что прилетел из Соединенных Штатов и не собирается съезжать.
Бернар Бенедик помрачнел.
– Напрасно я согласился сдавать этот дом! Даже из могилы Лоренц умудряется портить мне жизнь… – пробурчал он, сердясь на самого себя, сердито посопел, а потом просиял: – Знаете что? Я возмещу вам убытки.
– Не желаю денег! Мне нужно то, о чем было условлено: жить в доме совершенно одной.
Напирая на это условие, она пребывала в гневной, совершенно иррациональной убежденности, что должна жить именно в этом месте.
– Что ж, раз так, я предложу то же самое месье Кутансу. Хотите, чтобы я ему позвонил?
– Вы мне не поверите: у него нет телефона.
–
Сторінка 11
у так передайте ему мое предложение.– Я общалась с ним не более пяти минут. Похоже, он строгий субъект.
– Можно подумать, вы слеплены из другого теста! – С этими словами Бенедик сунул ей свою визитную карточку. – Поговорите с ним и перезвоните мне. Если у вас есть желание пройтись по моей галерее, то я успею написать ему записку с извинениями и с предложением отступного.
Маделин убрала карточку в карман джинсов и отправилась смотреть картины, не удосужившись поблагодарить собеседника. Она сомневалась, что записка подействует на этого Кутанса, показавшегося ей упрямым и агрессивным медведем.
Время было обеденное, галерея почти пустая, и Маделин решила познакомиться с ее содержимым. Специализацией галереи была современная городская живопись. В первом зале были вывешены только полотна внушительного формата, все до одного без названия. Здесь преобладали одноцветные пространства, плоскости мрачных оттенков – одни испещренные дырами, другие утыканные ржавыми гвоздями. Зато второй зал резко контрастировал с первым: в нем буйствовали яркие краски, нанесенные на холсты смелыми энергичными мазками. Сами работы балансировали между граффити и азиатской каллиграфией. Маделин стало любопытно, но не более того.
Живопись такого рода чаще оставляла ее равнодушной. Никогда она не понимала, говоря по правде, современную живопись. Читала, как все, статьи, смотрела репортажи об успехах художников, выбившихся в звезды: инкрустированном бриллиантами черепе Дэмьена Хёрста[12 - Современный английский художник и коллекционер.] и его зверях в формалине, омарах Джеффа Кунса[13 - Современный американский художник, тяготеющий к китчу, особенно в скульптуре.], вызвавших полемику в Версальском дворце, провокационных выходках Бэнкси[14 - Псевдоним английского андеграундного художника стрит-арта, политактивиста и режиссера.], елке Пола Маккартни, сделанной в форме секс-игрушки и разгромленной на Вандомской площади, но пока еще не нашла ключа, который отпер бы ей дверь в эту вселенную. Вся в сомнениях, она добрела до последнего зала, где ее поджидала стилевая мешанина. Помимо воли Маделин задержалась перед надувными фаллическими фигурами кислотной окраски. Потом ее внимание привлекли персонажи из розовой смолы в стиле манго-порно. В экспозиции выделялись также два высоких скелета, застывших в рискованной позе из Камасутры, монументальные скульптуры из увеличенных ячеек «лего» и беломраморная химера – лев с головой и бюстом Кейт Мосс. Дальше, в глубине зала, красовалась коллекция оружия – ружей, мушкетонов и аркебуз, изготовленных из вторсырья: банок из-под сардин, перегоревших лампочек, железной и деревянной кухонной утвари; все это удерживалось вместе при помощи проволочек, изоляционной ленты и кусков веревки.
– Нравится?
Маделин вздрогнула и обернулась. Засмотревшись на всю эту невидаль, она не услышала, как к ней подкрался Бернар Бенедик.
– Совершенно в этом не разбираюсь. Одно могу сказать: это не мое.
– Что же тогда ваше? – весело спросил галерист.
– Матисс, Бранкузи, Никола де Сталь, Джакометти. – За этим перечислением она убрала в карман полученный от него конверт.
– Охотно соглашусь, этот уровень гениальности здесь еще не достигнут. – Бернар Бенедик с улыбкой обвел рукой пестрый лес эрегированных половых членов. – Вы будете смеяться, именно вот это расходится у меня сейчас на ура.
Маделин с сомнением надула губы.
– А работы Шона Лоренца у вас есть?
Только что Бенедик был весел, но теперь помрачнел.
– Увы, нет. Этот художник рисовал мало. Сегодня его произведений почти не найти. Каждое стоит целое состояние.
– Когда он скончался?
– Год назад. Ему исполнилось всего сорок девять лет.
– Какая ранняя смерть!
Бенедик кивнул.
– Шон всегда был слаб здоровьем. У него были давние проблемы с сердцем, он перенес несколько операций шунтирования.
– Его вещи выставляли и продавали вы один?
Бенедик скорчил горестную гримасу.
– Сначала – да. Потом я стал просто его другом, несмотря на частые размолвки.
– Что собой представляли полотна Лоренца?
– Других подобных не было! – воскликнул галерист. – Лоренц есть Лоренц, этим все сказано.
– А все-таки? – не унималась Маделин.
– Шон не помещался ни в одну из известных категорий, – воодушевился Бенедик. – Он не принадлежал ни к каким школам, ни к каким кружкам. Если попробовать найти аналогию в кинематографе, то позволительно сравнить его со Стэнли Кубриком: это тоже был творец, способный создавать шедевры в самых разных жанрах.
Маделин покачала головой. Пора было идти, чтобы поставить точку в истории с нежелательным сожителем. Но что-то ее здесь удерживало: знакомство с домом художника так на нее подействовало, что стоило попытаться узнать о нем побольше.
– Теперь хозяин мастерской Лоренца – вы?
– Правильнее сказать, я пытаюсь уберечь ее от покушений кредиторов Шона. Я его наследник и душеприказчик.
– Кредиторы?! Вы же сами только что сказали, что картины Лоренца бесценны!
– Так и есть, но ему влетел в копеечку р
Сторінка 12
звод. К тому же последние несколько лет он не брал в руки мольберт.– Почему?
– Из-за болезни и личных проблем.
– Что за проблемы?
– Вы, случайно, не из полиции? – нахмурился Бенедик.
– Если честно, именно оттуда, – с улыбкой призналась Маделин.
– То есть? – вскинул он брови.
– Несколько лет проработала сыщиком: сначала в уголовном розыске Манчестера, потом в Нью-Йорке.
– Чем вы там занимались?
Она пожала плечами:
– Убийствами, похищениями.
Бенедик прищурился, словно его посетила какая-то идея. Он покосился на часы, потом указал через окно на итальянский ресторан на противоположной стороне улицы, чья черная витрина и золоченые резные украшения по краям навеса наводили на мысль о пиратском корабле.
– Как насчет сальтимбокка[15 - Мясное блюдо римской кухни.]? – спросил он. – Через час у меня встреча, но если у вас есть желание больше узнать о Шоне, я приглашаю вас на обед.
2
Ветви старой липы посреди внутреннего дворика дрожали на теплом ветерке. Гаспар Кутанс, устроившись за столиком на террасе, блаженно потягивал из бокала вино. «Жевре-шамбертен» было упоительным: сбалансированным, с интенсивным вкусом, плотным и одновременно мягким, приятно отдававшим вишней и черной смородиной.
Увы, удовольствие от дегустации было подпорчено неясностью с арендой дома. «Черт возьми, – думал он, – не хватало, чтобы эта особа меня выселила!» Он уже загорелся желанием написать свою очередную пьесу именно здесь. Это было уже даже не дело принципа, а необходимость. В кои-то веки его накрыла любовь с первого взгляда, и он отказывался складывать оружие, считая себя полностью в своем праве. С другой стороны, эта Маделин Грин выглядела не больно уступчивой. Она навязала ему свой телефон, чтобы он мог позвонить агенту. Карен не была виновата в случившемся, тем не менее рассыпалась в извинениях и, перезвонив через десять минут, сообщила, что на время, пока все не утрясется, сняла для него апартаменты в «Бристоле». Гаспар ответил твердым «нет» и ультиматумом: либо этот дом, либо ничего. Либо Карен находит решение, либо их сотрудничеству конец. Обычно угрозы такого рода превращали Карен в непобедимую воительницу. Но в этот раз он боялся, что потерпит неудачу.
Новый глоток бургундского. Птичьи трели. Упоительный воздух. Греющее сердце зимнее солнышко. Гаспар не мог не улыбаться: во всей этой ситуации было что-то комическое. Мужчина и женщина вынуждены по причине компьютерного сбоя снять на Рождество один и тот же дом. Это смахивало на зачин пьесы. В этой пьесе не ожидалось присущей ему циничной игры ума, зато она сулила массу веселья. Что-то в этом роде сочиняли в 60–70-е годы Барийе и Греди, любимые драматурги его отца, чьи пьесы с большим успехом шли в театре «Антуан» и в «Буфф Паризьен».
Его отец…
От этих мыслей некуда было деваться. Стоило Гаспару приехать в Париж, как оживали его детские воспоминания, разгорались угли, которые он считал давно потухшими. Чтобы не обжигаться, Гаспар гнал эти воспоминания, не позволяя им становиться слишком болезненными. Постепенно он усвоил, что мысли такого рода лучше держать на расстоянии, иначе не выжить.
Он налил себе еще вина и покинул с бокалом террасу, чтобы походить по гостиной. Там его внимание привлекла коллекция долгоиграющих грампластинок: сотни джазовых дисков, любовно рассортированных на дубовой этажерке. Он выбрал пластинку американского джазиста Пола Бли, о которой никогда не слышал, и, внимая хрустальным звукам фортепьяно, стал разглядывать фотографии на стенах.
Ни картин, ни рисунков – только черно-белые эпизоды семейной истории. Мужчина, женщина, маленький мальчик. В мужчине Гаспар узнал Шона Лоренца: он помнил его портрет кисти англичанки Джейн Баун, сопровождавший некролог в «Монд» в прошлом декабре. Сейчас перед ним висел снятый крупным планом оригинал: высокий рост, величественная осанка, истощенное и заостренное, как наточенное лезвие ножа, лицо, загадочный взгляд, одновременно волнующий и решительный. Жена Лоренца была запечатлена всего дважды. Казалось, она копировала перед объективом позы американских топ-моделей Стефани Сеймур и Кристи Терлингтон с обложек модных журналов четвертьвековой давности. Красотка 1990-х годов: стройная, чувственная, сияющая. Худая, но не кожа да кости. Недосягаемой, пожалуй, не назовешь.
На большей части фотографий красовались Лоренц с сыном. Сам по себе художник был, возможно, человеком суровым, но в обществе своего ребенка – светловолосого мальчугана с уморительной рожицей и искрящимся взглядом – он превращался в другого человека, словно заражался от сына жизнелюбием. Два последних экспоната этой семейной галереи представляли собой групповые снимки: художник творил, окруженный детьми пяти-шести лет, среди которых можно было узнать и его сынишку. Наверное, это была школа или курсы живописи для самых маленьких.
В библиотеке, среди книг серии «Плеяды» и редких изданий «Ташен» и «Ассулин», Гаспар обнаружил монографию о творчестве самого Лоренца – шикарный, в пятьсот страниц фолиант
Сторінка 13
весом более трех килограммов. Гаспар поставил бокал на столик и опустился с книгой на диван. Он не собирался себя обманывать: произведения Лоренца были ему незнакомы. В живописи он предпочитал фламандскую школу и нидерландский золотой век: Ван Эйка, Босха, Рубенса, Вермеера, Рембрандта. Он пролистал предисловие некоего Бернара Бенедика, обещавшее глубокий анализ наследия Лоренца и доступ к уникальным архивным материалам. Он не мог не оценить свободный и прозрачный слог Бенедика, знакомившего читателя с основными моментами биографии художника.Шон Лоренц родился в Нью-Йорке в середине 1960-х годов. Его мать, Елена Лоренц, была гувернанткой, отец, не признававший, впрочем, своего отцовства, – врачом в Верхнем Вест-Сайде. Будущий художник, единственный сын у матери, детство и отрочество провел с ней на севере Гарлема, в жилом комплексе для малоимущих. Как мать ни бедствовала, она умудрилась отдать сына учиться в частное протестантское заведение. Юный Шон оказался недостоин ее жертвы: его несколько раз исключали, позже он превратился в мелкого правонарушителя. В перерывах между кражами юноша увлекся живописью, вернее, размалевыванием стен и поездов манхэттенской подземки в составе «Пиротехников» – группы энтузиастов граффити.
С фотографий в книге на Гаспара смотрел Шон в возрасте 20–25 лет – сочетание детскости и раннего знакомства с превратностями жизни – в чересчур длинном черном плаще, в футболке с дерзкой надписью, в рэперской бейсболке, в истрепанных кроссовках. На всех фотографиях его, обвешанного аэрозольными баллончиками, сопровождали двое сообщников: щуплый латино с тонкими чертами лица и сильная мужеподобная девица с неизменной индейской лентой на голове. Знаменитые «Пиротехники» покрывали своими злыми письменами вагоны, заборы, полуразрушенные стены. На немного размытых, нечетких снимках красовались заброшенные склады, пустыри, подземелья. Это был Нью-Йорк – диковатый, чумазый, жестокий и возбуждающий, знакомый Гаспару по студенческим годам.
3
– Восьмидесятые годы прошлого века были великой эпохой нью-йоркских граффити, – рассказывал Бернар Бенедик, наматывая на вилку спагетти. – Метя город, делая его своим, мальчишки вроде Шона покрывали граффити все подряд: железные ставни магазинов, почтовые ящики, мусорные баки и, конечно, вагоны метро…
Маделин, сидя напротив галериста, внимательно его слушала, не забывая жевать салат.
Положив на стол вилку и нож, Бенедик достал из кармана большой смартфон, открыл фотографии и нашел подборку, посвященную Шону Лоренцу.
– Вот, полюбуйтесь, – сказал он, протягивая Маделин гаджет.
Та стала листать на экране фотографии тех лет.
– Что такое Lorz74? – спросила она, показывая надпись, которую заметила на многих работах.
– Подпись Шона. Авторы граффити часто подписывались фамилией и номером своей улицы.
– А кто эти двое с ним рядом?
– Юнцы из его квартала, его тогдашняя компания. Они называли себя «Пиротехники». Паренек-латино подписывался NightShift. Он быстро пропал. Девчонка, похожая на бульдозер, – другое дело: это способная художница, известная как LadyBird. Одна из редких женщин в мире граффити.
В смартфоне Бенедика была дюжина фотографий. Нью-Йорк 80–90-х годов мало походил на тот город, который она знала. Тогда это были суровые каменные джунгли, кварталы, где заправляли банды, существование, пропитанное крэком. Яркие краски граффити, взрывавшиеся, как фейерверк, служили противовесом всему этому убожеству. Работы Лоренца чаще всего представляли собой огромные разноцветные буквы, круглые, как накачанные гелием воздушные шары, наползавшие друг на друга и переплетавшиеся в традициях wildstyle. Маделин вспомнила стены Манчестера, где прошла ее юность. Этот буквенный лабиринт, хаотическое скопление стрел и восклицательных знаков, вызывал у нее противоречивые чувства. Ее отталкивала анархия, тяга нарушать и отвергать все подряд, но она не могла не признать за этими мускулистыми фресками по крайней мере одно достоинство: они лихо разгоняли отлитые в бетоне тоску и серость.
– В общем, – продолжил свой рассказ галерист, – в начале девяностых Шон Лоренц был мелким правонарушителем, вместе с бандой сообщников выжигавшим себе мозг героином. Но при этом – одаренным мастером граффити, владевшим изощренной техникой, способным делать весьма любопытные вещи…
– Но ничего сверхъестественного, – догадалась Маделин.
– До лета тысяча девятьсот девяносто второго года, когда все резко переменилось.
– Что произошло тем летом?
– Тем летом Шон Лоренц повстречал на вокзале «Гранд Сентрал» француженку восемнадцати лет и влюбился в нее с первого взгляда. Ее звали Пенелопа Курковски. Ее мать была корсиканкой, отец поляком. В Нью-Йорке она жила компаньонкой за стол и кров и бегала на кастинги, надеясь стать манекенщицей. – Галерист сделал паузу, налил себе воды. – Чтобы привлечь внимание Пенелопы, Шон принялся размалевывать все подряд составы нью-йоркского метро. За два месяца он создал поразительное количество фресок, героиней которых была
Сторінка 14
го Дульсинея. – Продолжая рассказ, он искал в телефоне другие фотографии. – Лоренц был не первым граффити-художником, провозглашавшим своими творениями любовь к женщине. До него этим занимались Корнбред и Джонон. Но его манера была уникальной.Найдя искомое, Бенедик установил айфон на столе и подвинул его к Маделин.
Та, взглянув на экран, буквально раскрыла рот от неожиданности. Ей открылись истинные оды женской красоте, сладострастию, чувственности. Первые фрески были целомудренными, почти что романтичными, последующие – все более разнузданными. Пенелопа превращалась на них в женщину-лиану, множилась, становилась то крылатым, то водоплавающим существом, каждый вагон являл совершенно новый портрет. Ее голову венчали листва, розы и лилии, волосы плыли, развевались, спутывались то в изящные, то в угрожающие узоры…
4
Сидя с книгой на коленях, Гаспар Кутанс не мог оторвать взгляд от фотографий вагонов метро, расписанных Шоном Лоренцом в июле – августе 1992 года. Это была ослепительная живопись, ничего подобного он никогда прежде не видел. Вернее, видел: ему вспомнилась «Женщина-цветок» Пикассо и некоторые плакаты Альфонса Мухи из серии подпольных, под грифом «Х». Кем была эта девушка с пылающим, словно усыпанным золотыми листьями, телом? Согласно подписи под репродукцией, – супругой Лоренца, той самой Пенелопой, которую Гаспар уже видел на черно-белых семейных портретах. Двойственное создание, то уютное, то полное яда, с бесконечными ногами, алебастровой кожей и волосами цвета ржавчины.
Гаспар завороженно переворачивал страницы монографии, находя новые и новые картины, полные волнующего эротизма. На некоторых волосы Пенелопы походили на клубок змей, извивающихся у нее на плечах, обвивающихся вокруг грудей, покушающихся на лоно. Ее лицо в психоделическом нимбе, орошаемое золотым дождем, искажала судорога острого наслаждения. Ее тело раздваивалось, изгибалось, вращалось и превращалось в искрящийся факел…
5
– Этим дерзким высказыванием Лоренц ломал все коды! – восторгался Бенедик. – Он вырывался из плена жестких правил граффити, рвался в иное измерение, чем застолбил себе место в когорте живописцев масштаба Климта и Модильяни.
Маделин послушно листала страницы с переливающимися вереницами вагонов.
– Неужели от всего этого ничего не осталось?
Галерист улыбнулся улыбкой веселого фаталиста.
– В том-то и дело, что их век был мимолетным: всего одно лето. Эфемерность – самая суть городской живописи. В ней залог ее притягательности.
– Кто все это сфотографировал?
– Та самая LadyBird, создательница архивов «Пиротехников».
– Наверное, Лоренц сильно рисковал, пустившись в такое предприятие?
– Не то слово! – подхватил Бенедик. – В начале девяностых в Нью-Йорке стартовала нулевая толерантность. Силы охраны порядка получили устрашающие полномочия. Управление городского транспорта устроило настоящую охоту на граффити-художников. Суды штамповали суровые приговоры. Но Шон пренебрегал опасностью, снова и снова доказывая силу своей любви к Пенелопе.
– Как он избегал ареста?
– Шон был хитрецом. Он рассказывал мне, что завел комплект униформ, чтобы просачиваться в бригады наблюдения и проникать в депо подземки.
Маделин не могла оторваться от экрана смартфона. Эта женщина, Пенелопа, не выходила у нее из головы. Что она чувствовала при виде своего пламенеющего похотливого изображения, заполонившего Манхэттен? Радовалась или считала себя оскорбленной, униженной?
– Ну и как, он добился своего? – спросила она.
– Вас интересует, очутилась ли Пенелопа в его постели?
– Я бы это так не формулировала, но… да.
Бенедик жестом попросил два кофе.
– Сначала, – принялся объяснять он, – Пенелопа не обращала внимания на Шона. Но трудно долго игнорировать человека, который так вас боготворит. Хватило нескольких дней, чтобы она не устояла. То было лето их безумной любви. А в октябре Пенелопа вернулась во Францию.
– Все свелось к мимолетному летнему романчику?
Галерист покачал головой:
– Ошибаетесь. Шон буквально дышал этой девушкой. До такой степени, что уже в декабре того же года примчался к Пенелопе во Францию и поселился с ней в Париже в двухкомнатной квартирке на улице Мартир. И снова взялся за кисти. Теперь холстами ему служили не вагоны метро, а стены и заборы пустырей в окрестностях площади Сталинграда и в департаменте Сен-Сен-Дени.
Маделин еще раз просмотрела фотографии того периода. Они сохранили взрывную красочность и живость, роднившие их с южноамериканской настенной живописью.
– Как раз тогда, в тысяча девятьсот девяносто третьем году, я познакомился с Шоном, – сказал Бенедик, глядя в пространство. – Он в те дни работал в маленькой мастерской в «эфемерной больнице».
– В какой-какой больнице?
– Так прозвали колонию бездомных в восемнадцатом округе, в здании бывшей больницы «Бретонно». В начале девяностых там трудилось много художников, и не только: кроме живописцев и скульпторов, там находили прибежище музыканты, в том числе рокеры. – Лицо галериста
Сторінка 15
ще больше оживилось от воспоминаний. – Сам я не художник, не могу похвастаться каким-то особенным талантом, зато у меня есть чутье. Нюх на особенных людей. Встретился с Шоном – и сразу определил, что он стоит в сотни раз больше других граффити-художников. Я предложил ему выставиться у меня в галерее. И сказал ему те слова, которые ему тогда было необходимо услышать.– Это какие же?
– Я дал ему совет: кончай с граффити, забудь о баллончиках, берись за масляные краски, становись за мольберт. Сказал, что у него талант по части формы, цвета, композиции, движения. Что ему по плечу встать в один ряд с Поллоком и де Кунингом[16 - Пол Джексон Поллок – крупный американский художник первой половины ХХ в., идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма. Виллем де Кунинг – ведущий художник и скульптор второй половины ХХ в., один из лидеров абстрактного экспрессионизма.].
Вспоминая своего бывшего протеже, Бенедик говорил дрожащим голосом, даже, случалось, смахивал слезу. Маделин вспомнила одну свою бывшую подругу, которая спустя годы после расставания с мужчиной, хладнокровно ее бросившим, говорила о нем с рыданием в голосе.
Одним глотком осушив чашечку ристретто, она спросила:
– Лоренцу сразу понравилось во Франции?
– Шон был особенным человеком. Одиночка, совсем не такой, как другие граффити-художники: терпеть не мог культуру хип-хопа, много читал, слушал только джаз и современную экспериментальную музыку. Скучал по Нью-Йорку, не без того, но оставался по уши влюблен в свою Пенелопу. Их отношения всегда были бурными, но она не переставала его вдохновлять. Между тысяча девятьсот девяносто третьим и две тысячи десятым он написал двадцать один ее портрет. Цикл «Пенелопа» – его шедевр. Он останется в истории живописи как одно из самых пылких и оглушительных признаний в любви к женщине.
– Почему двадцать одна? – спросила Маделин.
– Из-за теории двадцати одного грамма. Ну, вы знаете: предполагается, что столько весит человеческая душа…
– Лоренц сразу добился успеха?
– Какое там сразу! За десять лет не продал практически ни одной картины! А ведь он каждый день трудился с утра до вечера. Ему часто доводилось рвать готовую работу, потому что она его не устраивала. Моей обязанностью было знакомить коллекционеров с живописью Шона и объяснять ее. Сначала это было нелегко, потому что она ни на что не походила. Потребовалось целых десять лет, чтобы из этой затеи вышел толк. В конце концов мое упрямство принесло плоды. С начала двухтысячных на всех выставках Шона происходило одно и то же: уже в вечер вернисажа все картины оказывались раскуплены. А в две тысячи седьмом…
6
В 2007 году «Алфавит-Сити», картина Шона Лоренца 1998 года, была продана на аукционе «Аркурьяль» за 25 тысяч евро. Это привело к настоящему взрыву стрит-арта во Франции и положило начало подлинному признанию художника. Буквально за один день Шон Лоренц стал звездой аукционов. Его красочные картины, типичные для 90-х годов, расходились на ура и били все ценовые рекорды.
Но с точки зрения живописи художник уже сделал следующий шаг. Адреналин и торопливость граффити уступили место более продуманным полотнам, на которые уходило по нескольку месяцев, а то и лет – так сильно возросла его требовательность к себе. Если работа его не устраивала, он ее немедленно уничтожал. С 1999-го по 2013 год Лоренц уничтожил больше двух тысяч таких работ. Его суровый суд выдержали только четыре десятка. К ним относится Sep1em1er, монументальное полотно о трагедии Всемирного торгового центра, приобретенное за 7 миллионов долларов коллекционером, потом преподнесшим его в дар нью-йоркскому музею 11 сентября 2001 г.
Гаспар оторвался от текста и стал переворачивать страницы, знакомясь с репродукциями картин этого периода. Лоренц сумел переродиться. Вместо графических знаков организующими центрами его картин стали разноцветные блоки, рельефные одноцветные плоскости, наложенные шпателем или ножом. Все это бесконечно колебалось между абстракцией и фигуративным искусством. Его палитра утратила часть былой живости, в ней прибавилось пастельных, осенних тонов – песка, охры, каштана, пудрово-розовых оттенков, а вместе с ними изощренности. Гаспара покорили работы этого периода. Их ископаемый перламутр вызывал у него образы скал, земли, песка, стекла, пятен запекшейся крови на погребальном саване…
Картины Лоренца казались живыми, они докапывались до самого нутра, от них сжималось сердце, подкашивались ноги, они гипнотизировали, порождали вихрь самых противоречивых чувств: грусти, радости, успокоения, ярости.
Монография завершалась репродукциями работ 2010 года. В них на передний план выходил сам материал: плотные слои, рельефность, порождавшая игру света. От этого полотна становились еще роскошнее.
Закрывая книгу, Гаспар недоумевал, как он умудрился так долго жить, не зная о существовании такого художника.
7
– Как Лоренц относился к деньгам? – спросила Маделин.
Бенедик с опаской, самым краешком, будто в чашечке была водка, окунул в коф
Сторінка 16
кусочек сахара.– Деньги служили Шону термометром свободы, – стал объяснять он, посасывая сахар. – Другое дело – Пенелопа: той всегда было мало. В конце первого десятилетия двухтысячных, когда вещи Шона котировались выше всего, она усиленно интриговала, чтобы побудить мужа передать часть работ Фабиану Закарьяну, нью-йоркскому галерейщику. Потом она уговорила его продать напрямую с аукциона, минуя мою галерею, пару десятков новых картин. Шон заработал на этом миллионы, но испортил отношения со мной.
– Каким образом цена той или иной картины в один прекрасный день взлетает до миллионов долларов? – поинтересовалась Маделин.
Бенедик вздохнул.
– Хороший вопрос! Вот только на него очень трудно ответить, потому что рынок произведений искусства не подчиняется рациональным законам. Цена произведения – результат сложной стратегии разных участников рынка: это, конечно, сами художники, потом – владельцы галерей, но также и коллекционеры, критики, хранители музеев…
– Представляю, как вас подкосила измена Шона!
Галерист скорчил гримасу, но остался верен своему фаталистическому подходу.
– Такова жизнь. Художники как дети – часто проявляют неблагодарность. – Немного помолчав, он решил уточнить: – Мир художественных галерей – это, знаете ли, все равно что бассейн с акулами. Таким, как я, пришлым в этой среде, приходится особенно нелегко.
– Но вы хотя бы сохранили с ним связь?
– Конечно. Мы с Шоном были давними друзьями. Двадцать лет ссор и примирений – не шутка! Мы не перестали разговаривать ни после эпизода с Закарьяном, ни после случившейся с ним трагедии.
– Что за трагедия?
Бенедик шумно вздохнул.
– Шон и Пенелопа всегда хотели ребенка, но никак не получалось. Десять лет – выкидыш за выкидышем. Я уже думал, что они бросили эту затею, и тут происходит чудо: в октябре две тысячи одиннадцатого года Пенелопа производит на свет сына, малютку Джулиана. Тут-то и начались беды.
– Какие беды?
– Когда у Шона родился сын, он был счастливейшим из людей. Твердил, что общение с сыном его обогащает, что благодаря Джулиану он по-новому взглянул на мир, заново открыл для себя некоторые забытые ценности и вспомнил вкус простых вещей. Вам, наверное, доводилось слышать подобную болтовню от мужчин, поздно ставших отцами.
Маделин ничего не ответила, и он продолжил:
– Проблема в том, что в творческом смысле у него начался тогда период пустоты. Он объяснял это тем, что утратил творческий порыв, устал от лицемерия мира искусства. Три года занимался исключительно сыном. Представляете? Великий Шон Лоренц дает младенцу соску, гуляет с коляской, развлекает ясельную группу! Все его творчество свелось к прогулкам с маленьким Джулианом по Парижу и к рисованию в произвольных местах безумных мозаик – это, видите ли, забавляло его сынишку! Полная бессмыслица!
– Если у него не было вдохновения… – попробовала возразить Маделин.
– Вдохновение – чушь! – взвился галерист. – Вы видели его работы. Шон был гением. А гению не нужно вдохновение, чтобы творить. Когда ты Шон Лоренц, ты не перестаешь рисовать. Нет у тебя такого права, и точка!
– Выходит, есть. – Маделин вздохнула и, не обращая внимания на негодующую гримасу Бенедика, спросила: – Лоренц не возвращался к работе до самой смерти?
Бернар Бенедик покачал головой, снял толстые очки и протер глаза. Он так пыхтел, будто преодолел пешком несколько этажей.
– Два года назад, в декабре две тысячи четырнадцатого года, Джулиан погиб при трагических обстоятельствах. С этого момента Шон не просто забросил работу, а буквально пошел ко дну.
– Что за трагические обстоятельства?
Несколько секунд галерист отводил взгляд, потом с тоской посмотрел на собеседницу.
– Шон всегда был сгустком силы и слабости, – сказал он, не отвечая на ее вопрос. – После смерти Джулиана он взялся за старое: наркотики, алкоголь, таблетки. Я помогал ему как мог, но он, по-моему, не хотел выкарабкиваться.
– А Пенелопа?
– Их брак давно трещал по швам. Когда произошла драма, она воспользовалась этим, чтобы потребовать развода, а потом быстро устроила свою жизнь заново. То, чем занимался после этого Шон, еще больше отдалило их друг от друга.
Галерист выдержал паузу, намеренно наводя туман. У Маделин появилось неприятное чувство, что ею манипулируют, но ее любопытство достигло предела.
– Чем же занимался Шон?
– В феврале две тысячи пятнадцатого года мне удалось наконец запустить проект, который я давно вынашивал: я устроил крупную выставку, центром которой стал цикл Шона «Двадцать одна Пенелопа». Впервые все эти картины, двадцать одна штука, выставлялись в одном месте. Нам предоставили полотна из своих собраний уважаемые коллекционеры. Беспрецедентное событие! Но накануне открытия выставки Шон проник в галерею и сознательно изуродовал при помощи паяльника все до одной картины.
Лицо Бенедика сморщилось, как печеное яблоко: он снова переживал весь этот ужас.
– Почему он так поступил?
– Катарсис – так я это понимаю. Желание символически расправиться с Пенелопо
Сторінка 17
, которую он винил в гибели Джулиана. Но чем бы он ни руководствовался, я никогда ему этого не прощу. У Шона не было права уничтожать картины. Во-первых, потому, что они были частью достояния мировой культуры. А во-вторых, своей выходкой он меня разорил, чуть не обрек на закрытие мою галерею. Вот уже два года меня донимают страховые компании. Ведется расследование. Я старался отстоять свою репутацию, но в мире искусства дураки не водятся, и доверие ко мне резко упало…– Что-то я не пойму, – перебила его Маделин. – Кому принадлежали картины цикла?
– Большая часть – Шону, Пенелопе и мне. Но три картины взяли из своих собраний крупные коллекционеры: русский, китаец, американец. Чтобы они не подавали иски, Шон пообещал преподнести им в дар свои новые картины, которые непременно превзойдут утраченные. И, конечно, их все не было и не было…
– Откуда им было взяться, если он забросил живопись!
– Вот именно. Я поставил на этих картинах крест, тем более что в последние месяцы жизни Шон, думаю, уже не мог рисовать просто физически. – Взгляд Бенедика опять увлажнился. – Последний год его жизни был по-настоящему мучительным. Он перенес две операции на отрытом сердце, и обе чуть не привели к летальному исходу. Накануне его смерти у нас был телефонный разговор. Он улетел на несколько дней в Нью-Йорк, на консультацию к кардиологу. В том разговоре он сообщил мне, что вернулся к творчеству и уже закончил три полотна. Они, мол, в Париже, скоро я их увижу.
– Вдруг это не соответствовало действительности?
– Шон Лоренц грешил всеми мыслимыми грехами, кроме одного – лживости. После его смерти я искал эти картины где только мог: по всему его дому, на чердаке, в подвале. Но так ничего и не нашел.
– Вы сказали, что он назначил вас своим душеприказчиком и наследником.
– Так и есть, но наследство Шона оказалось скромнее некуда, Пенелопа успела здорово его пощипать. Известный вам заложенный дом на Шерш-Миди – только и всего.
– Кроме этого, он ничего вам не завещал?
Бенедик расхохотался.
– Вот, извольте полюбоваться. – Он извлек из кармана небольшой предмет и протянул его Маделин.
Это был рекламный спичечный коробок.
– Что за «Гран-кафе»?
– Ресторан на Монпарнасе, завсегдатаем которого был Шон.
Маделин перевернула коробок и обнаружила надпись шариковой ручкой, знаменитую цитату из Гийома Аполлинера: «Пора опять зажечь на небе звезды»[17 - Г. Аполлинер. Сосцы Тиресия, 1917 г. – Прим. автора.].
– Это, без сомнения, почерк Шона, – заверил ее галерист.
– И вы не можете расшифровать этот намек?
– Никак не могу! Думаю, это какое-то послание, но, сколько ни ломаю голову, не понимаю, о чем оно.
– Этот коробок предназначался именно вам?
– Во всяком случае, в сейфе, кроме него, ничего не было.
Оставив на столе две купюры, Бернар Бенедик встал, натянул куртку и замотал шею шарфом.
Маделин осталась сидеть, молча глядя на коробок. Казалось, она переваривает услышанное от галериста. Наконец она встала.
– Зачем, собственно, вы все это мне выложили?
Бенедик застегнул куртку и ответил так, словно другого ответа быть не могло:
– Ясное дело, чтобы вы помогли мне отыскать пропавшие картины!
– Почему я?
– Вы же из полиции? И потом, вспомните мои слова: я доверяю своему инстинкту. Что-то мне подсказывает, что если эти картины существуют – а я уверен, что так оно и есть, – то никто не сумеет сделать это лучше, чем вы.
3. Краса струн
Если бы можно было выразить это словами, не было бы никаких причин это рисовать.
Эдвард Хоппер[18 - Американский художник середины ХХ в., один из крупнейших урбанистов.]
1
Свернув с кругового перекрестка, Маделин разогналась и на пересечении с аллеей Лоншан проехала на красный свет.
После обеда с галеристом она арендовала на авеню Франклина Рузвельта скутер. Не желая тратить время на споры с хмурым американцем о преимущественном праве жить в мастерской Лоренца, она задержалась у рождественских прилавков на Елисейских Полях. Прогулка заняла всего четверть часа: деревянные теремки вдоль «прекраснейшей на свете улицы», как хвастливо прозвали себя Елисейские Поля, нагнали на нее тоску. Там торговали главным образом жареной картошкой и китайскими поделками. От запаха сосисок и приторных чуррос ее затошнило. Атмосфера была скорее ярмарочная, мало походившая на снежное Рождество из ее любимых детских сказок.
Она заглянула в большой универмаг, откуда вышла разочарованная, потом попытала счастья в окрестностях площади Вогезов. Но и здесь, как и на Елисейских Полях, не обнаружила то, что искала: хотя бы немного волшебства, намек на мир чуда, чуточку рождественского очарования из старинных рождественских гимнов. Впервые Маделин, находясь в Париже, не чувствовала душевного подъема. Ей было здесь нечего делать.
Снова оседлав «Веспу», она унеслась прочь, не куда-то конкретно, а лишь бы подальше от скопления туристов с их утомительным щебетом и палками для селфи, которыми они так и норовили ткнуть ее в глаз. В глазах все еще пес
Сторінка 18
рели причудливые узоры с полотен Лоренца. Маделин вдруг отдала себе отчет, что ее единственное желание – продолжить это путешествие вместе с художником, уплыть вдаль на волнах света, потеряться в оттенках его палитры, зажмуриться от его слепящих красок. Но ей вспомнилось предупреждение Бернара Бенедика: «В Париже есть одно-единственное место, где можно попробовать увидеть полотно Шона Лоренца». Решив попытать счастья, Маделин поехала в Булонский лес.Не очень хорошо зная те края, она слезла со скутера, как только высмотрела место, где его можно было оставить – у решетки Ботанического сада, – и пошла пешком по проспекту Махатмы Ганди.
Солнце окончательно разогнало серый туман. Стало тепло. Во влажном воздухе висела золотая пыль. Вокруг парка не было ни профсоюзных активистов, ни рассерженных демонстрантов. Обстановка была вполне детская, звуки тоже: коляски, няни, крики малышей и торговцев каштанами.
Вдруг среди голых ветвей показался огромный стальной корабль. На фоне лазурного неба сверкал хрустальными парусами музей фонда Луи Вуиттон. Это сооружение можно было сравнить с чем угодно в зависимости от игры воображения: и с огромной стеклянной раковиной, и с пустившимся в плавание айсбергом, и с суперсовременным парусником под перламутровым флагом.
Маделин купила билет и вошла внутрь. Из просторного, светлого, воздушного холла можно было пройти в оранжерею. Сразу почувствовав себя в этом огромном стеклянном коконе как дома, она провела несколько минут во внутреннем дворе, наслаждаясь гармонией изгибов и воздушной грацией всего здания. Стеклянные плоскости перекрытий отбрасывали колеблющиеся, текучие тени, отражались от пола, влекли и согревали.
Поднявшись по лестнице, Маделин попала в общий для дюжины экспозиционных залов опаловый лабиринт со световыми колодцами. Здесь было много всячины: и временные выставки, и постоянная экспозиция. На двух первых уровнях можно было любоваться шедеврами собрания Щукина: сказочными полотнами Сезанна, Матисса, Гогена, которые русский коллекционер собирал около двадцати лет, пренебрегая мнением тогдашних критиков.
Продолжениями верхнего этажа, проткнутого стальными балками и брусьями из лиственницы, служили две террасы, с которых открывались неожиданные виды на квартал Дефанс, Булонский лес и Эйфелеву башню. Вместе с бронзой Джакометти, тремя абстракциями Герхарда Рихтера[19 - Современный немецкий художник.] и двумя монохромными работами Эльсуорта Келли[20 - Современный американский художник-минималист, скульптор.] здесь были вывешены две картины Лоренца.
2
Устроившись в шезлонге из потрескавшейся кожи и закинув ноги на оттоманку, Гаспар слушал с закрытыми глазами интервью Шона Лоренца – запись на старомодную кассету, которую он нашел среди пластинок в библиотеке.
Эта долгая беседа с Жаком Шанселем была записана семь лет назад во время ретроспективной выставки Лоренца в Фонде Майо в Сен-Поль-де-Венсе[21 - Музей, который называют Лувром Лазурного Берега благодаря большому количеству значительных произведений изобразительного искусства, хранящихся в нем. В экспозиции картины Боннара, Брака, Матисса, Шагала, Кандинского, Леже. Скульптуры и мозаика Миро, Арпа, Колдера, Джакометти.]. Разговор получился захватывающий, тем более что Лоренц, не отличавшийся болтливостью, редко соглашался комментировать свое творчество. Отвергнув почти все интерпретации своего творческого пути, он предупредил: «Моя живопись спонтанна и не несет никакого послания. Ее назначение – поймать неуловимое и притом неизменное». Некоторые его ответы свидетельствовали об усталости, сомнениях, страхе, о том, что он, согласно его собственному откровенному признанию, «достиг конца творческого цикла».
Гаспар упивался его речью. Лоренц отказывался дарить интервьюеру ключ от своей живописи, зато был совершенно искренен. В его голосе – то обволакивающем, то колдовском, то волнующем – слышалась двойственность, столь характерная для его искусства.
Внезапно блаженный покой нарушили громкие, резкие звуки. Гаспар вскочил и выбежал на террасу. От «музыки», доносившейся, судя по всему, из одного из ближайших домов, содрогалось все вокруг. Грохот был вульгарный, перенасыщенный, так могли звучать тысячекратно усиленные кошачьи вопли на крыше. «Как можно наслаждаться этим кошмаром?» – подумал он, чувствуя отчаяние и безнадежность. Нигде не найти ни минуты покоя! Сражение, еще не начавшись, было проиграно. Мир полон кретинов всех мастей, он буквально кишит засранцами! Бал правят надоедливые, несносные субъекты, зануды и олухи. Их и так пруд пруди, так они еще ускоренно плодятся! Неудивительно, что полная и окончательная победа всегда за ними!
Задыхаясь от ненависти, Гаспар выбежал из дома и уже через несколько секунд стоял перед берлогой, откуда доносилась чертова какофония, – ближайшей буколической избушкой, просевшей под тяжестью густого дикого винограда. Гаспар дернул за шнурок ржавого колокольчика на каменной стойке калитки. Никто не появился. Он перелез через низенькую ограду, пересек сад
Сторінка 19
к, взбежал на крыльцо и забарабанил кулаком в дверь.Когда дверь открылась, Гаспар чуть не свалился с крыльца от удивления. Он ждал стычки с прыщавым юнцом с «косяком» в углу рта, с надписью Iron Maiden на черной майке. Но перед ним стояла миловидная молодая женщина в темной блузке с закругленным отложным воротничком, в твидовых шортах и в кожаных мокасинах на шнурках.
– С ума, что ли, сошли?! – Для большей выразительности он покрутил пальцем у виска.
Она удивленно сделала шаг назад и расширила глаза.
– Музыка! – завопил он. – Думаете, вы здесь одни?!
– Разве нет?
Гаспар уже решил, что над ним издеваются, но она вовремя нажала на кнопку пульта, который держала в руке.
– Наконец-то оглушающая тишина!
– Я вычитываю диссертацию. Думала, что все уехали на каникулы, и в паузе немного переборщила со звуком, – проговорила она извиняющимся тоном.
– Отдых под хард-рок?
– Строго говоря, это не хард-рок, а блэк-металл.
– Разве есть разница?
– Ну это очень просто: хард…
– Знаете что? Мне плевать! – перебил ее Гаспар. – Если вам нравится, можете и дальше портить себе барабанные перепонки, только сперва соблаговолите купить наушники, чтобы не гробить окружающих.
Молодая женщина искренне расхохоталась.
– Вы так невежливы, что это даже забавно!
Уже было направившийся к себе, Гаспар обернулся, сбитый с толку словами девушки. Заодно оглядел с головы до ног: волосы скромно собраны в узел, прикидывается скромной студенткой, но при этом пирсинг в носу и татуировка, начинавшаяся за ухом и уходившая под блузку.
«А ведь она права…» – пронеслось у него в голове.
– Согласен, я перегнул палку, но и вы, с этой своей музыкой…
Она, продолжая улыбаться, протянула ему руку и представилась:
– Полин Делатур.
– Гаспар Кутанс.
– Вы поселились в бывшем доме Шона Лоренца?
– Арендовал его на месяц.
От порыва ветра хлопнул ставень. Полин переминалась на голых ногах и ежилась.
– Дорогой сосед, я сейчас окоченею. С удовольствием угощу вас кофе, – сказала она, стуча зубами и зябко потирая предплечья.
Гаспар кивнул в знак согласия и последовал за ней в дом.
3
Маделин застыла перед двумя картинами Лоренца, как околдованная. Одна, датированная 1997 годом, называлась CityOnFire, «Город в огне». Это была большая фреска, типичная для периода стрит-арт в творчестве Лоренца: пылающий костер, пожирающий холст, взрыв красок в гамме от желтой до алой. Вторая картина, «Материнство», была гораздо свежее, интимнее, строже: светло-голубая, почти белая, поверхность, пересекаемая кривой, повторяющей контуры живота беременной женщины. Трудно было придумать для этого образа какое-то другое название. Судя по настенной пластинке, это была последняя известная картина Лоренца, написанная незадолго до рождения его сына. В отличие от соседней картины, на этой на чувства давили не краски, а свет.
Повинуясь внутреннему зову, Маделин подошла к картине вплотную. Свет был неодолимым магнитом. Ее гипнотизировали материал, текстура, насыщенность, тысячи мельчайших нюансов полотна. Картина была живой. В считаные секунды она превращалась из белой в голубую, потом в розовую. Это была воплощенная эмоция, но воздушная, неуловимая. Живопись Лоренца умиротворяла, чтобы через несколько мгновений навеять тревогу.
Эта неопределенность и оказывала на Маделин такое необыкновенное воздействие. Как это возможно? Она хотела отойти назад, но ноги отказывались слушаться. Она стала пленницей картины, и не сказать, что невольной: ей хотелось погрузиться в источаемый ею свет, еще раз испытать небывалое, умиротворяющее головокружение. Хотелось остаться в этом амниотическом, регрессивном пространстве, пронзавшем ее, вскрывавшем в ней самой многое, о чем она раньше не подозревала.
Некоторые из этих открытий были прекрасными, некоторые уродливыми.
4
Дом Полин Делатур начинался с кухни. Там сразу чувствовался уют, манящий сельский стиль: массивный деревянный рабочий стол, пол из шероховатых плит, клетчатые занавески. На полках пестрели эмалированные дощечки, громоздилась сломанная кофемолка, пузатые керамические банки, старые медные кастрюли.
– У вас мило. Но обстановка сбивает с толку. Так и слышится Жана Ферра[22 - Французский композитор и поэт-песенник.], а не ваш грохочущий блэк-метал, – поддел он ее.
Улыбчивая Полин сняла с конфорки итальянский кофейник и наполнила две чашки.
– Если честно, дом не мой. Владелец – итальянский бизнесмен, коллекционер живописи, получивший его в наследство и познакомивший меня с Шоном Лоренцом. Он никогда здесь не бывает. Продавать дом не хочет, поэтому ему нужен кто-то для охраны и ухода. Вечно это продолжаться не может, но глупо было бы не воспользоваться ситуацией хотя бы временно.
Гаспар взял из ее рук чашечку с кофе.
– Насколько я понимаю, вы здесь живете благодаря Лоренцу.
Полин привалилась спиной к стене и подула на горячий кофе.
– Да, это он уговорил итальянца оказать мне доверие.
– Как вы с ним познакомились?
– С Шоном? Это было за тр
Сторінка 20
-четыре года до его смерти. В первые годы учебы я подрабатывала позированием для студентов Академии изящных искусств. Однажды там давал мастер-класс Шон. Так мы познакомились и подружились.Гаспар из любопытства уставился на винные бутылки в клети из кованой стали.
– Никуда не годится, в рот не возьмешь! – поморщился он. – В следующий раз я принесу вам бутылочку настоящего вина.
– Буду рада. Мне необходимо горючее, иначе диссертация буксует. – Она с улыбкой указала на рабочий стол, где поблескивал заваленный книгами серебристый ноутбук.
– Над чем трудитесь?
– «Практика кинбаку в Японии периода Эдо: военное применение и искусство любви».
– Кинбаку? Никогда о таком не слышал.
Полин поставила пустую чашку в раковину и бросила на нового соседа загадочный взгляд.
– Идемте, я покажу.
5
За стеклом пламенели красные дубы и клены. Черные силуэты сосен напоминали театр теней.
Маделин смотрела ничего не видящим взглядом на солнце, заходившее за музыкальный киоск на лужайке Ботанического сада. Было уже около пяти часов вечера. Она сидела за столиком ресторана «Фрэнк», под ажурным навесом атриума, и пила маленькими глотками черный чай. Вот уже несколько минут ее не покидала волнующая мысль. Что, если Бернар Бенедик сказал ей правду? Вдруг три последние картины Шона Лоренца действительно пропали? Картины, которых не видела ни одна живая душа? Она поежилась. У нее не было ни малейшего желания превращаться в инструмент в руках хитрого галерейщика, но если картины и впрямь существовали, она была бы счастлива оказаться тем человеком, который их найдет.
Ее охватило непривычное возбуждение. Это было сродни отклику на зов охотничьего рога. Когда-то это чувство было ей знакомо, и она была рада его возвращению. Вряд ли оно сильно отличалось от того творческого подъема, который водил рукой Шона Лоренца, когда тот разрисовывал вагоны подземки в начале 90-х. Это была радость от опасности, опьянение страхом, воля любой ценой добиться своего.
Она вошла на смарфтоне в Интернет. Статья о Лоренце в Википедии начиналась стандартно:
«Шон Пол Лоренц, известный в начале карьеры под именем Lorz74, граффити-художник и живописец, родился 8 ноября 1966 г. в Нью-Йорке и умер там же 23 декабря 2015 г. Последние двадцать лет жизни жил и работал в Париже».
Резюме на несколько десятков строк представляло, без сомнения, интерес, но не содержало почти ничего сверх того, что поведал Маделин Бенедик. Только в конце она наткнулась на сведения, которые искала:
«Дело Джулиана Лоренца
Преступление
12 декабря 2014 г., когда Шон Лоренц находился в Нью-Йорке для участия в ретроспективной выставке своих работ в Музее современного искусства, его жену Пенелопу и сына Джулиана похитили в Верхнем Вест-Сайде. Через несколько часов у художника потребовали многомиллионный выкуп. Требование сопровождал отрезанный палец ребенка. Деньги были уплачены, но освобождена одна Пенелопа. Сына убили у матери на глазах.
Виновный
Расследование быстро установило личность похитителя, так как
[…].
6
Гостиная Полин Делатур с длинным оливковым брусом под потолком создавала впечатление не семейного гнездышка, а современного лофта с соответствующим декором. Все стены здесь были покрыты фотографиями связанных обнаженных женщин, подвешанных к потолку при помощи причудливой сбруи – широких поясов с бесчисленными веревочными узлами. Лица бедняжек были перекошены – то ли от наслаждения, то ли от нестерпимой боли.
– Первоначально кинбаку было древним японским боевым искусством, – принялась объяснять Полин с ученым видом. – В него входило мастерство связывания высокопоставленных пленников. В течение столетий оно превратилось в изощренную эротическую практику.
Сначала Гаспар разглядывал фотографии настороженно. Подчинение и доминирование никогда его не привлекали.
– Знаете, что говорит великий кинорежиссер Грегг Араки? – спросила девушка. – «Путы должны быть на женском теле как ласки».
Постепенно Гаспар освоился и забыл про страх. Как ни странно, он был вынужден признать, что эти фотографии удивительно красивы. Объяснить это было трудно, но в них не было ни вульгарности, ни жестокости.
– Кинбаку – очень сложное искусство, – не унималась Полин. – Ничего общего с садо-мазо. Я веду специальные курсы в двадцатом округе. Обязательно приходите! Испытать это самому полезнее, чем сеанс психоанализа.
– Как относился к таким вещам Шон Лоренц?
Полин грустно усмехнулась.
– Шон вышел из джунглей: Нью-Йорк восьмидесятых и девяностых годов был настоящими джунглями. Разве такое могло его напугать?
– Вы были близки?
– Говорю же, мы дружили. Он говорил, что испытывает ко мне доверие. Во всяком случае, иногда он поручал мне присмотреть за его сыном. – Полин присела на ступеньку приставной лесенки у стены. – Вообще-то я не любительница маленьких детей, – призналась она. – Но малыш Джулиан – другое дело: необыкновенный был мальчуган! Живой, умница, просто прелесть!
Гаспар заметил, что ее лицо, и
Сторінка 21
так молочно-белое, еще сильнее побледнело.– Почему «был»?
– Потому что Джулиана убили. Вы не знали?
Гаспару трудно было устоять на ногах, и он, пододвинув себе необструганный табурет, неуклюже плюхнулся на него и наклонился вперед.
– Мальчика с фотографий, которых полон дом, нет в живых?
Полин, не сводя с него глаз, боролась с побуждением начать грызть свои покрытые гранатовым лаком ногти.
– Ужасная история! Джулиана похитили в Нью-Йорке и зарезали на глазах у матери.
– Кто на такое пошел?
Полин вздохнула:
– Старая знакомая Шона, отсидевшая в тюрьме. Художница родом из Чили, известная под псевдонимом LadyBird. Она сделала это из мести.
– За что она мстила?
– Честно говоря, я почти ничего не знаю, – сказала она, вставая. – В ее мотивах очень трудно разобраться.
Полин вернулась в кухню, Гаспар притащился туда следом за ней.
– Лучше вернемся к Шону. После гибели сына он уже не стал таким, каким был раньше. Не только забросил живопись, но буквально угасал от горя. Я ему помогала как могла: делала покупки, заказывала еду, вызывала Диану Рафаэль, когда ему требовались лекарства.
– Кто это? Врач?
Она утвердительно кивнула.
– Психиатр, давно его наблюдавшая.
– А его жена?
Полин опять вздохнула:
– Пенелопа сбежала с корабля, как только представилась возможность. Но это совсем другая история.
Гаспар открыл было рот, но поспешно прикусил язык, чтобы не проявлять излишней назойливости. Он догадывался, что в рассказе Полин хватает темных мест, но не выносил любопытных и сам не хотел им уподобляться. Поэтому следующий его вопрос был про другое:
– Что же, до самой смерти Лоренц больше не написал ни одной картины?
– Насколько я знаю, нет. Прежде всего из-за серьезных проблем со здоровьем. И вообще, было похоже, что живопись перестала его интересовать. Живопись и все остальное. Даже в детском саду Джулиана, где он продолжал вести раз-два в неделю занятия, он не прикасался к кисти.
Помолчав минуту-другую, она добавила, словно вдруг вспомнила:
– А вообще-то, в последние дни перед его смертью происходило нечто странное… – Она указала подбородком на дом художника за окном. – Несколько ночей подряд у него до самого утра играла музыка.
– Что же в этом странного?
– Дело в том, что Шон слушал музыку, только когда рисовал. Меня удивляло даже не столько то, что он опять взялся за кисть, а то, что он делал это ночью. Шон был фанатиком света. Я видела его работающим только днем.
– Какую музыку он слушал?
Полин улыбнулась.
– Думаю, вам бы понравилось. Никакого блэк-метал: Пятая симфония Бетховена и прочее в том же духе, я всего этого не различаю, а он знай гонял без устали…
Она достала телефон и помахала им у Гаспара перед носом.
– Я любопытная, не поленилась погуглить.
Он понятия не имел, что значит это слово, но не подал виду.
Полин нашла то, что хотела.
– «Каталог птиц» Оливье Мессиана[23 - Французский композитор, органист, орнитолог.] и Вторая симфония Гюстава Малера.
– Он говорил, что работает? Может, он просто слушал музыку?
– Вот и мне не давал покоя этот вопрос. Настолько, что я вышла как-то ночью, обошла его дом и забралась по пожарной лестнице наверх, к самому стеклу его мастерской. Подглядывать, конечно, нехорошо, но поймите мое любопытство: если Шон написал новую картину, я хотела ее увидеть первой.
Представив Полин за исполнением акробатического номера, Гаспар не удержался от улыбки. Живописи Лоренца и впрямь были присущи невероятные чары.
– Стоя на верхней ступеньке лестницы, я прилипла носом к стеклу. В мастерской не горел свет, но Шон стоял перед холстом.
– Он работал в темноте?
– Знаю, это кажется бессмыслицей, но у меня возникло впечатление, что свет исходит от самого холста. Живой, волнующий свет, озарявший его лицо.
– Что это было?
– Я не успела рассмотреть: лестница затрещала, Шон оглянулся. Я испугалась и кубарем скатилась вниз. Вернулась сюда, стыдясь своей трусости.
Гаспар не сводил глаз с этой странной особы: провокаторши, интеллектуалки, умницы и при этом представительницы чуждого ему андеграунда. Такая не могла не нравиться мужчинам. Лоренц уж точно был среди них. Внезапно ему на ум пришел вопрос, вернее, желание убедиться, что он не ошибается.
– Шон Лоренц никогда не просил вас ему позировать?
Полин сверкнула глазами и ответила:
– Он сделал кое-что получше.
Она расстегнула блузку и предъявила свою татуировку – не полностью, но и предъявленного хватило, чтобы оценить великолепие этой работы. Кожа девушки была превращена в живой холст, сияющий ослепительными красками цепочки цветочных узоров, извивавшейся от шеи до поясницы и, возможно, дальше.
– Полотна Лоренца часто называют живыми, но это неточно. Единственное живое произведение Шона Лоренца – я.
4. Двое чужих в доме
Я глубокий оптимист без малейшего повода.
Фрэнсис Бэкон
1
Маделин вернулась уже в темноте. Она постаралась свести к минимуму возможность столкнуться с Гаспаром Кутансом, но
Сторінка 22
олностью ее избежать было нельзя. Втайне она надеялась, что драматург откажется от своих прав на мастерскую, но, оставляя на вешалке куртку, увидела в кухне его нескладный силуэт.Чтобы попасть в кухню, нужно было миновать гостиную, где она задержалась, разглядывая фотографии в американских рамках из светлой древесины. Теперь, когда она знала, что маленького Джулиана нет в живых, эти фотографии, раньше вызвавшие у нее прилив нежности, теперь навевали мрачное, кладбищенское настроение. Оно распространялось и на сам дом, казавшийся ей теперь холодным, гнетущим, тоскливым. Убедившись, что прежнее очарование прошло, Маделин приняла радикальное решение.
Кутанс приветствовал ее появление ворчанием. Мятыми джинсами, рубашкой дровосека, двухнедельной щетиной и видавшими виды ботинками Timberland он сильно смахивал на лесного отшельника, хотя это совсем не вязалось с его репутацией драматурга-интеллектуала. Стоя у кухонного стола, он сосредоточенно, уверенными движениями нарезал лук под тихую ненавязчивую музыку из старого транзисторного приемника. Перед ним, рядом с большим крафтовым пакетом, были выложены покупки: оливковое масло, гребешки, кубики куриного бульона, трюфель.
– Что вы готовите?
– Тритараки с трюфелями. Это греческое мучное блюдо, готовится как ризотто. Поужинаете со мной?
– Нет, благодарю.
– Держу пари, вы вегетарианка, поедательница киноа, водорослей, пророщенных зерен и всего такого…
– Ничего подобного! – сухо осадила она его. – Хочу предупредить вас насчет дома: я оставляю его вам. Поживу в другом месте. Собственник предложил мне компенсацию, и я намерена принять предложение.
Он удивленно уставился на нее:
– Разумное решение.
– Я попрошу вас предоставить мне два дня, чтобы все утрясти. Пока что я буду ночевать на втором этаже. Кухню придется делить на двоих, остальной дом в вашем распоряжении.
– Это мне подходит, – согласился Гаспар и сбросил лезвием ножа в кастрюлю нарезанный лук. – Что вас побудило передумать?
Немного поколебавшись, она сказала правду:
– Я побоялась остаться на четыре недели в доме, где бродит призрак погибшего ребенка.
– Вы говорите о маленьком Джулиане?
Маделин утвердительно кивнула. За следующие четверть часа они, перебивая друг друга, пересказали все, что успели узнать о жизни и волшебном искусстве Шона Лоренца, а также о его последних, пропавших, картинах.
Отклонив предложенный бокал вина, Маделин забрала из холодильника пластмассовый контейнер, который там оставляла. Потом сослалась на сильную усталость и отправилась спать.
2
Деревянная лестница в логово Лоренца вела прямо в мастерскую под стеклянным фонарем. Из самой красивой комнаты сразу можно было попасть в другую, скромных размеров, но удобную – спальню с собственной ванной комнатой. Маделин разложила кое-какие вещи, достала из шкафа чистое белье. Потом, вымыв руки, села спиной к окну за маленький письменный стол. Сначала она сняла свитер и блузку, потом достала из контейнера ампулу и шприц. Удалив защитную оболочку шприца, она установила иглу, сняла крышечку и легонько пощелкала ногтем по поршню, чтобы поднялись пузырьки воздуха. Потом протерла смоченной спиртом ваткой место на животе, куда решила сделать укол. Несмотря на включенное отопление, она дрожала всем телом. Ломило кости, кожа покрылась пупырышками. В момент инъекции она старалась унять дрожь. Страх боли – сущее наказание! Во время службы в полиции ей случалось попадать в очень опасные ситуации: она получала прикладом по затылку, пуля царапала ей висок – а могла бы снести полчерепа, она сходилась лицом к лицу с худшими подонками Манчестера. И всякий раз одолевала свой страх. Откуда же этот трепет перед жалкой иглой?
Маделин зажмурилась. Выровнять дыхание. Уколоться. Вынуть иглу. Зажать место укола ваткой, чтобы остановить кровь.
Она растянулась на кровати, вся дрожа. Как этим утром на вокзале, у нее было чувство, что она сейчас умрет. Те же омерзительные симптомы: тошнота, спазмы в желудке, нехватка воздуха, головная боль, от которой раскалывался череп. Стуча зубами, она натянула на себя одеяло. Ей снова представились маленький Джулиан, мазки цвета крови, охваченный пламенем город. Картины следовали одна за другой в перевернутом порядке: следующей она увидела безмятежное «Материнство». Постепенно Маделин полегчало. Тело расслабилось. Сон, правда, никак не шел, поэтому она встала и умыла холодной водой лицо. Ей даже захотелось есть. Упоительный аромат ризотто с трюфелями проник сюда, в мастерскую.
Она махнула рукой на гордыню и спустилась в гостиную, где расположился Гаспар.
– Скажите, Кутанс, ваше приглашение на ужин еще в силе? Сейчас проверим, похожа ли я на пожирательницу киноа…
3
Вопреки ожиданиям ужин получился приятным, даже веселым. Два года назад Маделин видела на Бродвее постановку пьесы Гаспара «Город-призрак», два месяца шедшую в театре «Бэрримор» с Джеффом Дэниэлсом и Рейчел Вейс в главных ролях. Пьеса произвела на нее противоречивое впечатление: ей понравились блестящи
Сторінка 23
диалоги, но смутило циничное отношение автора к жизни.К счастью, Кутанс оказался не тем саркастическим насмешником, какого можно было представить, зная его пьесы. Этого человека хотелось сравнить с НЛО: да, мизантроп, да, пессимист, но при этом замечательный собеседник. Разговор естественным образом коснулся Шона Лоренца и сосредоточился на нем. Обоих воодушевила его живопись, им хотелось поделиться всем тем, что они узнали за этот день. Они с аппетитом умяли весь ризотто и завершили ужин бутылкой «Сен-Жюльена».
Разговор продолжился в гостиной. Порывшись в пластинках, Гаспар выбрал старую запись Оскара Питерсона[24 - Канадский джазовый пианист-виртуоз.], потом раскочегарил камин и отыскал бутылку виски «Паппи ван Винкль» 20-летней выдержки. Маделин разулась, вытянула на диване ноги, накинула на плечи плед и достала из кармана скрученную вручную, не только из табака, сигаретку. От травы, виски, приятной обстановки она совсем расслабилась. Разговор не мог не принять более личный характер.
– У вас есть дети, Кутанс?
– Боже сохрани! – взвился он. – Нет и никогда не будет.
– Почему?
– Не желаю навязывать другим мерзкий грохочущий мир, в котором мы вынуждены жить.
Маделин с наслаждением затянулась.
– Вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете?
– Ничуть!
– Согласна, кое-что нелишне бы поправить, но…
– Нелишне поправить? Разуйте глаза! Планета несется без руля и ветрил, нас ждет ужасное будущее: еще более жестокое, тревожное, вдыхать и то будем через раз… Надо быть неисправимым эгоистом, чтобы навязывать все это кому-то еще.
Маделин хотела ответить, но Гаспара уже понесло. Четверть часа, безумно вращая глазами и дыша алкоголем, он развивал свою аргументацию неисправимого пессимиста, не верящего в будущее человечества, живописал апокалипсическое общество, помешанное на технологиях и избыточном потреблении, разучившееся думать. Общество-хищник, методично истребляющее природу и взявшее билет в один конец назначением в никуда.
Убедившись, что словесный фонтан наконец иссяк, Маделин подытожила:
– Как я погляжу, вы терпеть не можете не только негодяев, но и весь род людской.
Гаспар не стал возражать.
– Помните, как сказано у Шекспира в «Ричарде III»: «А лютый зверь – и тот ведь знает жалость». А человеку – нет, она незнакома! Человек – худший из всех хищников. Он – паразит, который под тонкой лакировкой цивилизованности шагу не ступит, чтобы не возвыситься над ближним, не подвергнуть его унижению. Поганая порода, отравленная манией величия и тягой к самоистреблению, ненавидящая себе подобных из-за ненависти к себе самой!
– Ну, вы-то, Кутанс, слеплены, конечно, из другого теста?
– Как раз наоборот. Можете причислить меня, если хотите, ко всем остальным.
Он допил свое виски, Маделин затушила сигарету в чашечке, служившей ей пепельницей.
– Наверное, с такими мыслями вы очень-очень несчастны.
Он отмахнулся от такого предположения. Она встала, чтобы достать из холодильника воду.
– Я просто здравомыслящий человек. В завалах научных трудов вы найдете еще больше пессимизма, чем в моих речах. Земные экосистемы непоправимо гибнут. Мы уже преодолели рубеж, после которого нет пути назад, мы…
– Знаете, что мне непонятно? – перебила Маделин Гаспара. – Зачем вы тянете? Почему не стреляете себе в висок?
– Разговор не об этом, – перешел он к обороне. – Вы спросили, почему я не хочу заводить детей. Вот я и отвечаю: потому что не хочу смотреть, как они растут среди хаоса и злобы. – Он прокурорским жестом выставил вперед указательный палец, дрожавший от алкоголя и от негодования. – Никогда не пущу ребенка в этот безжалостный мир! Если у вас есть намерение поступить по-другому, то это ваша забота, от меня поддержки не ждите.
– Сдалась мне ваша поддержка! – повысила она голос, садясь. – Я задаю себе еще один вопрос: почему бы вам не побороться за то, чтобы все это изменилось? Почему не повести кампанию за дело, которое вам близко? Вступите в ассоциацию своих единомышленников, разверните деятельность в…
Он скорчил гримасу отвращения.
– Коллективная борьба? Это мне не подходит. Терпеть не могу все эти политические партии, профсоюзы, группы давления. Я одного мнения с Жоржем Брассенсом: «Когда собралось больше четырех – это банда подонков»[25 - Ж. Брассенс. Множественное число, 1966 г. – Прим. автора.]. А главное, сражение уже проиграно, просто люди трусят это признать.
– Знаете, чего вам недостает? Необходимости сражаться не понарошку. Иметь ребенка – значит вести настоящий бой. Бой ради будущего. Которое всегда было и всегда будет.
Гаспар странно на нее посмотрел.
– А у вас, Маделин, дети есть?
– Может быть, когда-нибудь будут.
– Ради вашего собственного удовольствия, конечно? – усмехнулся он. – Чтобы чувствовать себя «полноценной», «состоявшейся». Какие еще слова принято в таких случаях говорить? Чтобы не отличаться от подруг? Чтобы мама с папой не мучили вопросами, вызывающими чувство вины?
Этого Маделин не смогла вынести: вскочив, она
Сторінка 24
леснула ему в лицо ледяной водой, чтобы заставить заткнуться, после чего, немного поколебавшись, швырнула в него самой пластиковой бутылкой.– Нет, все же вы редкостный козел! – крикнула она, бросившись к лестнице. Перепрыгивая через две ступеньки, она мигом взлетела наверх и с силой захлопнула за собой дверь.
Гаспар, оставшись один, горестно вздохнул. Далеко не в первый раз он под воздействием возлияний начинал извергать гадости, но никогда еще не сожалел об этом так сильно.
Обиженный, как ребенок, он налил себе еще виски, погасил свет и с кряхтением устроился в шезлонге.
В затуманенном алкоголем мозге всплывали обрывки разговора. Его доводы, возражения Маделин. В конце он явно наговорил лишнего, но его оправдывала искренность. В своей грубости он раскаивался, но сущность сказанного не вызывала у него возражений. Сейчас, прокручивая в мыслях разговор, он набрел на аргумент, к которому не прибегнул, а зря: люди, которые хотят детей, чувствуют в себе силы их защитить.
О нем сказать так было никак нельзя.
Это и повергало его в ужас.
Безумный живописец
21 декабря, среда
5. Взять судьбу за глотку
Жизнь не дарит подарков.
Жак Брель[26 - Брель Ж. Песня «Орли», 1977 г. – Прим. автора.]
1
В голове гудит, сердце трепещет и больно сжимается. Тревожный сон улетучивается от слабого дуновения.
От стука входной двери дремота моментально улетучилась. Гаспар не то всплывал, не то шел ко дну. Несколько секунд он не понимал, где находится, но потом осознал грустную реальность: он уснул, свернувшись калачиком в старом кресле эймс[27 - Кресло, придуманное дизайнерами Чарльзом и Рэем Эймс для мебельной компании Herman Miller. Современный вариант кресла эймс состоит из трех изогнутых фанерных листов, каждый из которых выполнен из тонких деревянных шпон, склеенных между собой и принимающих нужную форму под воздействием тепла и давления.] Шона Лоренца. Он так вспотел, что футболка прилипла к кожаной обивке, во сне он елозил лицом по подголовнику, и теперь оно саднило. Гаспар с трудом поднялся, протер глаза, помассировал затылок и виски. Похмелье во всей красе: сокрушительная головная боль, вкус цемента во рту, тошнота, ломота в суставах, заторможенность… Ритуальная сцена, после которой он привычно клялся себе, что больше в рот не возьмет спиртного. Клялся, зная, что решимости хватит ненадолго: уже в полдень опять возникнет охота промочить горло, ну а там…
Что там на часах? Восемь утра. Что за окном? Бледное небо, но хоть без дождя. Он догадался, что его разбудила своим уходом Маделин, и устыдился, что красовался перед ней в таком виде. Он дополз до ванной и четверть часа проторчал под душем, потом выдул, присосавшись к крану, не меньше пол-литра противной теплой воды. Обмотавшись полотенцем, он вышел из ванной, яросто растирая себе виски.
Головная боль нарастала, он был готов биться лбом об стену, но знал, что и это не поможет. Единственным спасением было срочно принять две таблетки ибупрофена. Он порылся в рюкзаке, но не нашарил ничего, что хоть отдаленно походило бы на лекарство. После недолгих колебаний он поднялся на оккупированный Маделин второй этаж, там нашел ее косметичку, а в ней – свое спасение. Хорошо, что некоторые организованнее других.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Сноски
1
Британская альтернативная певица, музыкант и автор песен. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.
2
Героиня одноименного кинофильма 2001 г. с Одри Тоту в главной роли.
3
Американские джазовые музыканты.
4
Г. Мюссо. Зов ангела. М.: Эксмо. Пер. С. и К. Нечаевых.
5
Американский автор детективных триллеров, сюжет которых часто связан с «забытыми убийствами» в прошлом и пропажами без вести.
6
Рауль Дюфи – французский художник, выбравший вначале фовизм, позднее – кубизм.
7
Кит Джаррет – американский джазовый пианист и композитор.
8
Речь идет о водевиле с Луи де Фюнесом 1963 г., комедии 1978 г. и современной популярной передаче французского телевидения.
9
Скульптура Фредерика Бартольди, расположенная у подножия Бельфорской крепости, изображает раненого, но готового снова ринуться в бой льва – символ героического сопротивления гарнизона крепости под руководством капитана Пьера Данфер-Рошро во время 103-дневной осады, которой подвергся город в ходе Франко-прусской войны 1870–1871 гг.
10
Здесь завершается мой путь (лат.).
11
Э. Хемингуэй. По ком звонит колокол. – Прим. автора.
12
Современный английский художник и коллекционер.
13
Современный американский художник, тяготеющий к китчу, особенно в скульптуре.
14
Псевдоним английского андеграундного художника стрит-арта, политактивиста и режиссера.
15
Мясное блюдо римской кухни.
16
Пол Джексон Поллок – крупный американский художник первой половины ХХ в., идеолог и лидер абстракт
Сторінка 25
ого экспрессионизма. Виллем де Кунинг – ведущий художник и скульптор второй половины ХХ в., один из лидеров абстрактного экспрессионизма.17
Г. Аполлинер. Сосцы Тиресия, 1917 г. – Прим. автора.
18
Американский художник середины ХХ в., один из крупнейших урбанистов.
19
Современный немецкий художник.
20
Современный американский художник-минималист, скульптор.
21
Музей, который называют Лувром Лазурного Берега благодаря большому количеству значительных произведений изобразительного искусства, хранящихся в нем. В экспозиции картины Боннара, Брака, Матисса, Шагала, Кандинского, Леже. Скульптуры и мозаика Миро, Арпа, Колдера, Джакометти.
22
Французский композитор и поэт-песенник.
23
Французский композитор, органист, орнитолог.
24
Канадский джазовый пианист-виртуоз.
25
Ж. Брассенс. Множественное число, 1966 г. – Прим. автора.
26
Брель Ж. Песня «Орли», 1977 г. – Прим. автора.
27
Кресло, придуманное дизайнерами Чарльзом и Рэем Эймс для мебельной компании Herman Miller. Современный вариант кресла эймс состоит из трех изогнутых фанерных листов, каждый из которых выполнен из тонких деревянных шпон, склеенных между собой и принимающих нужную форму под воздействием тепла и давления.


