Читати онлайн “Ее последний герой” «Мария Метлицкая»
- 01.02
- 0
- 0
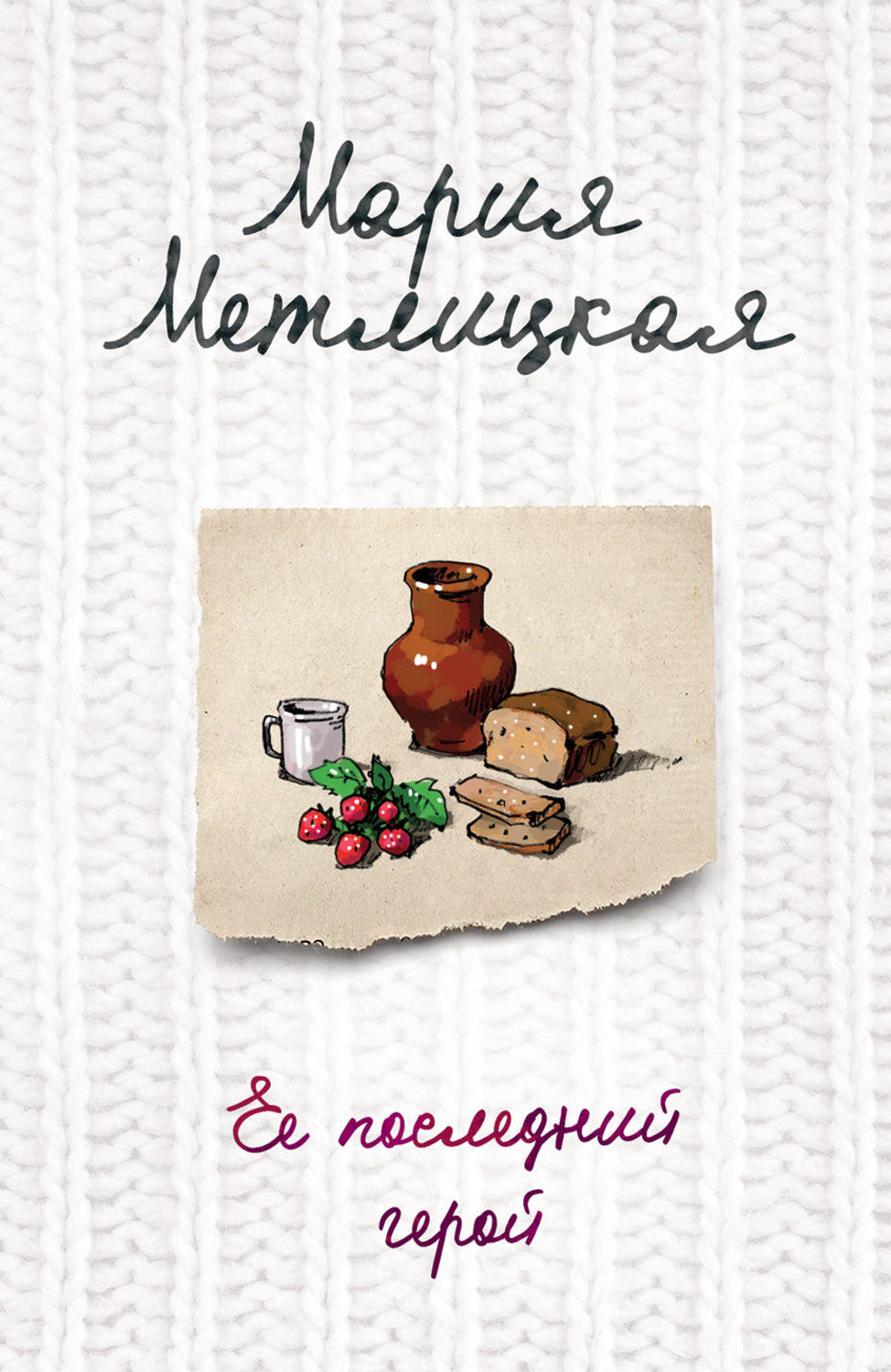
Сторінка 1
Ее последний геройМария Метлицкая
Женские судьбы. Уютная проза Марии МетлицкойЗа чужими окнами
Илья Городецкий. Бывшая легенда отечественного кинематографа. Бывший покоритель дамских сердец. Бывшая звезда. До встречи с Анной он был уверен, что у него все в прошлом. И Анна, пока не узнала Илью, не сомневалась, что личное счастье ей не светит: нет на свете мужчины, с которым она хотела бы засыпать и просыпаться, ездить к морю, делить радости и беды.
Она пришла к нему, чтобы взять интервью, и осталась навсегда. Интервью стало книгой – книгой жизни известного режиссера. Жизни, где были взлеты и падения, любовь и предательство и даже подлость. А в финале – награда: Анна, последняя любовь последнего героя.
Мария Метлицкая
Ее последний герой
© Метлицкая М., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
* * *
– Послушайте! Не морочьте мне голову! Какая Анна, какой журнал? Мне все это давно неинтересно! Вы меня слышите? – От возмущения он подавился сигаретным дымом и закашлялся.
Она что-то затараторила:
– Не надо так волноваться, не расстраивайтесь. Не нервничайте.
От этого он взбеленился еще больше. Просто до сердечного спазма. Утешительница! Ей, видите ли, интересно! Конечно, ведь можно состряпать мерзкую статейку! Старый пень, скрипя вставной челюстью, коленными суставами и кипя праведным гневом (ну, старческой желчью), выложит кучу сенсационных фактов и поднимет их чертов рейтинг.
Он поставил на плиту кофейник и зажег новую сигарету. Руки дрожали. Он посмотрел на свои все еще крепкие ладони – когда-то бабы млели от его «мужественных и интеллигентных» рук – и подумал: а ведь и вправду старик. Вон как распсиховался на ровном месте. Сколько раз гонял журналистов, как лис кур в курятнике. Хладнокровно, по-хамски, жестко. А сейчас…
Он разозлился, уже на себя. Стало чуть легче.
Говорят, бабы тяжело переносят наступление старости. Ерунда: мужики переносят дряхлость ничуть не легче. Как с этим быть? С тем, что убегает, ускользает самое главное, чем была наполнена твоя жизнь. Исчезает то, ради чего, собственно… Все, что было так важно, жизненно необходимо и вносило смысл в окружающий мир. Во всю твою жизнь. Работа, семья, удовольствия… Желания. Вот чего ему не хватало. Так остро, что жизнь вообще, похоже, теряла смысл.
Он налил в чашку кофе, отпил глоток и поморщился: слишком крепко! С размаху сыпанул – и вот результат. Горько. Все горько. Не только это чертов кофе. Он бухнул две ложки сахару и снова отпил. Теперь ему показалось, что слишком сладко. А бывает слишком сладко? Бывает. И еще как.
Со стуком поставил чашку на стол, затушил сигарету и вышел на балкон.
Двенадцатый этаж. Красота! Люди и машины, как игрушки или букашки, крутятся, передвигаются, суетятся, мелькают. Сейчас все мелькают. Или хотят мелькнуть – где угодно, но чтобы заметили. Все суетятся. Всем хочется больше, слаще, вкуснее. Машину, квартиру, жену. Думают, если слаще и больше, то будут счастливее, усмехнулся он. Идиоты! Потом непременно поперхнутся или подавятся. В сущности, нужно не так много. Но настоящего. Не суррогата, подделок, фейков, всяких там «квази».
Вон у Гальки-соседки сумки – шанели всякие, виттоны. А все с лужниковской толкучки, потому что на настоящие денег нет. А ходит, дурында, и гордится. Сама себя убедила, что в шанелях, а не в китайских подделках.
Он зашел в комнату, лег на диван и закрыл глаза. Хотелось спать. Спать ему теперь хотелось почти всегда. Но не получалось. Он попадал не в сон, а в дрему – временное забытье, неглубокую, вырытую им самим теплую и уютную ямку – тоже иллюзии. Впрочем, как сама жизнь…
Снова зазвонил телефон. Он посмотрел на трубку, номер был незнакомый. Отвернулся к стене и… уснул. Успев перед этим подумать: «Слава тебе, господи… Хоть час или два без всего этого».
* * *
Анна Левкова вышла из офиса и глянула на посеревшее небо, которое обещало скорый дождь и, как следствие, похолодание. Она тяжело вздохнула и подумала, что, к счастью, взяла с собой зонт. В машине дождь не так уж страшен, но нужно было еще заехать на дачу к отцу с пакетами продуктов и лекарств.
Она подошла к машине, щелкнула пультом и снова посмотрела на небо. Вспыхнула молния, и послышались слабые раскаты грома. Значит, если она заедет в аптеку и в магазин, а потом двинется на дачу, то там ее точно настигнет стихия – тучи и всякие другие природные неприятности никогда не обходили поселок стороной.
В детстве она дачу не любила: комары, мухи, осы, вечно сырая постель (сколько ни суши ее на заборе, все равно белье волглое). Да и дом был старый и хилый, почти в два раза старше ее, из недорогих и случайных материалов (что смогли достать в застойные годы). Некрашеная жестяная крыша местами прохудилась, крыльцо почти развалилось, а крытую террасу, гордо именуемую «верандой», продувало всеми ветрами. Все было ветхим, дряхлым, поношенным и обшарпанным – из прошлой, советской жизни. Шесть соток, по всем заборам – соседи, не всегда милые и приветливые.
Сторінка 2
Короче, коммуналка на свежем воздухе. Та коммуналка, из которой так старательно выбирались в шестидесятые и снова загоняли себя в семидесятые – на приусадебные участки, бесплатно выделенные от предприятий.А вот отец все это убожество обожал! Ковырялся на жалких грядках, радовался унылой петрушке и укропу, строил самодельные парники, покрывая их старыми клеенками. Умилялся трем (максимум) огурцам и двум помидорам, подрезал подсохшие кустики мелкой кислой смородины и боролся с вредителями так активно, что губил вокруг все живое.
Осенью, в урожайный год, аккуратно складывал мелкие, кисловатые, с подгнившими бочками яблоки в старые ящики («Только не забудь! Привези их обратно! Ни в коем случае не выкидывай!») и гордо и торжественно подносил их к машине.
Она кричала, скандалила, говорила, что не возьмет – такая кислятина. Мелочь, и вообще, «яблоки я не люблю». Он обижался, надувал губы и терпеливо объяснял ей, неразумной, что это самые что ни на есть настоящие витамины! «Свои, Ань, ты что, не понимаешь? Не на какой-то там гидропонике». И мечтал угостить соседей. Она вздыхала, понимая бесполезность спора, и запихивала ящики в машину.
В Москве Анна отдавала яблоки соседке-пенсионерке. Та искренне радовалась и намекала на подорожавший сахар. Приходилось покупать еще и сахар. Но через пару дней честная тетя Тома приносила янтарное, прозрачное, словно напитанное солнцем, густое варенье и половину толстого яблочного пирога, пахнувшего корицей. Варенье она относила на работу, где оно не просто шло на ура, а моментально улетало.
Набрав полные сумки в магазине и лекарства по списку в аптеке, Анна наконец двинулась в область.
Пятница. Лето. Пробки. Кошмар. Обещанный дождь не прекращался ни на минуту. «Дворники» еле справлялись.
Ладно, подумала она, как будет, так будет. Ну, значит, на час дольше. Какая разница? Собственно, куда торопиться? Впереди выходные. Ура.
Она расслабилась и включила радио. Подумала, что ее спокойствие и рассудительность, как всегда, помогают в непростой жизни жителя мегаполиса. Чего психовать, когда от тебя ничего не зависит? Ни пробки, ни погода, ни движение на дороге?
Откупорила пакетик соленых орешков, открыла бутылку пепси и… Стала подпевать песне по радио. «Жизнь прекрасна!» – подумала она. Особенно когда тебе двадцать восемь. Гром все еще гремел, но уже не так страшно, слегка ворчал. Попугал и стал отползать. На перекур, видимо. А что, устал. Имеет право.
Перед въездом в поселок она набрала отца:
– Пап, подъезжаю.
Он обрадовался:
– Вот и славно! Картошка уже готова.
Она нажала отбой и улыбнулась: отец знает, какая она «картошечница». И это значит, что ее ждет кастрюля горячей деревенской картошки и тарелка селедки с луком и подсолнечным маслом. Все, что она любит больше всего. И еще черный хлеб. Непременно! И холодная поллитровочка – это, правда, больше отцу. Но и она выпьет свои «боевые сто грамм». Чтобы расслабиться и прийти в себя после очередных кровавых боев за выживание.
И это тоже война, между прочим, – жить в наше время, да еще и в таком городе. И к тому же работать журналистом.
Въехав на разбитую проселочную дорогу, она открыла окно и с жадностью – замученное дитя города – стала вдыхать свежий после дождя лесной воздух. Птицы запели с удвоенной силой. По забору торопливо бежала белка. Было так оглушительно тихо, что становилось не по себе – в ушах звенело. Где-то в отдалении тоненько ныла электропила. Возрождалась на время затихшая жизнь.
У калитки стоял отец, смешной, в трениках с пузырями, в наброшенной на плечи древней нейлоновой куртке и в резиновых калошах.
Она припарковалась и медленно выползла из машины.
Они обнялись, и отец блаженно произнес:
– Красота, а, Анька? Воздух звенит! Слышишь, как пахнет?
– Красота, – недовольно пробурчала она, вытаскивая из багажника пакеты и увязая в размокшей глине. – Такая, блин, красота!
Она вздохнула и двинулась к дому.
– Скорее бы обратно, в каменные джунгли, от всей вашей красоты!
Отец продолжал восторгаться и, слава богу, ничего не слышал.
Но водочки под картошку с селедкой выпили, отогрелись душой, и печка весело потрескивала горящими полешками, сквозь запотевшие окна зеленел густой лес, пели вконец ошалевшие птицы – в общем, жизнь была и вправду вполне хороша.
После чая с местными пряниками и клубничным вареньем она отпросилась поспать:
– Не могу, пап. Глаза закрываются.
Пошла в свою «девичью светелку» на втором этаже, точнее, в мансарду. По очень узкой, очень скрипучей и ненадежной лесенке, под крики отца:
– Осторожно, Анют, осторожно!
– Починил бы лучше, – недовольно проворчала она, – созерцатель, е-мое! Столько лет – сплошной риск для жизни.
Наконец поднялась и, не зажигая света и не раздеваясь, рухнула в постель.
Засыпая под звон посуды на кухоньке (отец хозяйничал), она подумала: «А ты нажралась, матушка! И всего-то с полстакана! Все с устатку!» – вздохнула и моментально уснула.
Не слыша ни телевизор, ни крики с соседнего участка, ни с
Сторінка 3
ова забарабанивший по старой крыше довольно сильный дождь.* * *
Проснулась она в пять утра. Птицы уже снова гомонили, теперь по-утреннему, с новыми силами. За окном дрожал рассеянный молочный свет, и было свежо и даже чуть зябко. Она закуталась в одеяло и снова попыталась уснуть. Не получилось. В голову лезли всякие мысли, в основном о работе. Не про любовь же было думать? Про любовь думать не было смысла – а все потому, что не было у Анны Левковой, молодой, умной, красивой и вполне успешной женщины, этой самой любви. А была жалкая пародия, блеф и подделка – нудные, пустые двухлетние отношения с молодым человеком со странной фамилией Сильный.
Сильный был не так уж и плох: образован, начитан, мечтал о карьере и приличных деньгах. Имел маленькую «однушку» в спальном районе, кучу планов… И ничего больше. Сильным он точно не был.
Как мужчина, он привлекал Анну мало, точнее, совсем не привлекал. Так, в кино сходить, в кафе посидеть, ну и не чаще чем раз в неделю заехать к нему и остаться на ночь. Правда, последнее всегда вызывало у нее глухое раздражение, сомнение и стойкое ощущение, что она тратит свою жизнь совершенно впустую. В такие минуты она была сама себе неприятна – не то чтобы очень, но осадок оставался.
Сильный сдержанно радовался: накрывал стол и застилал свежую постель. Они пили красное вино, закусывали французским паштетом, намазанным на сухие гренки – он был эстет, – потом пили кофе с миндальным печеньем, обсуждали последние светские новости, обменивались мнением о просмотренном и прочитанном, критиковали власти и сплетничали о коллегах.
Дальше все тоже шло по плану: она отправлялась в ванную, а он протягивал ей через дверь большое махровое полотенце.
Все, что за этим следовало, казалось, его не радовало (а ее – уж точно). Буднично, прозаично, шаблонно. Как будто повинность: вроде неловко отказаться – ну, раз уж приехала…
Она оставалась ночевать (куда же после вина за руль?), в который раз ругая себя, что пить не следовало, но без трех бокалов вина все это казалось и вовсе невозможным. Откатывалась на край дивана, укутывалась в свое одеяло и засыпала. А утром торопливо приводила себя в порядок и, не завтракая, бежала поскорее прочь. Зевающий хозяин квартиры при этом не особенно расстраивался.
Вот, спрашивается, для чего ей было это нужно? Пресное, вялое, неинтересное, знакомое до зевоты. Чтобы избавиться от одиночества, вот для чего. Хотя бы иллюзия! Есть человек. Есть отношения. Есть секс. Хотя все это – большой вопрос. Включая последнее.
Она сама себе в этом боялась признаться.
Вообще-то, Анна была из тех современных разочаровавшихся женщин, отводящих любви далеко не первое место. Скорее, последнее. А уж «положенным» семье и детям – и вовсе самое последнее. Лучше бы всего этого списка и не было. Но раз уж положено… Ну, скрепя сердце ставим последним пунктом, годам этак к сорока. Впрочем, имелись большие сомнения в смысле здоровья. Районный гинеколог, тяжело вздыхая, вынес приговор:
– Родишь ты, деточка, вряд ли. Врожденная патология. Да и слава богу! От этих детей – одно горе.
Замужние подруги, ставшие мамашами, вызывали у Анны только сочувствие и легкую брезгливость. Ей казалось, что они, с головой погрузившись в проблемы мужей и детей, быстро тупели, полнели, переставали за собой следить, теряли чувство юмора и интерес к жизни – все то, что было так важно ей самой. Да и брак казался ей чем-то насильственным: нудный, неискренний союз двух усталых и замученных людей, загнанных в рамки условностей. Успешных мужей подруги ревновали, неудачников поносили, и все вместе дружно жаловались на жизнь. Ей, свободной, казалось, завидовали, но поменяться с ней местами хотели вряд ли.
К тому же сильно влиял родительский опыт. Куда уж неудачнее! Пока родители жили вместе – сплошные скандалы и претензии. Бушевала в основном мать (маленькая Аня закрывалась у себя в комнате и зажимала уши). Ее родители откровенно не подходили друг другу: скромный и тихий, всегда всем довольный, не умеющий принимать решения домосед-отец и амбициозная, яркая и стремительная мать. Было даже странно, что их брак просуществовал так долго. Мать не уважала отца, да и не старалась скрыть свое пренебрежение. В конце концов она ушла. Ушла в, мягко говоря, зрелом возрасте, когда женщины обычно и не думают о браке, объявив напоследок, что двадцать пять лет ее жизни прошли зря и эти годы она считает безвозвратно потерянными.
Как ни странно, сразу вышла замуж. И довольно успешно – за бывшего коллегу, успешного бизнесмена, потерявшего скоропостижно скончавшуюся жену.
Аня осталась с отцом – растерянным, потерянным, страдающим, брошенным. Мать не осуждала, но злилась на нее. Отношения их, и без того не блестящие, и вовсе охладели. А мать с головой ушла в новую семейную жизнь – бодро, радостно, с молодым энтузиазмом. Подружилась с дочерью мужа, ставя ее Ане в пример: и замуж вышла – дай бог каждому, и двоих детей родила. С воодушевлением нянчила этих детей, уволившись с работы и поселившись в котт
Сторінка 4
дже нового мужа (все как положено – три этажа, бассейн, прислуга, шофер). Дочь считала неудачницей («Ну разумеется! Вся в отца!»).После развода отец резко сдал. Вышел на пенсию и по полгода жил на даче. О том, чтобы сойтись с какой-нибудь женщиной, он даже и слышать не мог («Что ты, Анютка! После твоей матушки я их всех просто боюсь!»).
Анна жалела отца, утешала:
– Ну, вот и освободился наконец от своего домашнего тирана. Поживешь хоть на старости лет.
А отец морщил лоб, жалобно складывал в скобочку рот и трясущейся рукой утирал слезу:
– Была же любовь, Анечка. Поверь мне, была! И жизнь вместе прожита. Такая большая жизнь…
В результате она осталась в большой трехкомнатной московской квартире деда по отцу (мать была приезжей, из дальнего Подмосковья) одна – ни резкой маман, ни ноющего жалкого отца. Живи не хочу! Ну и жила.
Работа была в радость – уже счастье. Журнал, в который она попала три года назад и в который так хотела попасть последние лет пять, оказался прекрасной школой выживания и приобретения опыта. Коллеги были в основном опытными, начальник – вполне вменяемым. Популярность у журнала широкая, а репутация отменная. Не «желтая пресса», не бульварное издание; герои – люди примечательные, серьезные. Политику старались обходить стороной: экскурсы в историю, колонки известных писателей, немного о любви, слегка о еде, чуть-чуть о здоровье. А главное – интервью. С людьми популярными и интересными. Со скороспелыми «звездами», пусть даже раскрученными и проплаченными, не связывались.
Анна гордилась работой. Сказать не стыдно, пусть коллеги-журналисты позавидуют.
Платили, правда, немного, но коллектив, коллеги, начальство… Да и преимущества перед другими у нее были неоспоримые. Во-первых, москвичка, да еще и со своим жильем. Во-вторых, машина. Собственная, не кредитная. Анна видела, как молодежь упиралась изо всех сил, хватала ипотечное жилье и кредитные машины. Держались обеими руками и ногами за работу, не гнушались ничем – ни сплетнями, ни подставами, ни интригами. А что делать? Жизнь и обстоятельства загоняют людей в ловушки, а человек, загнанный в угол, как известно, не брезгует ничем. И она радовалась, что жизнь не ставила ей жестких условий. Потеря работы не означала конца света.
В общем, жизнью своей, размеренной и спокойной по нынешним людоедским временам, Анна была вполне довольна. Все ее романы не оставили в сердце и в памяти глубокого следа. Да, было. Да, были. Страдания – ну так, чуть-чуть. Бессонные ночи? Ну, как говорится, лайт-вариант. Да и то лет в пятнадцать-шестнадцать. Кавалеры были похожи друг на друга – мальчики из приличных московских семей, избалованные, начитанные, образованные, казалось, всем пресытившиеся циничные скептики. Карьера интересовала их постольку-поскольку. Они не рвали жилы, чтобы пробиться наверх, так, как это делали приезжие. Почти все были неплохо обеспечены и потому беспечны. Страховка в виде родительских накоплений и пылкой родительской любви давала возможность оставаться «приличными людьми» и с презрением относиться к рьяным приезжим.
Их отношения с Анной развивались примерно по одной схеме: знакомство, свидания, театр, кафе, модные выставки. Затем выезд на дачу или в родительскую квартиру. На выходные, когда родители на природе поливают цветы.
Рассуждений после секса – гораздо больше, чем самого секса. Недовольство всем окружающим – властью, политикой, просто жизнью. Но интересно, что менять ничего они не желали – и все бурчания заканчивались, едва начавшись. Плохо все. В России – бардак. Европа загнивает. Америка накрывается. В общем, будем доживать, о-хо-хо, свою жизнь, и только. Жениться они боялись, обряды и традиции презирали. Детей не хотели. Моральные импотенты, одним словом.
Приезжие были противны другим – вечной жаждой ухватить, урвать, пристроиться. Опередить, обогнать, объехать.
Словом, «героев» не было. А женщины любят героев! Получалось, что мужчин своего поколения Анне оставалось только жалеть и презирать. Женщины почему-то вызывали куда меньше раздражения. Им хотя бы надо думать о детях. Это многое оправдывало.
Уснуть так и не удалось. Захотелось пить. Она тихо спустилась вниз и налила в чашку воды. Услышала негромкий храп отца, больше похожий на всхлип, и его приглушенное бормотание.
Сердце снова сдавила жалость к отцу и злость на мать. Хотя… Так хоть один из них счастлив. Точнее, одна.
А отец… Мать всегда говорила, что он человек конченый. Потому что все его в жизни устраивает. Всем он доволен и ни к чему не стремится. Но отец искренне считал, что быть всем довольным и есть большое человеческое счастье. Счастлив не тот, у кого много. А тот, кому достаточно.
Она снова легла в кровать и стала думать о новом задании, похоже безнадежно сорванном. Глупость, конечно. Нашли тоже новую фишку – вынимать из нафталина оставшихся в живых художников, режиссеров, актеров, поэтов, когда-то популярных, отряхивать их от пыли и выставлять героями. Все они (забытые, скорее всего, несправедливо) потерялись
Сторінка 5
новых реалиях, были бедны, убоги, несчастны – те, кто не умер от нищеты, болезней и пьянства. Как правило, доживали они свои дни в одиночестве, обиженные на весь мир. Их выволакивали на федеральные каналы, заставляли вспоминать былое величие, громкие успехи. Внимательно выслушивали жалобы, разыскивали взрослых детей и родственников и призывали их к совести. Корили бывших супругов. Подробно снимали жалкое жилище былых знаменитостей. В который раз удивлялись мизерной пенсии. Дарили огромные букеты, похожие на клумбы, на которые получатели смотрели с плохо скрываемым ужасом: цветы в убогих квартирах смотрелись издевательски нелепо, к тому же старики подсчитывали в уме их немыслимую стоимость (лучше бы деньгами дали!).Все возмущались, качали головами. Как же так! Заслуги этих людей неоспоримы! Как несправедливо устроен мир! Как жестоки соотечественники! Как глухи и равнодушны власти! И через день-другой, как водится, забывали, словно их и не было. Свои заботы, своя жизнь…
А герои прайм-тайма обрывали сухие лепестки на засыхающих букетах, доедали богатые торты и конфеты и, постепенно теряя надежду на изменение своей одинокой жизни, грустили еще больше. Как дети, которым показали игрушку и снова припрятали на антресоли – уже навсегда.
Спрос на подобные сюжеты был огромен. Простые зрители, вперившись в экран, наблюдали за жалкой жизнью кумиров молодости и облегченно вздыхали: ну, если у них так, что говорить про нас, простых смертных? Нам по ранжиру положено. Женщины у телеэкранов жадно подсчитывали морщины и килограммы бывших красавиц и красавцев – кумиров своего поколения, а мужики кидали косые взгляды на жен, сидящих рядом на диване в потертых халатах и бигуди на голове: ну а моя-то еще вполне. Если уж та, мечта юности…
И пресса не отставала от телевидения – тоже «рыли» и «нарывали» героев.
Илья Городецкий, тот, кто грубо послал журналистку Левкову, был как раз из тех. Знаменитый и успешный в семидесятые режиссер и сценарист. Умница, признанный талант. Красавец, бонвиван, баловень судьбы. Ему приписывали романы с первыми красавицами. И даже с иностранкой, итальянской кинозвездой, такой далекой и недоступной, что даже сейчас в это верилось с большим трудом. Звезда сохранилась по-западному – ей, семидесятипятилетней, и сейчас можно было дать не больше пятидесяти. Она по-прежнему мелькала в светской хронике, меняла мужей и увлекалась скульптурой в стиле ню.
Городецкий снял около десяти фильмов, из них восемь несомненно удачных, известных всем до сих пор.
Исчез он в девяностые, когда кино приказало всем жить долго и счастливо. До дешевой халтуры и невнятных спонсорских денег не опустился – что было в дальнейшем оценено окружающими. Его просто «не стало»: был человек – и нет. Обычная история.
Анна долго рылась в Интернете, изучая своего героя. Получалось, зря. Герой идти на контакт не собирался, послал ее грубо и конкретно. Впрочем, и такое случается. Иногда, правда, «герои» шли на попятную после гонорара, предложенного им за интервью, обычно смехотворной суммы, долларов сто или двести.
Фотографии молодого Городецкого имелись в изобилии. Вот он – на фестивале в Берлине. Вот – на встрече с голливудскими мастодонтами. Было в его биографии и приглашение туда, на «фабрику звезд». Разумеется, не воплотившееся в жизнь. Некоторые его фильмы Анна знала наизусть, как и вся страна. Фильмы были сентиментальные, нежные, слегка наивные и добрые. С надеждой на светлое будущее. Героини были чистыми и прекрасными, герои – верными и мужественными, а любовь – светлой и вечной. Словом, все то, что в наши дни презирают и высмеивают. И потому кино казалось трогательным и щемяще-наивно-светлым.
В биографии Городецкого было много черных дыр и белых пятен: трагически бросившие его жены, оставленные и неудачные дети. Законные и нет. Мелькала информация, что он пил и, как следствие, спился. Писали, что он совсем опустился и периодически лежит в клиниках для душевнобольных. Где-то упоминали, что он сожительствует с пожилой дворничихой, которая его поит и кормит. Словом, мутная и грязная информационная пена, верить которой нельзя. Но, похоже, нет дыма без огня.
Анна открыла ноутбук и снова набрала в поисковике данные. Открыла фото и вновь стала их внимательно рассматривать.
Он был определенно красавец. Понятно, в молодости. Скуласто-мужественное лицо. Ямка на подбородке, так любимая женщинами всех поколений. Густые брови, слегка сросшиеся на переносице. Яркие, внимательные, цепкие светлые глаза. Упрямый, жесткий, красиво очерченный рот. Прямой, крупный, «мужской» нос. Вьющиеся, густые темные волосы. Сигарета в больших и сильных руках. Она подумала, что сейчас таких лиц почти не осталось. В моде – утонченные хлипкие мальчики с тонкими волосами, узкими губами и нервическими повадками. Мужская красота все чаще приближается красоте женской; никого не удивить выщипанными бровями, маникюром и искусственным загаром. Нередки у мужчин «конские хвосты», кольца, браслеты и серьги. Мужчины словно признаются в свои
Сторінка 6
слабостях и даже бравируют этим.Итак, Городецкий. Наверное, пьяница, не без этого. Маргинал, опустившийся тип. На таких она насмотрелась. Наверное, придется раскошелиться. Но ста долларами не обойтись: запросит тысячу, а обрадуется – до сладкой дрожи – и трем сотням. Но, разумеется, будет торговаться. Потом начнет «гнуть пальцы», пыхтеть, как самовар, вспоминать о былом величии. Бравировать сегодняшней свободой, мол, сериалы не снимаю, ниже моего достоинства. Конечно, деньги пахнут. В эти минуты он благополучно забудет, как канючил гонорар за интервью. Станет обливать помоями всех: бывших коллег, и покойных, и ныне живущих «деятелей». Споет песню о погибшем и продажном кино, как без этого? Обвинит во всех несчастьях бывших жен и подруг, понесет по кочкам детей-сволочей. Покричит, поразоряется, покапризничает, может, даже поплачет. Натуральными крокодильими слезами. Вполне возможно, немножко попристает – прихватит за коленку, прибавив масла в равнодушные и давно остывшие глаза.
Но всем этим ее не проймет. Плавали, знаем. И все же он – величина. Патриарх, мастер. Свидетель тех лет и их летописец. Да и правда – истинная, настоящая – ей не нужна, так же как руководству и читателям. А нужны сплетни, чуть поджаренное или слегка потушенное, остренькое, приправленное соусами – это уже ее работа, и в ней она профи: и все в рамках приличий, такой формат. И все это надо тоже подать. Вкусно, ненавязчиво, не пошло, не пересолить, не переперчить. Читатель у них интеллигентный. Чуть что не так – сморщит нос и упрекнет в «желтизне». Нет, здесь не о том, здесь разбитая судьба, потерянное поколение. «Оттепель», «застой», «перестройка», суровые будни липового капитализма. Акулы-продюсеры, продажные актеры. Бесталанные сценаристы. Словом, творческая жизнь для честного и талантливого человека нынче невозможна. Ну и забывчивость зрителя, хамство чиновников, некомпетентность коллег и холод властей. Последние герои, где вы? Ау! А вот мы, тут! Это вы, коварные, нас забыли! У вас новые кумиры и новые предпочтения. Это вы променяли нас на других героев: киллеров, наркоманов, геев, предателей родины и любви. А мы – здесь, рядом. Живем плохо, трудно, но живем! А то, что плохо и трудно… зато вместе с вами, вместе с народом. А вы нас – на помойку! Нехорошо! И всем станет стыдно и обидно за прошлое поколение. И глаза нальются светлыми слезами воспоминаний и раскаяния. Что и требовалось доказать.
Цель будет достигнута, слеза выжата, и гонорар получен. Yes!
И дедушка Илья Максимович Городецкий будет счастлив: вспомнили о нас, ветеранах. И доллары свои, честно заработанные, побежит и сразу пропьет – громко, пафосно, со слезой, – созвав таких же, как он сам, калек. Загудит где-нибудь в ресторане – и поминай как звали. Пропьет все махом, разом. Хотя… Что там пропивать. Смешно, ей-богу.
Смешно и грустно, вот как это называется.
Позвоню с утра. Нет, лучше к вечеру. С утра пьющие люди не очень добры. Опять нарвусь. Попробую еще раз. А не сложится – найдем другого, понежнее и посговорчивее. Их, знаете ли… Вагон и маленькая тележка. Тех, кого ищут для рубрики «Они были нашими кумирами».
Она отложила ноутбук и, закутавшись в одеяло, наконец уснула, не слыша, как шаркает тапками снизу отец, разводя тесто для блинчиков («Анька так любит! С чайком и вареньем») на завтрак.
* * *
Илья Максимович Городецкий, известный режиссер, сценарист, красавец и бабник (все в прошлом), встал, как всегда, рано.
Во рту было мерзко, в голове – еще хуже. Жизнь стала для него невозможной тяготой, застрявшим обозом и даже наказанием. Он был из тех, кто счастлив только в молодости и в ранней зрелости, когда есть желания и силы. Дальнейшее существование он считал неразумным: человек в непродуктивном возрасте – обуза не только для окружающих, но прежде всего для самого себя.
Впрочем, «окружающих» в том самом смысле возле него не было давно. Он даже слегка бравировал этим: «Всех разогнал, пошли к чертям, никто не нужен».
В жизни Ильи Городецкого не было ни детей, ни внучков, ни жены. И кстати, друзей тоже. Когда все в его жизни обрушилось и накрылось, он пожелал остаться один. Впрочем, дело было не только в его пожеланиях – так сложилось. Последняя жена, вполне достойная женщина, уходя, бросила ему пророчески: останешься один, как бирюк. Без стакана воды для съемной челюсти.
Потому что дурак. Так и случилось, впрочем, по его собственной воле…
Все, кого он когда-то любил, ценил и к кому был привязан, исчезли, растворились, испарились. Кто-то точил на него серьезный зуб, кто-то беспомощно ковырялся в своих проблемах и бедах, кто-то вознесся и не захотел иметь дело с неудачником… С детьми не сложилось, женщины по-прежнему страшно обижались. Друзья… А были ли они на самом деле? Тоже вопрос.
И тогда он сказал вслух: «А пошли вы все!» И все, к его большому удивлению, пошли, причем довольно резво и дружно.
Кстати, всегда считалось, что у Городецкого невыносимый характер. Раньше, в молодости, когда его уважали и от него зависе
Сторінка 7
и, разумеется, терпели. А когда он стал «сбитым летчиком», все громко заявили: как с ним вообще можно общаться? Он же… Неудачник. Ну и так далее.Неудачник! Оборзели. Это он неудачник? Да если бы вы… Да кто-нибудь из вас снял хотя бы подобие того, что когда-то снял он! Вы бы разом оправдали всю свою никчемную жизнь! Да! В далекой и прекрасной молодости он только два раза был вторым. В двух первых картинах. А третью уже снял сам, без худрука из корифеев. А кто из его поколения пробился? Ну-ка, ну-ка… А если подсчитать? Найдется пара-тройка умельцев, пристроившихся к сильным мира сего. Те, кем он всегда брезговал. Во все времена они были. Терлись у высоких кабинетов клянчили, выпрашивали поездки за границу, съемки многосерийных картин… Им мягко рекомендовали, что снимать и кого. Они кивали, как китайские болванчики, и с радостью на все соглашались. Им давали квартиры на Тверской, дачи в пятнадцати километрах от города, в целебном сосновом бору. Они каждый год меняли машины, и их жены щеголяли в норковых шубках и бриллиантах.
Нет, разумеется, были и другие. Истинные таланты, даже гении. Но в основном все эти гении и таланты спились и ушли из жизни еще тогда, в семидесятых.
Встречались и честные ремесленники, трудяги, с трудом шедшие на компромисс с собственной совестью. Они делали крепкие, добротные вещи, любимые народом. Они изо всех сил пытались быть честными, не уподобиться тем, кто устало «кушал» черную икру на правительственном банкете.
Он в глубине души не осуждал никого. Каждый выживает, как может. Кто-то идет на компромисс с совестью, а у кого-то ее просто нет. Да и он не святой. Всякое в жизни было. Было и то, о чем вспоминать неохота, – иначе снова бессонная ночь, давление и прочая муть.
Ну, и если по справедливости, был, состоялся, отгремел, можно сказать. Все успел: и вкусить славы, и постоять на олимпе. И баб красивых любил. И они им не брезговали. И страсти бушевали нешуточные. И деньги водились приличные. И мир посмотрел, ну, не весь, конечно, но все же… Что бога гневить? Яркая жизнь была, насыщенная. Переливалась всеми красками радуги. На десять судеб бы хватило – и впечатлений, и ощущений. А настоящее… Так все претензии к себе, батенька! Но все равно противно. Грустно и тяжко. И тяжелее от того, что сам во всем виноват. Вот и получи.
* * *
Дома было хорошо. В который раз подумалось, что одиночество ее совсем не угнетает. Даже наоборот, придает сил. С содроганием Анна подумала, что если бы… Если бы родители не развелись и были сейчас вместе, то постоянно находились в квартире: мать ненавидела дачу, а отец ездить туда без нее не хотел. Оба пенсионеры, а это означает, что оба толклись бы дома и скандалили еще больше и чаще. Такое непременно случается даже с любящими супругами, когда приходит время выходить на пенсию и видеть друг друга сутки напролет. И про ее родителей «любящие» точно не скажешь. Отец раздражал мать всю жизнь, а беспомощный, постаревший, забывчивый и неловкий – и подавно. Анна видела, как мать физически плохо переносит присутствие отца, вечную гримасу раздражения, брезгливости, даже ненависти на ее лице. И ее, Анну, рвали бы на куски. Злость на мать, жалость к отцу.
В общем, для нее, надо признаться, все сложилось неплохо. Никто не пилит, не «ездит по ушам», не указывает, что делать, и не грузит своими проблемами.
Она, не включая света, прошлась босиком по квартире, провела рукой по мебели, стряхнула с ладони пыль и тополиный пух, открыла настежь балкон и окна и, раскинув в блаженстве руки, плюхнулась на диван.
Оставалась еще пара часов счастья – вечер воскресенья. Завтра снова в путь: пробки, работа, снова пробки, суета, неразрешимые проблемы и решаемые вопросы – в общем, жизнь.
Потом Анна пошла на кухню и заглянула в холодильник. Пусто, как после вражеского набега. Пакет сока давно пора выбросить. Пачка пожелтевшего масла – тоже в помойку. Два престарелых яйца и банка зеленого горошка. Можно, конечно, заказать что-нибудь на дом, суши или пиццу, но неохота.
Заказывать неохота, а есть хочется. В морозилке нашлась пачка пельменей. Красота! Пусть и гадость, по мнению маман, но ей сейчас – в самый раз. Сварила всю пачку, полила майонезом (ужас-ужас!), смолотила за здорово живешь, запила сладким (кошмар!) чаем. Короче, смерть здоровью и фигуре. Да плевать! Всю эту новомодную рукколу, стебли сельдерея и изыски в виде фуа-гра или морских гребешков она презирала. Любила по-простецки, как и отец, картошечку с селедкой, кислую капусту, котлеты, кусочек сальца с черным хлебом. Мать, кстати, постоянно худела – варила бадью сельдереевого супа (дочь называла его «змеиным») и хлебала три раза в день. С таким выражением лица, что хотелось опрокинуть кастрюлю «змеиного» ей на голову. А они с отцом присаживались и, потирая руки, наворачивали картошечки с луком, посмеиваясь над несчастной худеющей.
Анне повезло: комплекцией она пошла в сухощавого и поджарого отца – узкие бедра, длинные, крепкие ноги, впалый живот. Мать презрительно бросала: ну, хоть какая-
Сторінка 8
о от него польза.После неполезного ужина она снова открыла ноутбук и набрала имя Ильи Городецкого.
«Ничего! – зло подумала она. – Никуда ты от меня не денешься! Добью тебя, не сомневайся. И не таких доставали».
Она глубоко заблуждалась, но пока об этом не догадывалась. Всему свое время.
* * *
Вечером становилось легче. Вечер предполагал скорую ночь. Слава богу, снотворное временно устраняло муки бессонницы.
Городецкий покурил на балконе, сел у телевизора и стал щелкать пультом. Чушь! Везде одна чушь. Просто невыносимо. Не смотри, если так противно. А что делать? Ну да, читать. На одном из каналов он увидел знакомые кадры. Старый фильм. Сделал погромче и не заметил, как всем корпусом подался к экрану. Время пролетело незаметно, и когда на экране появились округлые буквы, складывающиеся в слово «Конец», он откинулся в кресле и перевел дух. Провел рукой по лбу, вытирая выступивший пот. Долго смотрел в одну точку, вспоминая бывшего старого друга, того, кто, собственно, снял эту ленту. Потом тяжело поднялся, вышел, покрякивая, на балкон покурить.
Он смотрел на город, на улицу, где стремительно проносились машины, а перед ним стремительно проносилась его молодость.
Вспомнил автора фильма – Борька Мятников. Он снял всего одну картину, но она оказалась гениальной. Наивный Борька, скромняга и интеллигент, бродил по киностудии с блаженной улыбкой на лице, ожидая похвал и поздравлений от коллег. Борька был приезжим – наивным и молодым, не испорченным столичными нравами, завистями и сплетнями. Чудак человек. Он заглядывал всем в глаза, пытался пожать руки и поговорить. Необязательно про свой фильм – просто про искусство. Его сторонились, обходили мимо, крутили пальцем у виска и считали ошалелым, придурочным, одним словом, чудаком. Прошло немного времени, и Борька действительно ошалел. Он возненавидел всех, справедливо считая их завистниками, снобами и жлобами. Успеха ему не простили. Он стал попивать и лезть на рожон. Вывезенная из провинции жена – тихая, льняно-беленькая, краснеющая от стука входной двери – быстро просекла ситуацию и справедливо решила, что у ее мужа нет будущего.
Девчонке надо было как-то выживать, Москва, как известно, слезам не верит. Через год она ушла от Борьки к его оператору, москвичу с квартирой. Парень он был циничный, испорченный бабами и деньгами – типичный представитель московской богемы. Но не без таланта.
Неиспорченная, легко краснеющая, совсем юная провинциалка поразила бывалого и прожженного бабника наивностью и неприхотливостью. Она не пила, не курила и стеснялась мазать икру на хлеб.
Городецкий быстро увел ее от Борьки и поселил в своей квартире на Смоленской. К квартире прилагалась мама – умная, тонкая, театральная актриса. Глянув на свежеиспеченную невестку, мама тяжело вздохнула и шепнула сыну, что они влипли и она начинает собирать документы в приют. Он рассмеялся и пошутил, что лучше не в приют, а в дурдом: такая подозрительность – уже диагноз.
Конечно, мама оказалась права: девочка развернулась в нереально быстрые сроки. Через два года она уже требовала третью шубу, домработницу и личного шофера. Мама готовила себе на электроплитке в комнате. Оператор пил по-черному, причем на пару с Борькой. Теперь они были друзьями не разлей вода.
Потом умерла мама, оператор оставил хоромы на Смоленской и переселился жить (и бухать) в Мневники, к немолодой костюмерше, влюбленной в него уж который тоскливый год.
Но про Борьку. Почему он не смог заматереть, окостенеть, облачиться в непробиваемую броню и, наконец, выжить? Тонкая натура, не перенесшая зависти, непонимания и отчуждения? Злодейство не для тонкой творческой души? Не перенес, и все, сломался на взлете. Сделать гениальный фильм сил и таланта хватило, а прожить всю эту поганую жизнь… Увы!
Не потянул. Повесился он на чердаке какого-то общежития. И нашли его не скоро. Просто не заметили, как его не стало. У людей, знаете ли, столько проблем!
Хоронили в закрытом гробу, не забыв попричитать у могилы о загубленном таланте, невезении и тяжкой доли гения в «нашей стране». Поговорили у гроба и разошлись. У свежего холмика остались оператор с костюмершей. Она деловито оторвала алюминиевую скобочку у поллитровки и протянула сожителю – вместе с трогательно почищенным яйцом вкрутую.
Он пил из горла?, заливаясь пьяными слезами, а она счастливо гладила его по макушке. Не пил бы, не встретил ту суку – и не видать бы ей его как своих ушей. Ну как же удачно, спасибо, Господи!
Городецкий не заметил, как по щеке скатилась слеза. Опомнившись, смахнул ее рукой и устыдился. Вот ведь старый болван! С чего, спрашивается? А ни с чего! Плач по поколению. Хотя его судьба и судьба несчастного Борьки разве соизмеримы? Спать, спать, спать! Вот ведь угораздило ткнуть пультом именно в этот канал.
Он умылся, потом долго разглядывал в зеркало небритую физиономию, тяжело вздохнул и отправился в постель, предварительно рассосав таблетку американского снотворного.
* * *
Анна снова вглядывалась в лицо
Сторінка 9
воего героя. Современным канонам мужской красоты он никак не соответствовал. Разве что сойдет для рекламы «Мальборо» – прямо тот самый красавчик-ковбой, олицетворение мужественности, физической силы и неприступности. Кумир женских грез и тайных желаний. Впрочем, и в ковбои его бы не взяли – слишком много грусти во взгляде, слишком много ума.Жаль, что не получилось. Интересный тип. С виду мачо, дальше некуда, такой мачо-интеллектуал. А внутри наверняка – дрожь и пустота. Трусость внутри и обиды. Иначе бы выплыл, побарахтался бы еще на волнах. Наверняка слабак.
Так, что дальше? Фильмография. Кое-какие его фильмы она, разумеется, смотрела. Большую часть. Страну закармливали ими в восьмидесятые, девяностые и начале нулевых. Изредка их повторяли и сейчас, и не посмотреть его творения хотя бы однажды было просто нереально.
Особенно хорошо она помнила «Все то, что было с нами однажды». Милое кино, в меру наивное – все-таки снятое в конце семидесятых. Не так сладко припудрено, как в пятидесятые. Сюжет обычный. Конечно, двое, он и она. Оба – столичные интеллигенты. Он – физик, она – врач. Она беременна, он изменяет ей с лучшей подругой. Она все узнает и уезжает в другой город, он женится на подруге. Она рожает сына, его жена бесплодна. Она почти счастлива в маленьком городишке на Азовском море. Сын удался, есть человек – приличный и душевный. Но замуж героиня не торопится.
Герой, коварный изменник, едет на море с молодой любовницей на машине. Авария. Любовница погибает, героя привозят в районную больничку. Где, разумеется, работает главврачом она, его бывшая возлюбленная.
Она читает историю болезни и понимает, что это он. Он без сознания. Ему делают операцию, он выживает, но она, курируя его, ни разу не заходит в его палату.
Приезжает московская жена и увозит героя в столицу. Он пытается отблагодарить врача, но не удается. Героиня не хочет его видеть.
Спустя пару лет герой, бедолага, слегка оклемался, но жизнь пошла наперекосяк: жена не простила измены, квартиру он разменял, работу потерял. Он одинок и заливает за воротник. А тут в Москву приезжает сын – поступать в университет. Мать мальчика пишет бывшему возлюбленному письмо: помоги ему, когда-то я спасла тебя от смерти. Он принимает парня и помогает ему, не зная, что это его родной сын.
А когда до него доходит… Он бросается в этот приморский городок и просит у нее прощения. Она по-прежнему одинока и любит его, мерзавца. Но хеппи-энда нет. Он уезжает в Москву. Она его не простила.
Тут до него доходит, что эта женщина – подарок судьбы и вообще героиня. И он принимается «искупать»: бросает пить, идет на работу и ищет контакт со взрослым сыном.
Парня забирают в армию. Оба они – мать и отец – стоят на присяге, и он осторожно берет ее за руку.
Парень уходит и, оборачиваясь, подмигивает родителям. Последний кадр – их сцепленные руки.
Ну, ничего. Вечная любовь, предательство, наказание, раскаяние, осознание. И наконец, прощение. Неплохо, но… Не то что бы все это устарело, и все-таки… Не для современного поколения. Динамично, искренне, не заезженно и не пошло, но ничего нового, новаторского. Такого, чтобы на все времена. Никакого «нового слова» в кинематографе. Симпатично, душевно – и все.
Еще она отрывками помнила другой фильм, «Дожди в начале лета». Тоже история любви. Он – инвалид и талантливый поэт. Она – первая красавица модного вуза. Они пишут друг другу письма, и она не знает о его беде. Он, естественно, одинок и готов любить ее всю жизнь. Она выходит замуж, но их переписка не прекращается. Проходят годы. Она, красивая, успешная и небедная, к середине жизни оказывается абсолютно несчастной. Семейная жизнь полна пошлости и лжи, муж – предатель и сволочь, к тому же нечист на руку. Короче, законченный подлец. Дочь пошла по кривой дорожке. Карьера дала трещину. Героиня повержена и почти уничтожена. Единственная ценность, которая у нее есть, – это письма и стихи забытого богом, прекрасного и чистейшего человека из далекой провинции.
И она едет к нему. Не в поисках любви, ни в коем случае. Просто поговорить. Поддержать друг друга. Наконец, увидеться.
Он, скрывая свою болезнь и ущербность, трясясь от страха, посылает на вокзал своего брата. Итог. Она влюбляется в этого братца, довольно обычного провинциального мужичка. Ее немного смущает его простота, странно, что он писал такие тонкие стихи и такие чудесные письма. Но делать нечего – она остается у него. Несчастный же поэт вынужден наблюдать ее жизнь со стороны. Вот что такое спасовать и профукать свою судьбу. Вот что порождают трусость и душевная слабость. Впрочем, за тетку можно порадоваться. Героиня вполне счастлива и забыла про стихи. Купается в речке и носит из колодца воду, приговаривая, как чиста, прекрасна и самобытна истинная, неприукрашенная, провинциальная жизнь.
Вдруг осенило: нужно позвонить отцу. Все-таки человек одного с режиссером поколения. К тому же отец – телелюбитель со стажем. Маман раздраженно его называла «заслуженный телезритель». Он и вправду о
Сторінка 10
ожал ящик и даже в советские времена готов был смотреть все подряд.Отец немедленно откликнулся:
– Городецкий, а как же! Конечно, помню! Чудесный режиссер! Чудный! Истинный мастер. Ни одного лживого фильма. Никакого прославления эпохи. Все про людей и про любовь. Он снимал о своем поколении. О том, что волнует людей, – о любви, дружбе, предательстве, измене. После его фильмов мы становились добрее и терпимее. Ненадолго, конечно. Ничего революционного, но все про грешную жизнь. Не гений, но мастер. И похоже, не плут. Мы обожали его фильмы и считали своим кумиром.
– Мы – это кто? – спросила Анна. – Не думаю, что маман горячо бы тебя поддержала.
Отец смутился:
– Ну, знаешь ли… Мама у нас вообще… Человек крайне строгий к окружающим и крайне нетерпимый. Чтобы угодить твоей маме, знаешь ли…
– Знаю! – перебила она. – Спасибо, пап!
Не гений – уже легче. С гениями, знаете ли…
Так, что дальше? Жены. Вот это уже интереснее. Первая жена – Лилиана Вышкевич. Красавица с трагической судьбой. Так и написано: «с трагической». И вправду красавица. Блондинка с узким лицом и высокими скулами. Удлиненные глаза, красивые тонкие брови. Изящный нос и слегка капризный рот. Что-то трагическое в лице – может, грустный взгляд и излом бровей? Снялась в одном фильме, взлетела, воспарила и погибла в возрасте тридцати двух лет. Покончила с собой, выбросившись из окна. Мрак. И чего ей не хватало, этой прекрасной Лилиане? Вопрос.
Вторая жена. Тоже актриса. Так, что мы знаем об Ирме Лаевской? Тоже ничего хорошего. Родила Городецкому сына Артура. Погибла в автокатастрофе на трассе «Дон». Семья ехала к морю. С ней были Городецкий (пассажиром, спал на заднем сиденье) и сын. Ирма погибла на месте, у мальчика – легкое сотрясение мозга и перелом ключицы, Городецкий проснулся после аварии без единой царапины. Счастливчик? Как сказать. Пережить такое… Ирма, кстати, тоже ого-го красотка. Брюнетка с голубыми глазами. Вот уж не повезло так не повезло. Все у тетеньки было: успешный муж, красавчик-сынок, ангелочек с белыми кудрями, квартира в высотке, машина с оленем на капоте… И на тебе. Ох.
После смерти второй жены бедняга Городецкий отдал малютку на воспитание родной сестре жены и, похоже, запил. Пять лет ничего не снимал. Любил, видно, свою красавицу. Да и вообще, две жены – двое похорон. Попробуй не запей!
Она вдруг почувствовала жалость к этому немолодому и хамоватому дядьке.
Дальше больше. Спустя довольно много лет Городецкий, похоже, совсем оклемался и вновь «окольцевался». На сей раз, слава богу, женился на обычной женщине, враче. Ни имени ее, ни фотографии в Сети не было. Никакого интереса. А почему тогда наш герой снова одинок? Развелся, овдовел? Непонятно. Где сынок Артурчик, внуки, наконец? Приносят ли отцу под дверь пакет молока и батон нарезного? Неизвестно. И непонятно, будет ли ей, Анне Левковой, это когда-нибудь известно. По причине отвратительного склочного характера героя.
Она задумалась. Послать его ко всем чертям и закрыть тему? Объяснить Вите Попову, любимому начальнику, что клиент сорвался. Сорвался, и все. И такое бывает! Ну да, побрешет Витя минут десять, обольет ее помоями. Барахло, мол, ты, Анька. И профессионализм твой негодный. И какой ты журналист, если не сумела разговорить и раскрутить? Ясно какой. И это переживем. И найдем другого героя. Вот уж не проблема!
Но почему-то не отпускало. Зацепил ее этот перец Городецкий… Чем? Да кто его знает. Может, взглядом задумчивым? Судьбой-злодейкой? Хамством и наплевательством?
Она потянулась к трубке. Еще разик, решила она. Попробую. Чем я рискую? Пошлет? Это вообще смешно. Журналюги – народ привычный. Не впервой.
Анна выдохнула и приготовилась к отпору.
* * *
Резкий звонок выдернул Городецкого из мутного, похожего на забытье сна. Он даже не понял, зазвонил городской или мобильный. Схватил городской, аппарат стоял на полу возле кровати. Потом спохватился и почти под кроватью нашарил мобильник.
В голове мгновенно пронеслись тысячи проклятий. Ну и какой сволочи…
«Сволочь» хрипловатым, но все же достаточно мелодичным голосом пропела что-то невнятное.
– Кто? – раздраженно переспросил он.
Услышав ответ, коротко чертыхнулся:
– Вы, оказывается, не только наглая. Вы еще и тупая.
Она замолчала. «Неужто обиделась?» – подумал он. Они ведь непробиваемые, эти акулы пера.
– Займитесь чем-нибудь полезным, милая, – раздраженно посоветовал он. Не таким поганым и дурнопахнущим, в конце концов. Не дело это – ковыряться в чужой болячке и радостно ее обнародовать.
– Послушайте! – взмолилась она. – Если вы… если вы мне откажете… Я потеряю работу! Вы меня слышите? А я приезжая! У меня комната в ипотеке! И мальчик дома с мамой, в смысле сынок. А мама на пенсии, гипертоник!
Она хлюпнула носом.
Он тяжело вздохнул и замолчал. Молчание, с ее стороны прерывавшееся всхлипами, длилось несколько минут.
– Черт с вами! Приезжайте! – наконец вымолвил он. И потом резко добавил: – И на черта я вам сдался? Вот не понимаю, хоть уб
Сторінка 11
й.Но она уже положила трубку, буркнув «спасибо».
Он растерянно оглядел свою комнату и покачал головой. Нет. Не пойдет. Ни в коем случае! Невозможно показывать это убожество постороннему. И не потому, что журналистка и от нее непременно следует ждать подвоха.
Просто стыдно.
Быстро побрился, сварил очень крепкий кофе, выпил его, обжигаясь, почти залпом. Снова зашел в ванную, критически оглядел отражение в зеркале, покачал головой, тяжело вздохнул и освежился одеколоном. Потом расчесал все еще густые волосы мокрой расческой и отправился к шкафу.
Шкаф был полон тряпок, когда-то он обожал одеваться и хорошо разбирался в шмотках. Впрочем, в чем тогда было разбираться? И смех и грех! Польская рубашка, чешские брюки, гэдээровские ботинки. А уж если болгарская дубленка – ты вообще король!
Конечно, привозил он шмотки из-за границы. Но заграница эта была все та же – ГДР, Болгария, Польша. Впрочем, нет, бывали еще и Бразилия, и Куба, и Югославия, рай для тряпичников. И Италия тоже была, правда недолго, всего-то три дня. А командировочные были… курам на смех. И в этой Италии он все тогда купил Ирме. Все – это трикотажное голубое платье и босоножки в цвет. На большее не хватило.
И все же… Они были модниками. Серые брюки (индпошив Аркадия Семеновича, Аркаши, большого мастера своего дела), клубный пиджак из сотой секции ГУМа. Югославские штиблеты с дырочками. Галстуки яркой расцветки, румынские. И дубленки, и ондатровые шапки, и французские одеколоны – всего-то трех наименований, но французские. О подделках тогда, кстати, никто и не слышал. А пахли эти французские дай бог! После стирки еще пару дней сохранялся едва уловимый нездешний аромат.
Городецкий скептически оглядел свой гардероб, перебирая рубашки и пиджаки. Жалкое зрелище. Надевать пиджак с немодными бортами – глупо. Никаких сорочек и галстуков, решил он. Смешно. Невелика птица эта провинциалка. Так, рубашка в клетку, джинсы – вполне.
Он быстро оделся и спустился во двор. Перехватить ее у подъезда и зайти на полчаса в соседнее кафе. Там – черный кофе, и всё. Хотя можно и покормить эту приезжую птичку. Наверняка голодная.
Встал под козырек подъезда и закурил. Из подъезда, пошатываясь, вышел немолодой мужик и, оглядев Городецкого с головы до ног, попросил огонька. В доме живут одни люмпены и, следовательно, алкашня. Что поделать, такой район. Старое Очаково. Когда он разменивал квартиру в высотке, ему было все равно, куда ехать, – лучшим вариантом вообще казалось Ваганьково.
Женя предложила несколько вариантов на выбор. Он взял первый, не глядя. Она, как человек честный и порядочный, уговаривала бывшего мужа присмотреться и повыбирать. Он ответил: не заморачивайся, чем скорее, тем лучше. Тогда ему казалось, что в этой квартире он не проживет больше года. А прожил уже девять лет. Живуч оказался!
Она долго уговаривала посмотреть что-то в Беляево – «там тихо и зелено, ну пожалуйста». Он не поехал ни в Беляево, ни на Преображенку, ни в Тушино. Какая разница? Все – выселки, все – спальные районы. А какая разница, где спать и вообще где доживать эту постылую жизнь?
Кстати, она, Женя, поехала на «Университет». Это понятно, там жил ее сын. И еще были доводы: жить надо рядом, мало ли что, а от «Университета» до Очакова не так далеко. Он тогда рассмеялся: неужели не хочешь от меня избавиться насовсем? Неужели не осточертел до отрыжки?
От автомобильной парковки быстро шла молодая высокая женщина с длинными распущенными волосами и разглядывала номера домов. Он тяжело вздохнул и пошел навстречу. Она, подумал он, наверняка она.
Они почти поравнялись и одновременно остановились.
– Вы! – облегченно выдохнула она. – А я боялась, что вы передумаете и не откроете дверь.
Она улыбнулась и сняла большие, закрывающие пол-лица темные очки.
Городецкий пожал плечами и равнодушно бросил:
– К чему такие страхи? Я обещал. И потом, вы так старались меня разжалобить.
Она слегка покраснела и откинула назад волосы.
– Домой, как я понимаю, вы меня приглашать передумали?
Он кивнул и усмехнулся:
– А вы догадливая.
Она улыбнулась в ответ:
– Разве тупые бывают догадливые?
– Обиделись, – констатировал Городецкий.
Она пожала плечами:
– Да нет, что вы, совсем нет. Мы, знаете ли, люди привычные.
– Профессию меняйте, – парировал он, – тогда и в тупости никто не упрекнет.
Она отмахнулась:
– Хватит ссориться! Ну и куда мы с вами направимся?
Он кивнул подбородком на типовой домик из серебристого профнастила с красной вывеской «Кафе “Тюльпан”».
Она подняла брови, вздохнула и пошла вперед. Тюльпан так тюльпан. Странно, что не ромашка. Оригинально даже.
В кафе было прохладно и приглушенно звучала музыка.
– Ого! – удивилась она. – Морриконе.
Он довольно кивнул:
– А как же! Небось, думали, в наших краях – один шансон?
Она кивнула и рассмеялась:
– Точно! Именно так и думала. Как вы догадались?
Он махнул рукой. Неторопливо подошла официантка Нина. Презрительно оглядела его спутницу и слегка у
Сторінка 12
ыбнулась ему, видимо, нередкому гостю.– Завтракать? – спросила Нина. – Все как обычно?
Он растерянно пожал плечом. Нинкину яичницу с помидорами и черными чесночными гренками он обожал. Но есть при девице в его планы не входило.
– Кофе, – небрежно бросил он. – Свари, Нинок, с душой, как умеешь.
Нина кивнула и, плавно покачивая бедрами, поплыла к стойке.
Журналистка подалась к нему и шепотом спросила:
– А что «как обычно», если не секрет?
Он почему-то страшно смутился и пробормотал про яичницу.
На ее лице отразился искренний восторг.
– Яичница с помидорами! Господи, сто лет не ела! Только в Баку тысячу лет назад!
– Нина – бакинка, – ответил Городецкий. – Русская, а муж – азербайджанец. И готовит она по-бакински. Словом, пальцы оближешь и не покраснеешь.
– Послушайте! – Журналистка оглянулась на хмурую Нинку и перешла на шепот: – А можно?
Городецкий улыбнулся и кивнул:
– Ну разумеется! Не за бесплатно же!
Нина кивнула и так же неспешно удалилась на кухню. Пока не принесли заказ, вяло переговаривались о погоде и о чем-то совсем несущественном. Потом появилась официантка, осторожно неся перед собой скворчащую сковородку. Большая сковородка, совсем домашняя, черная, чугунная, стояла на столе, лениво отплевываясь все еще горячим маслом.
– Фантастика! – восторженно покачала головой барышня. – Так и хочется прямо оттуда, макая белым хлебушком… Как дома!
Он усмехнулся:
– Можете себе позволить. Но есть из одной сковородки с вами я бы не стал. Так едят только близкие люди, от которых не ждешь никакого подвоха и с которыми можно расслабиться. А тут…
И он с сомнением покачал головой.
– Не доверяете, – понимающе кивнула она. – А вот это зря. Ну что я могу вам сделать плохого? Например?
– Не доверяю, – согласился он, – и что можете сделать плохого, точно не знаю. Но точно знаю, что можете. И вообще, чего от вас ждать? Вероятнее всего, подвоха.
Она пожала плечами и, решив завершить дискуссию, ловко разделила яичницу пополам.
Несколько минут жевали молча. Потом она улыбнулась:
– Совместная трапеза сближает, правда?
Он ответил:
– Да нет, не всегда. Вот, например, супруги. Сколько лет живут вместе, столько собираются за кухонным столом. Хлебают суп, жуют котлеты. Дуют на горячий чай. Молчат или спорят. И при этом, вполне вероятно, ненавидят друг друга. Так ненавидят, что странно, что не давятся.
– Образно! – рассмеялась она. – Так и представляю себе двух стариков с котлетами на вилке, мечтающих проткнуть горло визави. Этой самой вилкой из нержавейки.
Уже благодушная – после стольких комплиментов благодарной гостьи – Нина принесла в медной турке кофе и две маленькие чашки.
Они пили кофе и молчали. Наконец Городецкий сказал:
– А ведь вы мне соврали.
Она удивленно вскинула брови.
– Соврали, – уверенно подтвердил он. – Никакая вы не приезжая. Вы москвичка.
Она чуть смутилась, а он продолжил:
– Москвичка. Из нормальной интеллигентной семьи. С хорошим образованием и любящими родителями. Так?
Она, чуть подумав, кивнула.
– А что, очень бросается в глаза? Ну, что не приезжая? Интересно, по каким признакам? Нет, правда! Вот жутко интересно!
– Признаков много, – уверил ее он, – и все налицо. У вас, например, в отличие от приезжих, нет затравленности во взгляде, потому что нет кредитов и ипотеки на шее. Разве не так? И ребенка у вас нет, и больной мамы. Все вранье! И как я могу после этого вам доверять?
– Ну и что? – Она, ничуть не смутившись, небрежно махнула рукой. – Даже если все это правда? Мне же надо было вас заманить, ну хотя бы жалостью. Вы ведь наверняка сентиментальны. Об этом говорят все ваши фильмы.
Он разозлился – и на «сентиментальны», и на «заманить», и на то, что она совершенно не смутилась и даже не порозовела, когда ее обличили. Не извинилась, в конце концов. «Непробиваемы! – подумал он. – Все эти непробиваемы! Четко знают свое дело. Надо, и все! И все способы хороши».
Он затушил сигарету и резко бросил:
– Вот поэтому у нас с вами и ничего не получится. Потому что ложь с самого начала. И еще совет: в следующий раз врите поосмотрительней. Поизощреннее как-нибудь врите, поискуснее, что ли. А то так все примитивно, что противно, ей-богу! Знать, что тебя купили, и так задешево.
Она дернулась, наконец покраснела и встала со стула.
– Какая отповедь! Прямо как преступнику. Ну и бог с вами!
Она открыла кошелек и бросила на стол пятьсот рублей.
– Спасибо за ланч. Все было прекрасно. Я имею в виду то, что касается непосредственно самой еды. И кофе, кстати. Так что времени зря я точно не потратила.
Она усмехнулась и, схватив сумку, быстро направилась к выходу.
У двери обернулась и, прищурив глаз, нежно пропела:
– И вам совет, если позволите. Такие, – кивнула она на сковородку, – завтраки вам, уж простите, не на пользу, сплошной холестерин. Кашка, знаете ли. Овсяная или, скажем, манная. Да и с кофе поосторожнее, в вашем-то возрасте. Берегите себя! Вы же всеобщее достояние.
И, громко хло
Сторінка 13
нув дверью, она скрылась из виду.– Сука! – выкрикнул он.
Нина озабоченно выглянула с кухни.
– Дрянь какая, – продолжал, уже тише, он.
Да и сам – старый идиот! Вот поперся же. Клоун, болван.
Он оглянулся (Нины в зале не было) и быстрым движением смахнул в ладонь розовую пятисотку. Потом мгновенно прикинул: две яичницы – сто пятьдесят, кофе еще восемьдесят. Плюс гренки – еще сороковник. Итого: двести семьдесят. Достал из кармана триста рублей, тремя бумажками, и аккуратно положил их под блюдце.
Тридцать рублей – нормальные чаевые за завтрак.
– Ланч, – криво усмехнулся он и снова произнес: – Ланч! Мерзавка.
* * *
Она села в машину и поняла, что ехать прямо сейчас не сможет, тряслись руки. «Паркинсон, блин», – зло подумала она.
Она глотнула теплой воды из бутылки и завела машину. День был безнадежно испорчен. Это она поняла. Вот только почему? Мало ли у нее было таких ситуаций? Да миллион. И похуже. А тут…
«Расстроилась! Дура! – ругала она себя, сильно газуя на светофорах. – Вот как чувствовала, не надо с ним связываться. Сразу было видно: напыщенный индюк и закомплексованный неудачник. Ну и хрен с ним, рухлядь, кандидат на помойку».
Она подрулила к зданию редакции и, сделав пару глубоких вздохов, пошла к двери. Попов не любил сорванные интервью, и поэтому предстояли разборки. «Не привыкать!» – подбодрила она себя, неожиданно вспомнив о грядущем сокращении.
* * *
Городецкий прошелся по окрестным дворам, зашел в магазин, купил две бутылки пива и побрел домой.
«Веселенький предстоит денек, – подумал он. – Пиво, телевизор, диван и… Скорее бы ночь и маленькие розовые пилюльки, сулящие большое и светлое счастье – беспробудный сон. Зато до утра».
Дома было невыносимо душно. Он встал под холодный душ. Горячую воду отключили неделю назад, а в жару без нее еще тяжелее, чем в холод. Пиво бросил в морозилку, не забыть бы достать.
Душ и чуть остывшее пиво слегка примирили с действительностью. Он уселся в кресло и вдруг пожалел, что так погорячился. Ну наврала девка, с кем не бывает? Можно подумать, он, безгрешный, никогда не врал. Ну, надо ей сделать материал, все понятно. Он уперся как баран, вот она и наврала. А девка, между прочим, неплохая. И мордочка славная, и фигура. И остроумная, и язычок острый, и поела с аппетитом, не выпендривалась. И что он, старый хрыч, на нее набросился? Девка как девка, ничего противного. И ведь права – нечего свои комплексы вымещать на посторонних. Кто виноват, что он облажался и жизнь на склоне лет выставила жирную фигу? Уж точно, не эта журналисточка.
После пива Городецкого сморило, и он задремал прямо в кресле, успев подумать, что сон теперь – его лучшее и главное спасение. Чтобы не вспоминать. Не припоминать. Не задумываться. Чтобы ничего. И жизнь его сегодня – ничего.
Пустота, тлен, существование. Медленная и нудная дорога на Хованское. Потому что на Ваганьково ему путь заказан. Там теперь – депутаты и бандюки. А он и этого не успел – лечь пораньше, к своим коллегам. На престижное место.
* * *
Попов, конечно, разозлился. Сказав, что непрофессионализма не прощает. Как это – «не уболтала»? Как «конфликт»? Что это значит – «невозможно»? Неконтактен? Асоциален? Найди подход! Тебе, матушка, за это деньги пло?тят. Завтракали вместе и не смогла? Обидел? Ну, знаешь ли… Нет, другого героя не будет. А потому! Потому что пойдет серия репортажей о том поколении киношников! Уже есть подборка, восемь героев. И все – его коллеги и напарники. Все они варились в одном котле. Любили друг друга, ненавидели, завидовали, отбивали друг у друга жен, уводили любовниц. Старались друг друга перещеголять. Во всем – в работе, в бабах, в квартирах. Создавали шедевры и кропали дерьмо. Дружили, общались домами. Писали доносы. Прогибались и не прогибались под власть. Льстили, врали, дрались – не на жизнь, а на смерть.
И все они жили в одно время, понимаешь! И были как-то связаны между собой. А он, твой Городецкий, был фигурой не последней, а даже ключевой. Вот поэтому, милочка моя, Городецкого ты возьмешь и работу с ним сделаешь. Потому, что без этого старого хрена не сложится весь пазл, ты меня понимаешь?
Она сидела в крутящемся кресле, чуть поворачиваясь в стороны, и не поднимала головы.
Потом тихо спросила:
– А если Янчик? Ну, пусть он возьмет Городецкого, а я – следующего, другого? Ну какая тебе разница? У Янчика получится не хуже, уверяю тебя.
Попов посмотрел ей в глаза и покачал головой:
– Нет, Аня. Не выйдет. Городецкий – твой. И разговор на этом закончен.
Она медленно встала с кресла и, не глядя на Попова, пошла к двери.
– Янчик твой, матушка, увы, уволен, – заявил ей в спину Попов. – Не справился с заданием. А у нас сокращения. Али вы запамятовали, милая? Так что про капризы забудь. Или у вас критические дни? Так это пройдет, – ласково уверил ее редактор и тихо, мерзенько захихикал. – И еще, – добавил он громче. – Никакого отпуска, поняла? Никаких тебе Средиземных и Эгейских, как ты любишь!
Она, ничего не ответив
Сторінка 14
вышла из кабинета и пошла к себе.– Скотина, – прошипела она, – все вы сволочи. Тебя бы к этому маразматику. Послушать про то, какие вы, журналюги, сволочи.
Вернувшись на место, она даже всплакнула, что бывало с ней совсем не часто. Зазвонил телефон – на дисплее высветилось «маман». Левкова тяжело вздохнула и нажала на кнопку.
Мать начала с места в карьер:
– Ну и как у тебя с совестью?
Анна молчала, понимая, что вступать в диалог бессмысленно, маман не остановишь, пока она, как говорится, «не сольет». А если подключиться, то децибелы будут расти.
Наконец матушка выговорилась и заявила:
– Ну, и что ты молчишь?
– Берегу здоровье, – ответила дочь, – а то, боюсь, убьет. Как говорят, не стой под деревом во время грозы.
– Остроумно, – хмыкнула мать и уже поспокойнее спросила: – А позвонить нельзя? Хотя бы раз в неделю? К папаше своему небось ездишь, не пропускаешь.
– Оставь папашу! – разозлилась Анна. – Покоя он тебе не дает. Или еще тревожит? Беспокоит, может? Это любовь, Светлана Сергеевна, не иначе.
Мать задохнулась от возмущения:
– Ну, знаешь ли! Совсем обнаглела!
– Внучков своих воспитывай, – зло бросила дочь и нажала отбой.
И тут разревелась в полную силу. Кто-то заглянул в кабинет и быстро захлопнул дверь.
Потом она пошла в туалет и умылась холодной водой. Вернулась в кабинет, поставила чайник, бросила в чашку три ложки растворимого кофе, добавила три куска сахара, достала зеркальце и накрасила губы красной помадой.
«Жара, – подумала она. – Нервы. Усталость. До отпуска еще два месяца. Нет, слава богу, полтора. Все осточертели. Попов прав: еще и критические дни. Вот гад! Как прочухал…
Ну ничего! Завтра обещают дожди и грозы. Женские неприятности тоже к концу. Маман требуется иногда ставить на место. До отпуска – всего полтора месяца. Городецкого возьмем, не таких брали. Держись, старый пень! И все у нас будет чики-пуки! Не сомневайтесь! Всех победю! Потому… Да просто победю, и все! Потому что такая. Умная и красивая!»
Она подошла к зеркалу, вскинула подбородок и чуть выпятила ярко накрашенный рот.
Потом поправила волосы и показала отражению язык.
За окном отдаленно загрохотало. «Началось», – злорадно подумала она и открыла ноутбук.
* * *
Что самое грустное в старости? Отсутствие желаний. А самое главное – ты разочаровался в себе. Осознал, что врал, предавал и делал подлости. Ничуть не меньше остальных, тех, кого ты считал отъявленными подлецами. Ты тоже шел на компромиссы: уступал начальникам, прогибался, вначале неумело и потом мастерски, льстил, старался угодить и попасть в любимчики. Правда, причины были: ему хотелось снимать, хотелось работать. Но делал он совсем не то, что ему не просто хотелось, а было жизненно необходимо. И он, особо не сопротивляясь, заткнулся и стал положительным, бесконфликтным и успешным «лирическим певцом любви». Лепил счастливые концы, в которых всегда торжествует добро, любовь и верность побеждают предательство и обман, в итоге все становится хорошо, а зло оказывается повержено.
Его подташнивало от вранья. Близкие друзья по-прежнему предавали, женщины уходили к более успешным, деньги все так же играли решающую роль. Деньги, слава, возможности. И он по-прежнему хотел того же самого. Любви красивых женщин, желательно – самых красивых. Денег, дающих свободу и размах. Машину, новую, последней марки, квартиру, розовый унитаз, нержавеющую кухонную мойку, белую спальню с позолоченными вензелями, копченую колбасу и икру в финском холодильнике, твидовый английский пиджак, туфли из мягкой замши. Загранкомандировки, пусть в ту же Болгарию. А ведь бывали и Италия, и Франция, и даже невозможная Австралия… Все это оказалось гораздо важнее, чем то, о чем он мечтал в юности: сказать свое слово, оставить свой след, оставить после себя…
И женщин он выбирал по тому же принципу. Чтобы самая-самая. А самые-самые оказывались неверными, капризными, мелочными, расчетливыми. Им всегда было мало и хотелось больше. И они уходили туда, где было это «больше». Квартира больше, машины лучше и поездки чаще.
Друзей он стал подозревать в неискренности. Неуспешные – точно завистники. Успешные – вообще сволочи. Переступят, не моргнув глазом: отберут сценарий, подлизавшись к главному редактору и подпоив худсовет, – подло, по-мелкому. Соврав, например, что он, Городецкий, смертельно болен и окочурится на середине картины.
Все кругом врали, улыбаясь друг другу в глаза. Поливали приятеля за его же спиной. Доносили начальству. Стучали в загранкомандировках: напился, спустил деньги на баб, купил то, что ему не положено. И самое печальное, что выживали именно те, кто лгал, льстил, наушничал и пресмыкался лучше и успешнее других. А те немногие, кто оставался честен и не поддавался соблазнам, те, кто бился головой в закрытые двери, разбивал лоб и сердце, кто наивно и искренне верил, что может что-то улучшить и изменить в жизни, тот, кто наплевал на замшевые пиджаки и продолжал жарить пустую картошку на коммунальной кухне… Они ломались. Спива
Сторінка 15
ись или умирали молодыми. Часто – по собственной воле. Петля, окно, упаковка димедрола…Путь правды был шаткий, коварный. И он выбрал другой. И казалось, все бы ничего… Только те, кто шел с ним по тому, «сладкому», почему-то выжили. По-прежнему держались на плаву. И были очень довольны жизнью. Мелькали в телевизоре, светились на фестивалях, носили новые пиджаки из вечного английского твида. И поддерживали под острый локоток прекрасных женщин – новых и молодых.
А он – нет: не выжил, не выплыл. Он готов был платить – и платил. Но почему? Почему он и еще жалкая кучка таких же, как он, неудачников? Почему не все, кто шел на сделку с совестью? Или есть счастливчики и есть те, кто платит за всех?
Он же был не хуже других, ей-богу! Дорогу переходил, но не стучал, никого не закладывал. Жену у друга не уводил, детей не бросал, просто так сложилось. Да, зачерствел, покрылся бегемотьей шкурой, толщиной в полметра. И при этом стал до противного сентиментальным в глупых, ничтожных моментах и очень пытался это скрыть. А истинное, глубокое горе его вообще не трогало. Потому что от истинного горя он старался закрыться и убежать.
Стал нетерпим к человеческим слабостям, нежа и поливая теплой водицей свои, родные. Стал не в меру брюзглив, придирчив и по-старчески капризен – короче, полный набор того, что он всегда ненавидел в людях.
Страдал от одиночества и отвергал любую помощь. Избегал общения. Презирал новомодных «творцов», варганящих сериалы из дерьма, и возмущался их заоблачными гонорарами. Не только возмущался, но и завидовал им, боясь самому себе в этом признаться.
Пытался убедить себя, что все это – слава, деньги, поклонники – ему не нужно. Всю эту пену, мелочь и пустую суету получил в своей жизни сполна. Накушался за троих. По сути, чего ему надо? Да ничего! Свежая газета по средам, та, которой он еще доверял. Пиво. Яичница у умелицы Нинки. Курица из духовки на ужин. Книги, они, слава богу, есть. Старые. Новые, по бешеным ценам, ему неинтересны.
Лекарства? Да не пьет он их! Правда, когда жмет затылок… Ну, или слева в груди… Идет к соседке, милой бабульке из квартиры напротив. И та, качая головой, осуждая, но жалея, дает ему таблетку какого-нибудь коринфара – и дело сделано. В поликлинику он упорно не шел, отчего-то было неловко. Словно так он окончательно признает себя стариком. Ну, сердце – так курильщик с сорокалетним стажем. И разумеется, он не алкоголик. А посчитать, сколько выпито за грешную жизнь… Не море, океан.
Словом, что в сухом остатке? Противный старпер, возражающий против всего. Одинокий, потерянный пень, брюзга и зануда.
Вот и радуйся на старости лет. Тебя же все раздражали! Все – жены, дети, любовницы, друзья. Ты так устал от непонимания. От людской тупости, алчности и неискренности. Ты так жаждал уединения, так о нем мечтал! Вот и получи.
Только Господь его не услышал. Не одиночества. Уединения! А это ведь разные вещи, совсем разные. Только там, наверху, не расслышали. Наверное, так наказали.
И еще эта девица из журнала… Вот не шла она из его атеросклеротической башки! И почему, спрашивается? Сам не понимал.
* * *
В который раз Анна набрала в поисковике фамилию Городецкий. Ничего нового. Все уже прочитано и выучено. Надо что-то делать. Чем-то зацепить этого упрямого старого осла. Найти то, от чего он не сможет отказаться.
Через пару часов наконец показалось, что нашла. Она перечитала текст еще три раза и поняла: есть! Есть то, что его непременно заденет. Итак…
Длинное интервью знаменитого артиста того времени. Однако этот когда-то златокудрый любимец всех советских женщин до сих пор оставался в тренде. Правда, теперь он играл не монтажников-высотников, сталеваров-стахановцев и лихих водителей грузовиков, а директоров заводов, усталых честных губернаторов и таких же честных и не понимающих реальности председателей правлений банков. Тех, кого ставят на место и называют «фунты». Которые в итоге садятся, а их товарищи успевают сбежать на Канары, естественно прихватив с собой все нехилые деньги.
Актер без характерной для своих ровесников тоски вспоминал прежние времена, не забывая повторять, как сильно он их ненавидел. Как ненавидел и свои роли, всех этих «честных коммуняк», сказал он. Новые времена пришлись ему по нраву больше – и «честные губернаторы», видимо, не смущали. Он превозносил режиссеров нового времени, не забывая поливать грязью прежних коллег. Жизнью он был доволен вполне – демонстрировал роскошную тачку, загородный дом и молодую красавицу-жену.
Неожиданно знаменитость пустилась в воспоминания. Бог справедлив к подлецам, заявил он. Вот где, например, господин Городецкий, точнее, товарищ, потому что господином этому жалкому плуту не стать никогда? Почему он наверняка в нищете и забвении? А потому, что подлец! Укокошил первую жену, красавицу Лилию. Ах, какая была женщина! Нежная, тонкая, верная! Талантливая. Таких уже не найти, увы, на белом свете. Так вот, этот подонок взял, приручил, сломал и выбросил. Вот и поделом! Слава богу, есть на зем
Сторінка 16
е справедливость. И кстати, ведь открыли тогда дело. А этот… Вывернулся. Все обалдели. Даже при его-то прыти! Как, вы ничего не знали? И даже не слышали? Ну вы даете! Молодежь… Громкое было дело. А что толку? Нет прекрасной, замечательной женщины. А он есть. Отсиделся, нет, не на нарах, что вы! Я же говорю, отмазался. Уж! Нет, где-то на выселках, на «Узбекфильме». И даже там умудрился отснять очередное дерьмо. Представляете? Ни стыда ни совести! А потом вернулся. Жив курилка! Как ни в чем не бывало. И с новыми силами – новая жена, новая любовница. И начал строгать свои… шедевры… И за границу, представьте, поехал. А что, дело-то закрыли, как говорится, за неимением состава… И снова на коне въехал в столицу. Ну, не на белом, так на гнедом. А письмо-то было! Было письмо! Я не видел, но мне рассказывали.Ей почему-то стало противно. Отчего? Не поняла. Или от интервью этого актера с физиономией близкого к народу борца за справедливость? Или оттого, что она не ошиблась? Городецкий и впрямь оказался подонком. Хотя судьи кто? Этот, «успешный»? Верить ему? Да бред, ей-богу! У него же на морде все написано! А у Городецкого лицо… Разве бывают у подонков такие глаза? Да черт его знает.
Все перепуталось в этом мире.
* * *
Телефонный звонок выдернул его из неглубокой дремы. Трещал городской. Он поморщился и вздохнул. Женя. Кто же еще? На городской может звонить только она, Женя. Его бывшая и последняя жена.
Пару секунд Городецкий смотрел на телефон взглядом человека, страдающего от затяжной зубной боли. Нет, не успокоится. Дальше будет примерно так. Минут через десять замолчит городской и начнет трезвонить мобильный. А если он не ответит и по нему, начнутся звонки по больницам и по моргам. Потом сердечный приступ у Жени и звонки в дверь – это приедет ее сын, Слава, его, так сказать, пасынок. Можно рискнуть и не открывать. Тогда матушка прикажет сыну вызывать МЧС и ломать эту несчастную дверь. Однажды так было.
Нет, рисковать не стоит. Он со вздохом снял трубку.
– Илюша! У тебя все в порядке?
И, разумеется, бурные всхлипы. Минут пять он объясняет, что все в порядке. Он здоров и жив, раз общается с ней по телефону. Раздражение копится, буря готова разразиться. Женя (а знает она его неплохо) останавливается и перестает его попрекать и причитать.
Он отчитывается. Спал. Ел. Что? Курицу ел. С макаронами. Кефир пил. Да, на ночь. Пил от давления. Тоже на ночь. Надо утром? Хорошо, завтра приму утром. Гулять пойду. В парк. После обеда полежу. Господи! Да я все время лежу. И после завтрака, и после ужина, и после обеда. У меня уже пролежни, наверное. Соловьева смотреть не буду, чтобы не расстраиваться, да. Обещаю. Хорошо, клянусь. Чем? Нашей с тобой любовью, родная!
Опять всхлипы.
– Ты надо мной издеваешься!
– А ты надо мной? Нет? – невежливо уточняет он.
Снова назревает конфликт. Она переводит тему. Теперь кудахчет про сына и внуков. Боже мой, ведь неглупая женщина! Почему не усвоит, что Славик и его семья ему совсем неинтересны?
Он набирается терпения и, стиснув зубы, молчит. Женя подробно рассказывает про путевку в санаторий. Десна. Близко, совсем близко от города. Лес, речка. Лечение, питание, бассейн.
– Угу! – бурчит он. – Замечательно. Я не знаю, дорого или нет. Я не езжу в санатории, Женя.
– Ну и зря, – подхватывает она. – С твоим-то сердцем!
– Господи! – взывает он.
И тут – финальный аккорд. Женя предлагает приехать и приготовить обед.
Десять лет они в разводе после скучного и обременительного, никому, ни ему ни ей, не нужного брака. Десять лет перезваниваются. Точнее, всегда звонит она. И все эти долгие десять лет она, бывшая жена, предлагает ему «приехать и приготовить обед», выслушивая в ответ его категорический и раздраженный отказ.
И все десять лет она обижается, обижается и обижается!
Ну, и есть у этой женщины мозг?
Наконец разговор заканчивается. Женя действительно обижается на его отказ. Грубый, некорректный, просто хамский. Ну и славно! Обижается Женя недолго, всего неделю. И он заодно отдохнет от ее жалоб, причитаний, обид. От ее правил приличия и ее назойливой порядочности. От ее гипертрофированного чувства долга. От ее ненужной заботы. От нее самой.
Городецкий выпил кофе, поторчал на балконе и решил сходить в магазин. Захотелось зеленых щей, так захотелось, что свело скулы и рот наполнился густой слюной. Он стал вспоминать, как готовятся свежие щи из молодой капусты. В Интернет лезть неохота. Звонить Жене – тем более, тогда уж лучше совсем без щей. Тащиться к Нине и Азизу – вообще глупость. Так. Капуста, картошка, морковь. Да, лук. Разумеется. Что еще? А! хорошо бы помидорчиков свежих, две-три штучки. Туда, в кастрюлю. Что еще?
Затренькал мобильный. Он машинально взял трубку.
– Кто? – переспросил. – Не понял. Анна? Какая Анна? А-а-а!
Он слегка опешил, но хамить и возмущаться не стал. Вдруг спросил:
– А вы не в курсе, что кладут в зеленые щи?
Она, обалдев от такого поворота событий, быстро взяла себя в руки и четко перечислила.
Сторінка 17
– Вот! – воскликнул он. – Много травы! Зелени много! Кинза, петрушка, укроп. Гениально!
И как вовремя вы позвонили!
Анна, собрав в кулак остатки воли, нахальства и напора, тихо пролепетала:
– Я могу подвезти зелень. Как раз весь набор. Петрушку, укроп и кинзу. И даже сельдерей, представляете? А он для щей – просто клад. У меня целый пук. Привезла с дачи. Отец у меня, видите ли, увлекается огородом.
Он помолчал пару секунд, вздохнул и деловито скомандовал:
– Вот и отлично! Везите свою зелень. И не зажмите свой золотой сельдерей. А то без сельдерея как-то…
– Через час буду, – скороговоркой заверила она.
Ему отчего-то стало смешно. Есть еще на него спрос, хоть такой, а есть. Ну, какой есть. И женщины вокруг – сплошной малинник: скучная пенсионерка Женя, наглая журналистка Анна… У подъезда встретит соседку Альбину с подбитым глазом, звезду района, которая тоже не обойдет его вниманием, особенно с похмелья.
Он бодро оделся и поспешил в магазин. Скоро прибудет зелень, а у него нет даже капусты. Что она про него подумает? Что он идиот. И будет права.
И когда раздался дверной звонок, он затормозил у двери и подумал: ну точно, идиот. Хоть притащил и капусту, и лук. Зачем мне все это надо?
Они стояли на пороге и пару минут молчали – оба смущенные и растерянные. Он, не юный, хорошо поживший мужик, и она, молодая, но уже все понимающая про эту жизнь, деловая и разумная женщина двадцати восьми лет. Люди с разных планет. Разных взглядов и поколений. Разных приоритетов. Разного всего.
Но на пороге стояли мужчина и женщина. И какая разница, сколько им лет и какие у них взгляды на жизнь? Вот именно, никакой.
Они неловко толкались на узенькой, тесной и убогой кухоньке, разбирая продукты. Он гремел посудой, доставал пыльную кастрюлю и закопченную сковородку. Она деловито мыла, чистила, резала. Он сидел на стуле и, смущаясь, предлагал свою помощь. Уже вовсю пахло мелко нарезанной травой и луковой поджаркой.
Она, стоя к нему спиной, забрав волосы в высокий хвост, помешивала ложкой в кастрюле. Вдруг резко обернулась:
– А сметана? – И кивнула на холодильник.
Он хлопнул себя по лбу. Получилось довольно громко.
– Болван! Какие же щи без сметаны?
Она осуждающе покачала головой:
– Вот именно! Щей без сметаны просто не бывает.
И посмотрела на него с укоризной.
– Я сгоняю! – бодро заверил он. – Магазин – внизу, прямо под домом. Через десять минут максимум будет сметана.
Она притворно вздохнула и выкрикнула в коридор:
– Хлеба не забудьте! Непременно черного, а лучше всего бородинского!
Хлопнула дверь, и Анна устало присела на стул. Игры какие-то. Щи. Бородинский. Сметана. А дальше надо будет хлебать эти щи. Со сметаной и с бородинским. А потом? Что будет потом? Работа.
Она тяжело вздохнула. Работа, все ради нее, родной. Ради Попова, читателей и зарплаты в сорок тысяч рублей. Не слишком ли хлопотно, Анна Михайловна?
Городецкий рванул к продуктовому, как подросток. Так лихо он, кажется, не бегал лет двадцать. А когда вернулся в подъезд, ожидая лифт, пришел в себя. Охренел совсем. К чему это все? Суп этот дурацкий. Сметана с хлебом. Девица… с хвостом на его кухне, хозяйничает в его старом фартуке. Точнее, Женином. Как-то случайно этот фартук попал в его чемодан при разделе имущества. Бред какой-то. Сейчас он поднимется в квартиру, поставит на стол сметану и хлеб. А дальше? Дальше надо будет все это есть. Со сметаной и хлебом. И о чем-то говорить (о чем?) с совершенно незнакомым, непонятным ему человеком. Абсолютно чужим, еще вчера отчетливо неприятным. Почти врагом. Сидеть в своей дурацкой и убогой кухне, ковырять в щербатых тарелках дешевыми китайскими ложками и… И думать о том, что все это она опишет, предварительно переврав, перевернув, опорочив. Потому что за это ей платят деньги. Вот проникла же! Просочилась как мышь.
Ловка. Ладно, старый болван, никто к тебе не просачивался. И тапок твоих не просил. И о поварешке твоей не мечтал. Сам позвал с перепугу. Вот иди и хлебай свои щи. Со сметаной и бородинским. Вперед, идиот! Почти рифма.
Дверь лифта открылась, и в нос ударил приятный запах готовой еды. Он, глубоко вздохнув, толкнул входную дверь и крикнул:
– Принес!
Она вышла в коридор и улыбнулась:
– Вот и славно. Тарелки уже на столе. И кстати, я нашла в холодильнике вполне приличную чесночину.
Они сели напротив друг друга, по-прежнему смущаясь, и неловко приступили к трапезе.
– Вкусно! – бодро заметил он, хлебнув горячего супу.
«Что я, с бабами не ел? – зло подумал он. – В кабаках, на приемах? В интимной обстановке? Утром, после ночи любви. Вечером, перед ночью любви… Да с какими бабами! Вам и не снилось! Постоять рядом не снилось, а уж тем более есть. Поначалу – ломоть любительской и пара-тройка яиц. Позже (значительно позже) икра, камамбер, ветчина со слезой. Десерты. Фрукты в шампанском. Вот-вот, хорошо, что вспомнил. А то совсем оробел, старый хрыч. Увидел молодую бабу и свернулся в клубок. Ты ж орел! Коршун! Тигр и лев!
Сторінка 18
иди и хлебай! Ишь, застеснялся… Ты Городецкий!Старый пень с давлением и пенсией в пятьсот долларов. В джинсах из девяностых и ковбойке оттуда же. Ничего. Мне можно. Хотите – берите. Не хотите – бай-бай!
А аппетит у нее, между прочим, ничего себе. Здорово рубает, от души». Ну, в этом он убедился еще у Нинки, за яичницей.
Анна откинулась на стуле и выдохнула:
– Вкусно!
Потом посмотрела на него внимательно и заметила:
– Что-то мы с вами едим и едим. Странно, не правда ли?
Он тоже отложил ложку, посмотрел на нее и сказал:
– А что тут странного? Мы же с вами живые люди. А еда, как вы справедливо заметили, обязательно сближает. Разве не так?
Она подумала и, кивнула:
– Так. На это, кстати, я и рассчитываю.
– Ну хотя бы честно, – усмехнулся он.
Возникла пауза, перешедшая в неловкость.
– Ну, приступим? – спросила гостья и встала из-за стола.
Он в ужасе скривился:
– Уже? Сразу к делу?
Она слегка улыбнулась:
– Конечно! – И через пару секунд добавила: – К мытью посуды. А что время терять?
«Один – ноль, – признал Городецкий. – Девочка-то умная. Совсем не дура девочка».
Умная девочка снова нацепила фартук его бывшей жены и с энтузиазмом принялась за уборку, а он отправился на балкон покурить.
Она подошла к нему минут через двадцать:
– Илья Максимович! Какие планы?
У него дернулась губа.
– Планы? Вы о чем, милая? У меня планы поспать, например. Отдохнуть. После обеда пенсионеры, знаете ли, привыкают вздремнуть. Всхрапнуть, если хотите.
Она не дрогнула.
– А! Ну и славно! Разумеется, отдыхайте. Я все прибрала, кстати. Могу идти?
– Идите, – кивнул он. – Большое спасибо. А вы, часом, полы не помыли?
– А надо? – Она слегка порозовела. – Если что, я готова. Я с одиннадцати лет состою в сообществе «Тимур и его команда». Движение такое, помните? Главный лозунг – помогать слабым и немощным! Вы же немощный, Илья Максимович. Разве не так?
Он изучающе смотрел на нее пару секунд, словно видел впервые. Поединок взглядов она тоже выдержала достойно.
– Ну, – протянул наконец он, – два – ноль.
Она удивленно вскинула брови.
– Ладно. Дожали, – вздохнул Городецкий. – Завтра начнем. Устраивает?
Она кивнула:
– Конечно. У меня же вагон времени. Сегодня, завтра. Позавчера.
Она направилась к двери и, открыв ее, обернулась:
– Если передумаете, можете не звонить. Не утруждайтесь! Приеду – тогда и сообщите. Ведь вам наплевать, что на дорогу я потрачу минимум пару часов.
Он растерялся и вяло промямлил:
– Ну я же сказал…
Она вышла на лестничную клетку.
– Спасибо за суп! Такая честь – поесть рядом с гением. Ну, раз уж не поговорить.
Он не нашелся и медленно закрыл дверь.
– Три – ноль, – сказал Городецкий вслух. – А я – старый осел.
* * *
Завтра, пообещала она себе, завтра – или пошлю его ко всем чертям. Достаточно! Неврастеник. То позвал, то послал. Передумал. Ну и черт с ним! Пошлю их на пару – Городецкого этого и Попова, любимого шефа.
Она нервно вела машину. На работу возвращаться не хотелось, и она позвонила секретарше Милке и сказала, что «на задании». Милка беспечно отмахнулась: шеф, мол, рванул в Тамбов к заболевшей теще и вернется дня через три, не раньше, по редакции брошен клич «расслабляйсь», и она, Милка, тоже «сваливает на хрен, потому что достали».
Домой совсем не тянуло. Видеть бойфренда Сильного – тем более. На дачу к отцу… Ну уж нет. Никого не хочется видеть, слышать, слушать и утешать.
Анна припарковалась у итальянского кафе и с удовольствием устроилась в глубоком кресле, наслаждаясь тихой музыкой и слабым жужжанием кондиционера. Кальцоне, гигантский итальянский чебурек, была прекрасна. И капучино, и панна котта – все свежайшее и вкуснейшее. Жизнь показалась не такой непереносимой.
Анна вышла из кафе и достала телефон, звякнувший эсэмэской. «Простите и не сердитесь, если получится», – высветилось на дисплее.
Она довольно усмехнулась и громко сказала:
– Получится! Скажи спасибо хорошему итальянскому повару.
* * *
Ему и вправду было неловко. С девицей все понятно: суп сварила в корыстных целях, Тимур и его команда ни при чем. Он ей нужен – она и канкан спляшет, и гопак. А вот он… «Нехорошо, ей-богу! Истерик какой-то, а не мужик. Чего я боюсь, спрашивается? Ее вопросов? Так не понравится – пошлю подальше. Я же не детектору лжи отвечаю. Да и чего бояться? Только своей совести. А не этой соплюхи. Хотя поколение, конечно, – не чета нашему. Другие. Совершенно другие. И друг друга нам понять сложно. Конфликт поколений. А ей – пятерку! Нет, правда, с такой «недурой» приятно иметь дело».
Он стал припоминать лицо журналистки. Вроде ничего примечательного, но притягивает. Нежные, высокие скулы. Смуглая кожа. Серые глаза. Хорошие волосы, густые, блестящие. Почти никакой косметики: чуть блеска на губах и чуть-чуть румян. Одета просто: светлые брючки и майка на бретельках. Понятно, жара. Да и все они не заморачиваются: нацепят джинсы, рубашку, тапки на ноги – и вперед.
Он вспомнил, как де
Сторінка 19
ушки его поколения выходили из дому. Боже мой! Сколько почти нечеловеческих усилий! Стрелки на глазах до висков. Полкило туши, словно мех на ресницах. Начесы и шиньоны. Алюминиевые бигуди на всю ночь. Тонны лака «Прелесть». Шпильки. Колючие чулки на резинках (бр-р). Узкие синтетические юбки и платья. Все колкое, во всем жарко. А они держались. Да еще и шествовали как королевы. А эти… Шаркают, загребают, летят, торопятся. Ни грации, ни беспокойства об изъянах наряда. Всем своим видом показывают: я хороша, и я себя устраиваю. Но это все не про нее. Есть в этой девочке какая-то прелесть. Тихая женственность, что ли. Как ни старается она ее скрыть. А скрыть это нельзя. Это или есть, или нет. Он выпил холодного квасу, поднял крышку кастрюли (о-о-о! супу хватит еще на пару дней. Класс!) и лег на диван.Пенсионер. Правильно. Он ничего не придумал. Не обманул. Поел – надо поспать.
Анна все-таки отправилась домой. Приехав, с удовольствием встала под холодный душ. Потом, не вытираясь – жарко, – пошла на кухню и достала из холодильника бутылку холодной «Эвиан». Матушкина школа: вода должна быть хорошей – это и здоровье, и кожа. Интересно, что такие познания маман обрела в глубокой зрелости. А раньше пила из-под крана и была счастлива. Хотя нет, не очень, не была она счастлива ни со стаканом из-под крана, ни с ее отцом…
Она уселась с ногами в кресло и включила телевизор. Под очередную белиберду и заснула, почувствовав перед сном жуткую усталость. Даже странно, от чего. Вампир этот Городецкий, что ли?
* * *
«Вампир» Городецкий с утра побрился, вылил на себя остатки одеколона (подарок Женькиного Славки ко дню рождения), выпил крепкого кофе, достал из шкафа голубые джинсы, зеленую рубашку поло «Адидас» (классика никогда не выходит из моды), влез в кроссовки и оглядел себя в зеркало. На него смотрел подтянутый и довольно симпатичный дядька зрелого возраста. В глазах – ум, опыт и знание жизни. Совсем неплохо. Живот над брючным ремнем не нависает. Руки крепкие, ноги стройные. Волосы, спасибо отцу и генетике, еще очень даже есть. Морда, правда, помятая, ну, не то чтобы, но… Зубы тоже почти свои, за незначительным исключением. Да и вообще, на такую зрелую фактуру всегда есть желающие.
Господи, какая чушь! Причепурился, старый баран. Поводит плечиками. Играет мускулами. Хорохорится. Перед кем собираешься выступать, олух? Перед этой девицей? Да ей на тебя плевать. Ты для нее – материал. Пара тысяч строк, и забыли! Да и бог с ней. Он не для нее, для себя. Чтобы зайти в кафе или пройтись по парку было не стыдно. Захотел разозлиться, но отчего-то не вышло. Настроение было хорошее. Неплохое было настроение. Давно с ним такого не было.
Он набрал ее номер и почти пропел:
– Жду вас на Арбате. Через полтора часа. Успеете?
Она пролепетала:
– Да-да.
И нажала отбой. Видимо, заторопилась.
* * *
Городецкий ждал Анну у театра Вахтангова. Она не опоздала, это он пришел раньше. Он видел, как она торопливо бежала – высокая, стройная, с развевающимися волосами. На ней тоже были голубые джинсы и легкая белая полупрозрачная рубаха. В ушах и на пальцах – крупные украшения из серебра. Тоже примета времени. Женщины его молодости серебра не признавали. Серебро считалось уделом бедных, все мечтали о бриллиантах. Ирма, его вторая жена, первое время все выклянчивала сережки и колечки. Он покупал с гонораров, ему было несложно. Однажды Фаечка, жена отца, подарила Ирме старинный серебряный браслет. Темный, массивный, тяжеловатый, но было в нем очарование старины. И безусловно, отличная работа. Жена презрительно фыркнула и бросила подарок в ящик стола. Ни разу не надела. Фаечка, конечно, обижалась. А он ее утешал: вкусы у всех разные, то, что нравится тебе, не должно нравиться ей. Как-то Фаечка, очень смущаясь, попросила вернуть ей браслет. Это было не в ее правилах, но он понимал: ей обидно и жалко семейную «ценность». Браслет вернул, а спустя полгода Ирма внезапно вспомнила о вещице и обвинила его «любовницу» в краже. Какую любовницу? Бред! А жена утверждала, что «спереть браслет могла только баба». Сказать про мачеху было неловко, и правду он утаил. А скандал тянулся еще долго, Ирма была злопамятная.
После смерти Фаечки он забрал этот браслет. Это было все, что осталось на память.
Женя, последняя жена, украшений вообще не носила, только обручальное кольцо. В период их странного брака.
– Зачем врачу кольца? – удивлялась она. – Только мешают.
Ей вообще было ничего не нужно, ни золото, ни меха. «Святая дура», – назвал ее кто-то из его знакомых.
«Господи! При чем тут эта несчастная Женя?» – подумал он и сделал пару шагов навстречу новой знакомой.
– Добрый день, – произнес он. – Неплохая погода.
Она улыбнулась и кивнула. Да и как было с этим не согласиться? Погода действительно была хороша.
Как, впрочем, и его спутница. Теперь он это разглядел окончательно. И она это поняла. Точнее, почувствовала. Женщины это чувствуют обязательно. Всегда. Неважно, что это за мужчина – подросток, не знающий нич
Сторінка 20
го, кроме липких горячечных снов, или зрелый мужчина, поживший всласть.– Пройдемся? – предложил он.
Она кивнула. Долго шли по Калошину переулку и Сивцеву Вражку.
У маленького особнячка в Плотниковом он остановился и чертыхнулся.
Она удивленно посмотрела на него:
– Что не так?
– Да все! – воскликнул он слишком громко и слишком горько. – Все, понимаете?
Она непонимающе мотнула головой.
– Был дом. Точнее, домик. Облупленный, конечно, но у него было лицо. Немолодое, усталое, милое, доброе. Возле домика рос маленький сад, садик, прохладный от сирени и жасмина. Темная лавочка, шаткий столик. Фонарь – желтый, уютный. Под ветром поскрипывал, как ворчливый старик.
Он замолчал и раскурил новую сигарету.
– И что? – спросила она с раздражением. – Нет сирени, нет скрипучего фонаря? Нет столика, где вы распивали портвейн или водку? Нет лавочки, где вы целовали своих подружек? Так?
Он кивнул:
– Так. Ничего нет. Есть безликий фасад, крыша из металлочерепицы мерзкого зеленого цвета. Нет сирени и дворика. Вместо дворика – стоянка для их авто, «новые» окна из белого пластика. А были чудные резные рамы и бронзовые шпингалеты на окнах.
– Да бросьте! – она махнула рукой. – Бронзу давно потырили. Старые рамы – сплошной сквозняк. Прежняя крыша наверняка протекала. Сирень жалко, но как парковаться работникам офиса? Улочка узкая, а машину поставить надо. Да и вообще…
Она с минуту помолчала.
– Вы не по сирени тоскуете – вон ее, сирени, кругом сколько угодно. И не по ветхому дому. Вы тоскуете по молодости, по всему тому прекрасному, что с ней связано. А этого наверняка было достаточно.
Он молчал и глядел в сторону.
– Обиделись? – спросила она. – Я не хотела… Просто… Надо принимать время таким, какое оно есть. А если по-другому, то всегда будет больно и горько. К тому же и в другом времени, и во всех этих изменениях и переменах все не так плохо. Просто надо присмотреться и не отрицать все с ходу. У меня с папой такая же история. Поэтому я все это прекрасно понимаю.
Вот дрянь, подумал он, с папой! Поставила сразу на место: даже не думай! Она не дура, все сказано неспроста. А он – голубые джинсы, кроссовки, одеколон… Замшелые привычки замшелого ловеласа. Наверное, ей смешны все его потуги. Папа… Они молча пошли вперед. Он заметил, что она чуть прихрамывает.
– Что с вами? – спросил он. – Проблемы?
Она кивнула, и ее лицо исказилось легкой гримасой:
– Ногу натерла!
Она остановилась и скинула туфлю. На розовой пятке вспух белый волдырь.
– Черт! – пробормотала она. – Надела новые тапки.
Это и вправду были тапки – совсем плоские, без намека на каблук, из желтой кожи и с бантиком спереди.
Он огляделся:
– Надо найти скамейку. А я – в аптеку за пластырем.
Скамейки нигде не было, и он усадил ее на какую-то старую железную тумбу, похожую на древний гидрант. Аптека, по счастью, оказалась за углом. Он купил пластырь и быстро вернулся. Присел перед ней на корточки и строго приказал:
– Снимайте!
Она возразила:
– Я сама!
Он снял ее «тапок», провел пальцем по волдырю и осторожно наклеил защиту.
Закончив, он поднял на нее глаза и столкнулся с ее взглядом. Внимательным, удивленным. И, как ему показалось, заинтересованным.
Конец ознакомительного фрагмента.


