Читати онлайн “Юные годы медбрата Паровозова” «Алексей Моторов»
- 20.04
- 0
- 0
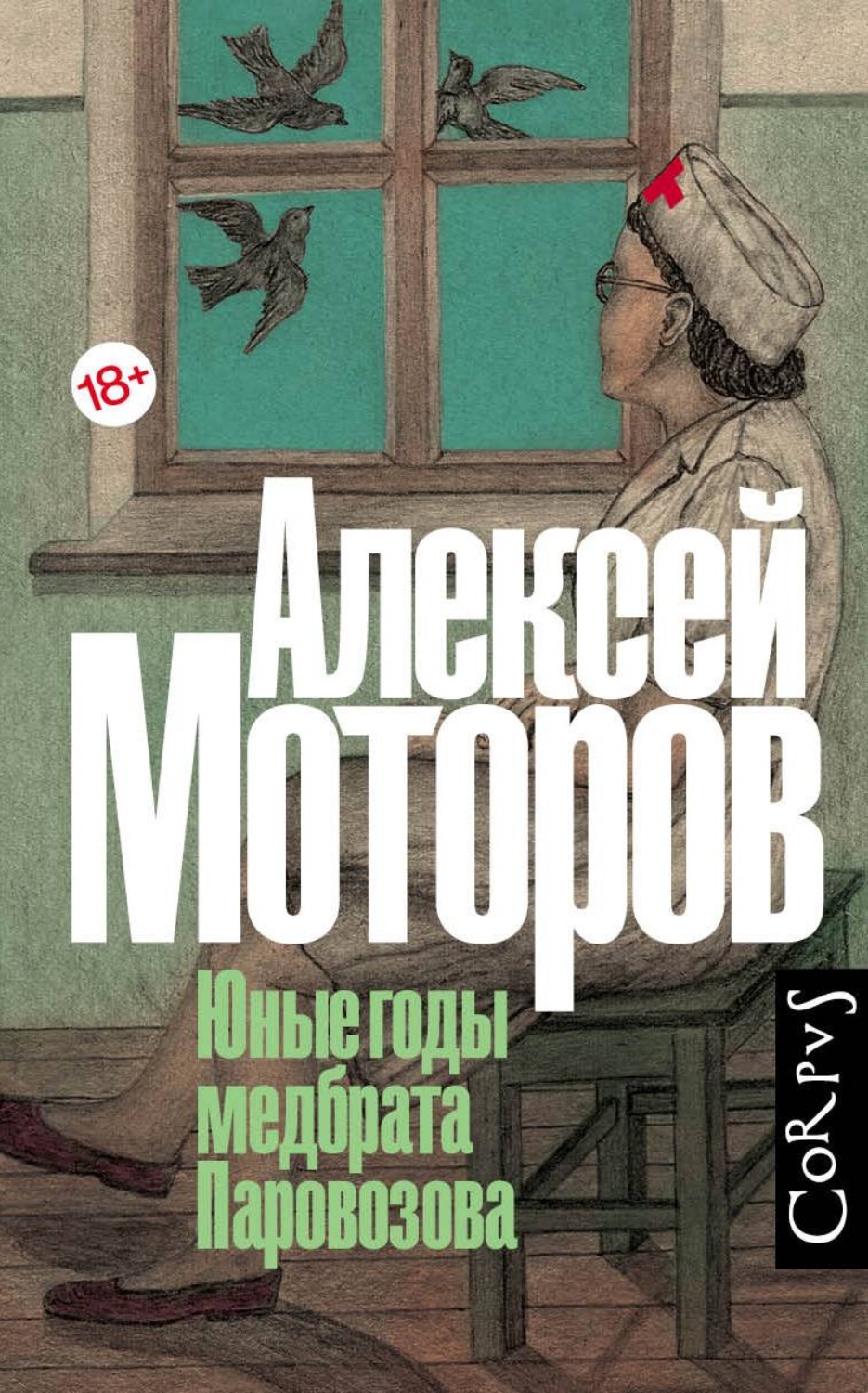
Сторінка 1
Юные годы медбрата ПаровозоваАлексей Маркович Моторов
Паровозов #1
Сюжет этой книги основан на подлинных фактах. Место действия – предперестроечная Москва с ее пустыми прилавками и большими надеждами. Автор, врач по профессии, рассказывает о своей юности, пришедшейся на 80-е годы. Мечта о поступлении в институт сбылась не сразу. Алексей Моторов окончил медицинское училище и несколько лет работал медбратом в реанимационном отделении. Этот опыт оказался настолько ярким, что и воспоминания о нем воспринимаются как захватывающий роман, полный смешных, почти анекдотических эпизодов и интереснейших примет времени. Легко и весело Моторов описывает жизнь огромной столичной больницы – со всеми ее проблемами и сложностями, непростыми отношениями, трагическими и счастливыми моментами, а порой и с чисто советскими нелепостями.
Имена и фамилии персонажей изменены, но все, что происходит на страницах книги, происходило на самом деле.
Алексей Моторов
Юные годы медбрата Паровозова
© А. Моторов, 2012
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© ООО “Издательство АСТ”, 2018
Издательство CORPUS ®
* * *
Моей жене Лене
Одаренный пламенной душой, Жюльен обладал еще изумительной памятью, которая нередко бывает и у дураков.
Стендаль
Красное и черное[1 - Перевод С. Боброва и М. Богословской.]
Очень глубоко. Настолько, что сюда не проникают солнечные лучи. Надо мной километр вязкой, густой, черной воды. С такой глубины невозможно вынырнуть, и я даже не пытаюсь. Вокруг меня абсолютная, непроницаемая тишина. Так не бывает, ведь на любой глубине можно что-нибудь услышать. Просто кто-то невидимый выключил звук.
Я знаю, чтобы не спугнуть это черное безмолвие, нельзя даже думать. И сразу, словно в ответ, где-то там, высоко, светлеет. Мягким, бархатным прикосновением начинается мой подъем к далекому мерцающему своду.
Вода уже не черная, сейчас она как свинцовое грозовое облако. Но и облако быстро меняется, покрывается сединой. И вот уже могучая сила выталкивает меня, с каждой секундой ускоряя движение в зеленеющей воде, стремительно приближая к чему-то невероятно яркому, ослепительно-белому, такому, что невозможно выдержать. А тишина еще со мной, хотя я уверен – ненадолго.
Сейчас больше всего мне хочется туда, навстречу свету, к первому резкому вздоху, к тому чувству высвобождения, которое почему-то давно знакомо.
За несколько мгновений до того, как я прорываюсь к слепящему солнцу, что-то заслоняет его. Передо мной возникает картинка. Даже не картинка, а фотография. Сначала маленькая. Но она быстро увеличивается. Вот уже совсем большая. Очень знакомая. Трое на фоне моря. Девушка, парень и ребенок. Кажется, я видел их когда-то, но теперь не узнаю. Еще немного – и я вспомню. Сейчас. Лица всё ближе. Свет вокруг меня медленно гаснет. Лишь фотография остается горящим экраном.
На снимке отчетливо проступают белые буквы, они выписаны очень причудливо. Разобрать трудно, но я уверен, что читал эту надпись раньше. “СУХУМИ-86”. Она должна означать что-то важное для меня. Конечно, мне уже почти удалось узнать, это же…
И я выныриваю. Удивительно, тут нет криков чаек, шума волн, шелеста откатывающейся гальки, детского смеха.
Вместо этого какой-то огромный и спокойный голос произносит:
– КОТОРЫЙ ЧАС?
Невероятно трудно понять смысл сказанного, хотя, наверное, тут нет никакого смысла. И когда я уже схватил убегающее эхо, другой голос, тоже уверенный и сильный, мягко разжимает мою руку с обрывками слов:
– СЕМНАДЦАТЬ ПЯТНАДЦАТЬ!
Как же приятны, оказывается, могут быть голоса. Необязательно понимать, что они говорят, сам звук их прекрасен, он мягко качает, переполняя меня неизведанным раньше восторгом.
Такое хочется слушать и слушать, и, видимо, понимая это, первый голос снова приходит из своего ниоткуда:
– ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬСЯ. ШЬЕМ!
Мне необходимо увидеть тех, кто говорит. Кто произносит эти удивительные и красивые слова.
И вдруг отчетливо понимаю, что мои глаза закрыты. Не просто закрыты – на них давит тяжелый груз. И кроме этих голосов, никто на свете не сможет сдвинуть его.
– Помогите открыть глаза! – прошу я, но получается только протяжный и громкий стон.
И тогда возникает третий голос, самый главный, заполняющий все вокруг, не оставляя ни сантиметра пустого пространства:
– ОН ПРОСЫПАЕТСЯ. ЕЩЕ ФЕНТАНИЛ!
Запасной выход
На столе надрывались оба телефона, городской и местный. Городской был красного цвета, местный – серого. Местный звонил в тональности ля, а городской – в ля-диез. Интересно, какой из них замолчит первый? Да наверняка местный.
Первым заткнулся городской. Местный выдал еще две мажорные трели и тоже утомился.
Мы с Лидией Васильевной синхронно вздохнули.
Я работаю в отделении пятый год, а в кабинете у Суходольской всего второй раз. Визит в кабинет заведующей означает серьезный разговор. Первый такой случился года три назад. Тогда она снимала с меня и Вани Рюрикова стружку, причем с Вани за
Сторінка 2
чно. Абсолютно не по делу. Я сел с язвой на больничный, но жирная Танька Лаптинова, наша сестра-хозяйка, пустила слух, что мы с Ваней гуляли на чьей-то свадьбе. Ни много ни мало – неделю. За Суходольской водилось подобное – она иногда верила в самые невероятные вещи. Когда долго работаешь в реанимации, поневоле становишься мистиком.Не успел я выйти на работу, как был вызван на ковер для дачи показаний. Ивану повезло, он успел в отпуск свалить.
– Леша, есть сведения, что ты специально взял больничный, чтобы пойти на свадьбу с Рюриковым! – скрестив на столе руки и уставившись в бумаги перед собой, начала Лидия Васильевна. – Что скажешь?
– Что скажу? Скажу, что вы не первая, кто из самых лучших побуждений пытается связать нас брачными узами, но… – Я выдержал трагическую паузу и продолжил: – Но увы! Я несвободен, да и Ваня женат. Что же нам делать, Лидия Васильевна? Может быть, местком подключить?
– Моторов! – с деланым возмущением воскликнула Суходольская, хотя я видел, что она еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. – Скажи, ты можешь быть хоть минуту серьезным?
– Могу! – поклялся я. – Могу, Лидия Васильевна, но только за большие деньги!
– Уйди, Лешка! – взмолилась Суходольская. – Уйди с глаз долой и только попробуй попадись с сигаретой, язвенник!
Но это было давно, а сегодня инициатива встречи принадлежала мне. Начальство всегда боится разговоров, которые происходят по просьбе подчиненных. От таких бесед ничего хорошего, только головная боль.
Обычно у Суходольской в кабинете обсуждались два вопроса, и оба малоприятные. Ей либо признавались в тайной беременности с целью поклянчить легкую работу и перевестись с суточного графика на дневной, либо сообщали об увольнении по собственному желанию.
– Не вздумай, Лешка, сказать, что уходишь! – нахмурившись, первая нарушила молчание начальница, одним махом вдвое сузив круг потенциальных проблем. – Сам видишь, какая у нас сейчас ситуация!
Ситуация у нас всегда была будь здоров, но мы оба понимали, что если я подам заявление, никто насильно меня не удержит.
– Лидия Васильевна, – горько вздохнув, приступил я. – Так уж сложились обстоятельства, что вынужден просить вас о переводе на дневной режим работы! – И, к своему большому удовольствию, видя, как вытягивается у нее лицо, успокоил: – Шучу!
Суходольская перевела дух. Она была классным врачом и неплохой теткой. Мне нравилось с ней дежурить, особенно поначалу. Хотя иной раз как отмочит что-нибудь, так хоть стой хоть падай.
На прошлой неделе, например, прочитала судебный очерк в “Литературке” и головой покачала:
– Похоже, порядочные люди только в КГБ остались!
Неужто Юлиан Семенов своими опусами про чекистов умудрился хорошим людям так голову запудрить, что даже Лидия Васильевна про их порядочность заговорила? Ладно, блажен, кто верует. Не будем на мелочи отвлекаться.
Я устроился поудобнее на стуле, сделал серьезное лицо и спросил:
– Вы знаете, который раз я проваливаюсь в институт? – И, не дожидаясь ответа, с отчаянной гордостью мазохиста сообщил: – В этом году уже пятый! И нет гарантии, что поступлю на шестой! В последнее время сам чувствую, что отупел до невозможности! Да и вы наверняка это замечаете!
– Леша, когда я называла тебя тупым, я другое имела в виду! – виновато стала успокаивать меня Суходольская.
Как-то в прошлом году, под настроение, я сказал ей, что хочу немного передохнуть и хоть одно лето провести не за учебниками и конспектами, а на берегу речки с семьей.
Вот тогда Лидия Васильевна, видимо решив меня подстегнуть, возмутилась:
– Только попробуй расслабиться, Лешка, всем буду говорить, что ты тупой. И первым делом твоей жене расскажу!
И потом недели две, стоило нам столкнуться, подмигивала мне и заявляла что-то вроде:
– Да, Моторов, у тебя даже взгляд какой-то отупевший, куда тебе в институт, давай в парикмахеры!
Парикмахеры в представлении нашей заведующей были самым маргинальным элементом.
После традиционных утренних выволочек она всегда добавляла:
– Не нравится в больнице работать? Идите в парикмахеры!
Меня часто подмывало ей возразить, что парикмахеры – они хоть человеческой жизнью живут, ночами не работают, дома спят, да еще на чай получают. Но никогда этого не говорил, во-первых, по малодушию, а во-вторых – сознавая весь героизм нашей профессии.
А вот сегодняшний мой разговор – он такой немного дезертирский.
– Лидия Васильевна, вы же догадываетесь, что всю жизнь здесь работать я не смогу, а из медицины уходить пока не собираюсь! Вот на досуге подумал и решил себе запасной аэродром завести, – торжественно объявил я, но тут опять зазвонили телефоны, сначала местный, а через секунду городской.
Мы снова вздохнули и взяли паузу.
Я – медбрат. Ходячее недоразумение. Мне уже двадцать два. В этом возрасте все приличные люди институты заканчивают, планы на жизнь строят. А я прячусь от старых знакомых. Ведь разговор обязательно скатится – кем и где работаю. А так не хочется говорить, что в больничной иерархии
Сторінка 3
я нахожусь на самой низкой ступени. Санитаркам и буфетчицам и то легче. Они могут прогуливать, воровать, в запой уходить. С ними заигрывают, на многое глаза закрывают. А медсестры и медбратья – самый бесправный класс. Пушечное мясо. Может быть, это такая расплата за тот мой пионерский инфантилизм?Врачом я задумал стать давно, практически в детстве, а точнее – в пионерском лагере. Лагерь был от Первого медицинского института, назывался очень просто – “Дружба”, и попал я туда абсолютно случайно, получив грандиозное предложение играть в лагерном ансамбле на гитаре. Вожатыми там были молодые ребята-студенты, которые своими ежедневными медицинскими байками добились того, что я сам не заметил, как растворился во всей этой атмосфере приукрашенной романтики и более ни о чем, кроме как о врачебном поприще, не помышлял. И с тех пор пошло-поехало.
Пролетев первый раз в институт и поддавшись на уговоры друзей-приятелей, я решил годик перекантоваться в медицинском училище. Чем зря тратить время на работу санитаром, лучше пойду один курс поучусь, на гитарке в местном ансамбле побренчу, а там и поступлю. Но ни через год, ни через два никакого поступления не случилось.
И пришлось, согласно диплому, идти работать медбратом в реанимацию Седьмой городской. Причем попал я туда мало того что добровольно, а можно сказать, пролез всеми правдами и неправдами. Настолько сильное впечатление произвело на меня во время зимней практики это отделение и его заведующая Лидия Васильевна Суходольская.
И хотя реальность оказалась много суровее, работать там, особенно в первое время, очень нравилось. В конце концов это и сослужило мне недобрую службу. Я безропотно принимал все просьбы выйти сверхурочно, остаться после суток поработать в день или после суток выйти в ночь, а иногда отбарабанить два суточных дежурства подряд. Постепенно выяснилось, что при таком графике ни о какой более-менее пристойной подготовке в институт и речи быть не может.
И в самом деле, какие репетиторы, какое корпение над книгами и конспектами, когда забежал домой, поел, поспал – и опять на суточное дежурство. А коррупция в медицинских институтах и тогда была неслабая, про существование списков знали все, и мои ежегодные попытки поступить с наскока смахивали на авантюру.
Тем не менее я каждый раз брал отпуск в июне-июле, месяц сидел над учебниками, судорожно пытаясь реанимировать школьные знания. В финале получал двойку по физике, последнему институтскому экзамену, и с чистой совестью, хотя и не без затаенной ненависти ко всем этим Ньютонам и Гей-Люссакам, выходил на работу.
Вот так, вместо короткого и необременительного этапа, я получил тяжелую работу за гроши с отчетливой перспективой деградации. Ловушка захлопнулась. Но мне и правда очень нравилась медицина, я и думать не хотел не то что о смене профессии, но даже о том, чтобы поменять реанимацию на более спокойное место.
Работа в любом другом отделении давала возможность прекрасно спать по ночам, не быть по локоть в дерьме, не драить как проклятый полы и мебель, не ворочать и не перестилать больных. Но представить себя в роли постовой сестры, раздающей таблетки, я не мог, посему продолжал тянуть свою лямку и даже из-за нищенской зарплаты поначалу не дергался. Потому что очень быстро реанимация стала родным домом, да и кличка моя здешняя – Паровозов – мне почему-то нравилась.
Но мысли о дальнейшей судьбе, как ни гнал я их от себя, все более настойчиво сверлили слабый разум. Понятно: хочешь не хочешь, а что-то менять придется.
У меня была парочка закадычных друзей, тоже медбратьев, но которые и не думали впрягаться в сестринскую работу, а устроились по блату массажистами. Их рассказы о каторжном труде всегда вызывали умиление и звучали примерно так:
– Что за жизнь, второй год тачку поменять не могу, сплошные расходы. Ирке своей в прошлом месяце канадскую дубленку купил, а то ей зимой на улицу выйти не в чем, неделю назад достал с переплатой ковер на пол в детскую, чтобы ребята не простужались, а то бегают босиком по паркету, в августе в Гагры двинем всем семейством, забыли уже, как море выглядит. А тут еще только за последнее время троих постоянных клиентов потерял. Одного посадили, другой помер, а третий и вовсе в Израиль свалил. Теперь еле шесть сотен в месяц наскребаю. Нет, конечно, и в клинике перепадает кое-чего, но это так, по мелочи…
Подумал я, подумал и тоже решил в массажисты идти. А что, куплю Лене дубленку, сынку Роме ковер, и махнем мы тогда на радостях в Гагры. А тачку и брать не буду, чтобы потом не менять.
В то время в Москве только одно учебное заведение готовило массажистов и выдавало официальные дипломы. Находилось оно у черта на куличках, в Конькове, от метро “Беляево” несколько остановок пилить на троллейбусе. Но не в расстоянии дело, а в том, что попасть туда “с улицы” было невозможно. Студентами становились лишь те счастливчики, которым присылали путевки из Главного управления здравоохранения по запросу администрации с места работы. Путевок было мало, а же
Сторінка 4
ающих хватало.Не все знают, но большинство сотрудников массажных кабинетов по факту являлись обычными медбратьями и медсестрами. Они, естественно, прилагали невероятные усилия, чтобы получить пожизненно высокий статус массажиста с дипломом.
Терять было нечего, и я решил рискнуть. Задача предстояла непростая, поэтому пришлось разбить ее на два этапа.
Этап первый проходил сейчас в кабинете Лидии Васильевны под неумолкаемый телефонный звон.
Из конъюнктурных соображений я подловил Суходольскую в минуты максимально хорошего настроения, оно у нее случалось, когда на больших консилиумах ей удавалось виртуозно показать, какие все вокруг дурни.
– Ладно, Лешка, делай как знаешь, ступай поговори с Коростелевой! – наконец произнесла заведующая. – Но учти! Если закончишь эти свои курсы, будешь всем нашим больным массаж делать!
И, уже стоя в дверях, я утвердительно кивнул:
– Массаж? Нашим больным? Непременно буду делать. Прямой и непрямой!
Главная сестра больницы Маргарита Николаевна Коростелева была женщиной душевной. И хотя она периодически забывала мое настоящее имя, упорно называя Сашей, я всегда легко откликался, тем более что Александр, пожалуй, звучит мужественнее, чем Алексей.
Вот и сейчас Маргарита приняла меня подчеркнуто приветливо. Правда, по мере того как я выкладывал свой план, на ее лицо набегала тень.
– Сашенька, ты пойми, нашей больнице третий год из ГУЗМА ни одной путевки на массаж не дают. А ведь у нас почти все массажисты не обучены. А ты к массажу никаким боком, Сашенька, при всем моем к тебе отношении! Да и зачем тебе это нужно, ты же профессионал, каких поискать!
Говоря о моем профессионализме, Маргарита конечно же мне польстила. Она имела в виду даже не мою работу в реанимации, а один конкретный случай. Муж ее подруги перед весьма важной заграничной поездкой, а тогда все заграничные поездки были важными, видимо, вообразив себя этаким Винни-Пухом, наелся меда и получил сильнейшую аллергическую реакцию. Ни в поликлинику, ни в “скорую” он обращаться не стал, справедливо опасаясь, что его могут надолго заточить в больницу хотя бы из зависти.
Тогда меня и прислали к ним домой частным образом. Ситуация там была более чем серьезная, настоящая анафилаксия. Я сразу предложил госпитализацию самотеком, но получил хоть и слабый, но категорический отказ. Он готов был умереть, но увидеть свой Париж. Делать нечего, я вздохнул и принялся за работу. Через пару часов, когда стало ясно, что в домашних условиях удалось сделать практически невозможное, меня вернули в отделение. Супруга спасенного позвонила Маргарите и, заходясь от восторга, поведала о моем истовом служении Гиппократу.
А мне магнитофон у них в квартире запомнился. Такого я не то что у друзей-массажистов не видел, но даже у Кольки Рюрикова, служителя Московской патриархии.
– Хорошо, Сашенька, постараюсь тебе помочь, но ничего, сам понимаешь, обещать не могу! – произнесла Маргарита, и я понял: никакого рвения она проявлять не будет.
Эх, пролетел я, похоже!
Человек предполагает, а бог располагает. Несколько мощнейших взрывов в толще солнечной магмы изменили положение гигантских субгалактических электромагнитных полей. Спутники Сатурна ускорили вращение по своим орбитам, на Венеру обрушился метеоритный дождь, а метаново-аммиачный океан на Уране разразился внеочередным штормом.
На планете Земля в то субботнее утро большая ржавая гайка, скрепляющая муфту водопроводной магистрали, проходящей по второму этажу Московской городской больницы номер семь, вдруг треснула и разломилась. Из разомкнувшихся частей огромной трубы забил фонтан. Спустя мгновение остальные гайки, не справившись с дополнительной нагрузкой, последовали заразительному примеру и коварно соскочили с болтов, с которыми многие годы состояли в интимных отношениях.
Из трубы диаметром тридцать сантиметров под могучим давлением вырвался столб холодной воды. Первое встреченное им препятствие – стулья в малом конференц-зале – этот поток разметал, как шарики для пинг-понга.
* * *
Субботнее дежурство всегда самое спокойное. Начальства, как правило, нет, за исключением дежурных администраторов. Конференций и пятиминуток тоже нет, персонал, работающий всю неделю по дневному графику, по субботам также сидит дома. И главная прелесть этого дежурства заключается в том, что заканчивается оно утром в воскресенье.
Это значит, что или поспать можно подольше, или, наоборот, пораньше домой свинтить. Если обстоятельства позволят. По субботам всегда выходят заслуженные люди. У медсестер в такую категорию обычно попадают беременные девушки, матери-одиночки и фавориты руководства.
В тот раз, как и во многие другие субботы, я не просто стоял в графике, но вдобавок был элитой из элит, “шоковым” медбратом или, как еще называли, бригадиром. Причина такого необыкновенного карьерного роста заключалась в том, что больше чем за десять лет до описываемых событий одна африканская страна освободилась от оков колониального гнета.
Многократно воспетое
Сторінка 5
в советское время движение за свободу и независимость до сих пор окружено романтическим ореолом. В реальности романтики там меньше, чем на живодерне, а вот крови и грязи на порядок больше. В любой бывшей колонии, особенно африканской, все события были до тошноты схожими. Сначала что-то случалось с метрополией, где менялась политическая ситуация в результате революций или выборов. Затем новое демократическое правительство предоставляло независимость своим колониям, которые в конце двадцатого века, чего уж греха таить, выглядели полным анахронизмом. И тут начиналось самое интересное. В получившем свободу и независимость молодом демократическом государстве разворачивалась борьба за власть. Обычно это выражалось в масштабной резне, приводившей к полному исчезновению одного из населяющих страну народов. Но часто это было лишь увертюрой.Уцелевшие в сражении за трон царьки, прекрасно понимая, что в скором времени последуют за теми, кого сами они замучили, убили или даже съели, судорожно начинали искать возможности этой участи избежать. И помощь им приходила почти всегда одна и та же, эффективная и долговременная. В виде единственно всесильного и верного учения – марксизма.
Только марксизм надежно гарантировал пожизненное правление, отмену выборов, отсутствие какой бы то ни было критики, попрание всех законов, исчезновение оппозиции, а самому диктатору – своевременную техническую, экономическую, а главное – военную помощь. Заваленная старым советским оружием, полудикая, раздираемая гражданской войной страна бросалась с упоением воевать не только со своим народом, но и с ближайшими соседями, по большей части такими же новоявленными марксистами-ленинцами. И через несколько лет бывшая процветающая колония начинала напоминать марсианский ландшафт, если, конечно, марсианский ландшафт похож на выжженную напалмом пустыню.
Наши престарелые вожди искренне любили своих младших черных братьев, осыпали их высшими государственными наградами, устраивали торжественные кремлевские приемы в их честь, называя их при этом партийным словом “товарищ”. Одного такого президента, Бокассу, известного садиста-каннибала, даже пригласили в детский лагерь Артек, где на торжественной линейке его немедленно зачислили в почетные пионеры. Говорят, товарищ Бокасса был растроган и выразил бурное восхищение упитанностью советских детей.
Страна Ангола, освободившаяся от португальских колонизаторов, оригинальностью не отличалась. Все по полной программе. Сначала марксистская группировка захватила крупнейшие города и посадила президентом своего вожака, потом, стремясь убрать возможных конкурентов, новая народная власть начала этнические и прочие чистки, залив страну кровью по колено.
В ответ с севера и юга в Анголу вторглись коварные интервенты, наймиты мирового империализма. Почти сразу же начался голод, к границам потянулись потоки беженцев, вспыхнули эпидемии. А после того как для защиты завоеваний социализма в Анголу стали прибывать советские и кубинские войска под видом военных советников и переводчиков, пошла настоящая карусель. Оружия за короткий период противоборствующим сторонам было поставлено столько, что можно было воевать аж до второго пришествия.
Десять лет подобной благодати превратили красивую и богатую ресурсами страну в дикое поле. А в такой ситуации самые востребованные гражданские специалисты – это врачи и медсестры.
Наша старшая сестра Надька завербовалась в один из военных госпиталей Луанды. Пару месяцев она ходила на курсы португальского, хотя я ей настоятельно советовал параллельно освоить испанский, справедливо предполагая, что многочисленные кубинцы будут интересовать Надежду Сергеевну куда больше, чем местное население.
В начале 1985 года мы проводили нашу, уже бывшую, старшую в путь-дорогу. В ординаторской накрыли стол, сказали много всяких хороших слов. Когда пришла пора прощаться, у себя в кабинете Надька по очереди расцеловала меня и Ваню и даже всплакнула. При всех ее особенностях она не была подлой и злой. Я растрогался и, погладив Надьку по спине, проникновенно зачитал ей на ушко стихи Корнея Чуковского:
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
Начались судорожные попытки среди остатков старой гвардии найти достойного кандидата на пост старшей сестры. Почти сразу выяснилось, что быть хорошим исполнителем – это одно, а стать эффективным управленцем – совсем другое.
И вот после череды проб и ошибок на эту должность была предложена самая яркая и оригинальная медсестра отделения Тамара Царькова.
Кавказская пленница
Тамара была родом из абхазского городка Гудаута, находящегося на морском побережье севернее Сухуми. Та часть Тамариной жизни, которая пришлась на Абхазию, была окутана тайной, но, по отрывочным сведениям, ее русская мама работала официанткой в ресторане на озере Рица, а мингрел папа носил фамилию Гватуа.
Когда Тамаре исполнилось семнадцать, ее, студентку медицинского училища, с соблюдением всех горских обычаев похитил мес
Сторінка 6
ный абхаз, спустившийся для этой цели с заснеженной вершины. Но тоскливая жизнь в маленьком горном селе, разумеется, не могла устроить такую незаурядную личность – Тамару всегда манил большой город. Через пару месяцев, в одну из безлунных ночей сбежав от знойного супруга-похитителя, она убедила маму не мешкая ехать с ней в Москву, что они и сделали. В том же семьдесят четвертом году она быстро вышла замуж за Петьку Царькова, сына священника, у которого в ту пору был самый большой дом в селе Коломенском, на месте которого сейчас стоит кинотеатр “Орбита”.Столичная жизнь и вправду оказалась яркой и динамичной, что полностью соответствовало ожиданиям темпераментной южной красавицы. Все отлично устроилось, да и мама получила хлебное место буфетчицы в кинотеатре “Ашхабад”. Спустя год у Томы Царьковой родился мальчик Денис.
Она попала в Семерку в семьдесят восьмом, как сама многократно всем рассказывала, договорившись там сделать аборт по блату. Нарядная и современная больница пришлась ей по душе, да и медицинское образование требовало реализации. Через неделю Тамара вышла на работу в реанимационное отделение.
С первых же дней стало видно, насколько новая медсестра Царькова отличается от остальных. Она была веселая, стремительная, схватывающая все на лету и острая на язык.
– Привет, лимита! – так обычно с порога здоровалась Тамара. – Какие дела у нас, какие сплетни?
Сестры из числа деревенских дергались, подобное обращение их обижало, а главное, они знали о немосковском происхождении новенькой. Но назвать лимитой саму Тамару ни у кого не поворачивался язык. Во-первых, все уже поняли, что она отбреет так, что будешь месяц заикаться, а во-вторых, Царькова, особенно на их фоне, выглядела просто королевой. Тамара ходила в дубленке, носила серьги с бирюзой, а на работу, когда было настроение, приезжала на новеньких маминых “жигулях”. А ее недавно приобретенный трехкомнатный кооператив в Чертанове – это было совсем за гранью понимания который год живущих в общаге лимитчиц.
Пару раз пробовали жаловаться начальству. Но, как я подозреваю, само начальство тоже немного побаивалось Тамару, что, в принципе, было разумно. Поэтому та никогда не тушевалась, а вела себя раскованно и непринужденно.
– Ну что, колхоз, все женихов ждем? – с нескрываемой насмешкой произносила она, когда, по своему обыкновению, девушки из общежитий заводили свою бесконечную тоску о том, кто женился, кто развелся, кого поматросили и бросили, кто и на такой вариант согласен, а кто и всякую надежду потерял.
С этим у Тамары всегда был полный порядок. Вот уж кто не страдал от недостатка мужского внимания! Не успела она развестись с сыном коломенского попа Петькой, как тут же на шашлыках в одной развеселой компании познакомилась с красавцем ювелиром и закрутила с ним умопомрачительный роман, закончившийся скорой свадьбой. Молодая жена называла ювелира Анатолий Дмитриевич, а ювелир мало того что обожал Тамару, взяв ее с ребенком, так еще осыпал с головы до ног собственноручно изготовленными драгоценностями и каждую ночь клал к изголовью полные нежности записки. Дело в том, что она просыпалась в четыре утра, а в шестом уже была на работе.
Записки эти Тамара зачитывала вслух при всех, а незамужние ее коллеги с помертвевшими лицами внимали чужой любви. Страстные ночные депеши ювелира начинались примерно так: “Доброе утро, моя сладкая дынечка…”
А вдобавок в Москву прибыл тот самый абхаз, который в свое время умыкнул Тамару и которого она столь коварно бросила ради большой и красивой Москвы.
К слову сказать, меня всегда поражала ее способность легко и быстро расставаться с людьми, особенно с мужиками.
Так вот, видимо, этому абхазу настолько запала в душу юная и строптивая лань, что, измучившись от одиночества на своей поросшей кизилом скале, он собрался и поехал за ветреной Бэлой в Москву – в тайной надежде повторить подвиг многолетней давности. Но, прибыв в столицу, незадачливый абрек устроил грандиозную драку с какими-то мужиками, косо на него посмотревшими, после чего отправился на несколько лет валить лес.
Впоследствии, пройдя такие испытания, как страсть, похищение, коварное бегство, одиночество, следствие, суд и лагерь, бедняга стал истинным христианином, закончил семинарию и теперь – известный в своих краях праведник-священник с большим приходом.
Притихшие девицы обреченно слушали рассказы Тамары, понимая, что ничего подобного, даже сотой доли такого великолепия, в их жизни не будет.
Работала она всегда здорово – быстро и легко. Когда случалось что-нибудь экстренное, Тома превращалась в настоящий вихрь. Недаром из всех сестер отделения только ее и Ленку Щеглову сделали операционными сестрами, послав на специальные курсы. Во время Олимпиады было решено развернуть операционную прямо в нашем отделении, напротив противошокового зала.
К тому моменту, когда я стал работать в реанимации, Тамаркиному Денису исполнилось семь лет и он пошел в школу. Царькова тотчас объявила, что она мать-одиночка и теперь имеет право ра
Сторінка 7
отать на полставки. В нашем отделении, где все пахали как проклятые, ей поставили только четыре субботы. Из начальства никто не пикнул.Из этих четырех суточных дежурств два она продавала, причем за большие деньги, на одно брала больничный и только раз в месяц выходила сама. По собственному же признанию – чтобы быть в курсе всех сплетен и новостей. Зарплата ее интересовала мало. Больница превратилась для Томы Царьковой в место, где лежала трудовая книжка, капал стаж. А что? Очень удобно. И для будущей пенсии хорошо, и за тунеядство не привлекут.
Работал я с Тамарой редко, зато дежурства у нее покупал часто. Отказать ей было практически невозможно. Она умела убедить любого, и происходило это по стандартной схеме.
Царькова являлась на работу ни свет ни заря, чуть раньше шести. Мощным пинком распахивала дверь в комнатку, где спала отдыхающая смена, и радостно заявляла:
– Ага, спите, бляди! Кто мои сутки купит? Леха Моторов, купи ты! Один хрен, ничего не делаешь! И хватит дрыхнуть, наглая рожа, пошли покурим!
Это при том, что в лучшем случае я засыпал в половине пятого.
Если мое следующее по графику дежурство наступало уже завтра, Царькова благородно переключалась на новую жертву.
– Так, девочка, тебя как зовут? – спрашивала она, к примеру, Олю Караеву, маленькую, невзрачную девушку, которая к тому моменту работала в отделении больше года.
– Оля… – отвечала та слабым голосом, опустив глаза в пол, понимая, что ничего хорошего такой вопрос не сулит.
Народ сразу же вставал в кружок, чтобы насладиться предстоящим зрелищем.
– Слушай, Оля, купи у меня сутки! – без разведки начинала Тамара.
– Но, Тамар, я сама вот только сутки отработала, – шепотом произносила Караева.
– Ой, поглядите на нее, сутки она отработала! Ну и что ты сейчас собираешься делать? – с усмешкой приступала Царькова. – Домой пойдешь?
– Да… – еле слышно соглашалась Оля.
– Поспишь? – И, заметив утвердительный Олин кивок, с удовлетворением продолжала: – Встанешь, пожрешь?
Оля опять кивала, не поднимая глаз.
– А потом… потом ты наверняка телевизор усядешься смотреть! С папой, с мамой! – Тамара брала паузу, чтобы увидеть очередной кивок, подтверждающий ее слова.
И, не скрывая торжества, зная, что сейчас на нее смотрит куча сотрудников, заканчивала:
– А родители твои будут сидеть и думать: что же за дочь такая у нас, только спит, жрет да телевизор с нами смотрит! И никого-то у нее нет! Ни жениха, ни ебаря, ни мужичонки какого разового! А я тебе, между прочим, за свое дежурство двадцать пять рублей дам!
Не дожидаясь согласия, она вынимала всегда набитый деньгами кошелек и, достав четвертак, засовывала в карман пунцовой, едва не плачущей Оле.
– Так! Кто со мной? Пошли быстро покурим, а то мне домой нужно бежать! – закончив трудовую вахту, ставила точку Тамара.
До сих пор не знаю, почему такая, как она, моментально выделила меня изо всей толпы пришедших в том году новеньких. Может, из-за первого совместного дежурства?
Мы познакомились в октябре восемьдесят второго. Я к тому времени два месяца как пришел в отделение, но Тамару видел лишь мельком, при ее графике это было неудивительно. Тем более что Царькова работала только по субботам, а меня по субботам почти не ставили.
Заступив на сутки, как положено, в начале девятого, я, к своему удивлению, выяснил, что Тамара находится на работе уже больше двух часов. И как только я появился в блоке, она скептически посмотрела в мою сторону, усмехнулась и, обратившись к дежурному врачу, произнесла:
– Виолетта Алексеевна! Мы пойдем с новым мальчиком покурим, вы пока все равно в блоке сидите, а нам всего десять минут нужно!
Мы пришли в гараж, Тамара села напротив, закурила и принялась с большим интересом меня разглядывать. По завершении осмотра она глубоко затянулась, выпустила дым и полюбопытствовала:
– Так, мальчик, как тебя зовут?
Я представился. Тамара прищурилась и задала еще вопрос:
– А ты, Леша, в Москве живешь?
Узнав, что я живу в Москве с рождения, тяжко вздохнула и осведомилась:
– Вот что, Леша, скажи честно, ты дебил или наркоман?
Я как-то сразу растерялся, но Тома охотно пояснила:
– Если ты москвич и прописка тебе не нужна, значит, ты полный придурок, раз добровольно пошел сюда работать, горшки выносить. Тут же все по уши в дерьме, ни пожрать, ни поспать, да и платят копейки! А может, ты наркотики собираешься тырить? Мне ведь с тобой сутки работать, нужно же знать, чего от тебя ожидать!
Я стал сбивчиво объяснять про желание поступить в институт, про то, как мне здесь понравилось во время практики, про то, чему я собираюсь здесь научиться.
Тамара, не дослушав, перебила, облегченно переведя дух:
– Понятно, значит, все-таки дебил! – и, потушив сигарету, стремительно встала. – Ладно, Леша, пошли работать, но смотри у меня!
Уже в блоке Царькова заявила, что пришла сюда в шесть утра и все давно без меня сделала, повесила капельницы, измерила всем давление, пульс, температуру, осталось только сделать кое-ка
Сторінка 8
ие назначения, и она меня отпускает до обеда.Я ушам своим не поверил, надо было знать наше отделение – здесь перекурить бывает невозможно отпроситься, позвонить отойти, а тут отпускают, причем не просто, а до обеда!
– Но учти, Леша, когда я тебе скажу, ты меня тоже отпустишь. Все, иди гуляй, время пошло!
Гулять надоело через двадцать минут. Спать, как назло, не хотелось, курить тоже, я слонялся взад и вперед по коридору. Пытался сунуться в блок, но Тамара меня прогнала. Пошел в лабораторию – там все занимались делом. Заглянул в первый блок, где сказали, чтобы я их не отвлекал. Четыре часа показались мне бесконечными.
Наконец время мучений закончилось, и Тамара разрешила вернуться на рабочее место. Мы по очереди отбежали пообедать, потом сделали назначения, потом перекурили, потом перестелили, потом опять назначения.
После ужина Царькова закурила и объявила:
– Все, Лешечка, теперь моя очередь! Я тебя отпустила, правильно? Вот и ты меня отпускаешь на то же время. Я обычно с двенадцати до четырех сплю. Плюс сегодня четыре часа дополнительных. Сейчас без десяти восемь, как раз успею зубы почистить и спать пойду. С восьми до четырех!
Так и сделала. Постелила себе в сестринской на софе и спать легла.
А на прощание добавила:
– Попробуй только хоть на шаг из блока выйти, попробуй икебану не навести и только попробуй хоть на секунду меня раньше разбудить, аферист!
Даже в свое единственное дежурство в месяц Тамара Царькова умудрялась спать полноценных восемь часов.
Вот такую Тамару сделали старшей сестрой отделения. Прошла неделя, и всем уже казалось, что она с рождения только и делала, что работала начальником. У нее это, похоже, было в крови. На какой-то момент ей даже удалось затмить нашу Суходольскую. А в моей жизни перемены начались практически сразу.
Первым делом Царькова вызвала меня в кабинет и сказала строго:
– Моторов, аферист, вот ты здесь уже три года, а мыть полы по-человечески так и не научился! Развезешь грязь, вечно перемывай за тобой, наглая рожа! С этого месяца будешь работать только по “шоку”!
Надо понимать, что это означало.
Пациенты в реанимацию попадали двумя путями. С улицы, по “скорой”, или из других отделений и операционных самой больницы. Те, которые поступали с улицы, находились в критическом состоянии, нередко в агональном. И дабы не тратить драгоценное время, “скорая” въезжала по специальной эстакаде на второй этаж прямо в гараж нашего отделения. Принять такого больного называлось у нас “принять эстакаду”.
Из гаража больной попадал в противошоковый зал, или сокращенно “шок”. И хотя работа по “шоку” была, безусловно, ответственная и невероятно напряженная, требующая высокой квалификации, быстроты реакции и особого склада характера, именно она считалась самой блатной синекурой в нашем отделении. Потому что тут после выброса адреналина можно было передохнуть до следующего поступления. А ночью – и это самое главное – спать, пока не привезут очередного больного. Настоящая лотерея. Иногда не везли всю ночь, а иногда в течение часа приезжали по четыре “скорых”. И тогда хоть вешайся.
На “шок” всегда ставили стареньких, очень редко новеньких и почти никогда – медбратьев. Только в неполных бригадах.
Новации Царьковой сразу вызвали протест в сестринской среде. Тут Тамара показала, что значит административный ресурс в ее исполнении.
– Так, Сорокина, ты сколько тут работаешь? Девять лет? Сколько ты за девять лет заинтубировала? В сердце уколола? Не знаешь? А я тебе скажу. Ни разу! А Моторов каждый день по сто раз это делает! Боровкова, пока ты одну капельницу заряжаешь, пять раз кончить можно. А посмотри, когда остановка, как Лешка работает, даже я сейчас хрена с два за ним угонюсь! А ты, Мартынова, когда вызов в роддом будет, со своей толстой жопой за сколько туда добежишь? Часа за два? А он знаешь как носится? Все, не отвлекайте меня больше, мне аптеку выписать нужно, и хватит тут в моем кабинете торчать, марш работать!
А еще через неделю состоялось собрание, на котором обсуждался вопрос увеличения оплаты санитарской работы. Раньше всем сестрам доплачивали двадцать процентов от санитарской ставки, что было чистым издевательством. Распределение этих двадцати процентов было абсолютно несправедливым, их давали и тем, кто работал на полставки, и тем, кто пахал как вол. Санитарок в нашем отделении отродясь не держали, и все, что было связано с уходом за беспомощными больными и надраиванием помещений, приходилось на сестер. Это была львиная доля их труда, причем за сущие копейки.
Но тут на реанимационное отделение дали дополнительные санитарские ставки, которые было решено распределить по-новому. Собрание я прогулял, мне потом рассказали во всех подробностях, что там происходило.
Всех сестер разбили на три категории. Первую составили редкие полставочники, в основном студенты. Им постановили платить двадцать процентов. Во вторую попали почти все остальные сестры, которым решили дать тридцать процентов.
А третья, самая немногочисленна
Сторінка 9
, группа должна была получать сорок процентов от санитарской ставки. Неслыханное богатство, между прочим! Двадцать восемь рублей. За двадцать пять рублей, к примеру, можно было купить флакон французских духов. Если, конечно, найдешь.В число таких счастливчиков, естественно, вошла сама Царькова, Оля Никишина как мать-одиночка, и Люся Сорокина как самая заслуженная сестра, работающая с момента открытия больницы и хоть и не одиночка, но мать двоих детей. Никто не возражал.
Тут Царькова посмотрела на всех внимательно и сказала с нажимом:
– И еще Леша Моторов!
Народ сразу загудел. Я, честно говоря, не очень уж надраивал стены и тумбочки, у многих махать тряпкой получалось куда лучше.
Тамара еще раз обвела всех взглядом и спросила, кто конкретно против. Поднялись две-три руки. – Вот что, с Лешкой работать легко и просто! За это и приплатить можно, а вы… – Царькова посмотрела на тех, кто продолжал тянуть руки, – вы можете хоть завтра сваливать в другое отделение, без вас обойдемся! Я здесь начальник, и как решила, так и будет. А теперь марш отсюда и окна откройте, а то надышали!
С этого времени я стал ощущать себя человеком, состоящим при серьезном и важном деле, а не мальчиком-поломойкой с медицинским уклоном. Я принимал пациентов, которых привозили по “скорой”, – от жертв авиакатастроф до бедолаг, перебравших тормозной жидкости.
Чего я только не насмотрелся и в чем только не поучаствовал.
Кроме того, наши врачи, начиная буквально с первого моего дежурства, ежедневно и бескорыстно делились со мной секретами мастерства. И очень скоро незаметно для себя я насобачился производить кучу разнообразных специфических манипуляций, о которых далеко не каждый доктор слышал. В результате эти навыки у меня быстро вытеснили сестринские, и, например, пунктировать перикард у меня получалось много лучше, чем подкладывать грелку.
К тому же я бегал с врачами на вызовы по всем этажам и корпусам больницы. Там тоже было весело. То кровотечение, то эпилептический припадок, то кома. А однажды меня и дежурного доктора Андрюшу Орликова на директорской черной “Волге” с красными бархатными сиденьями отвезли на сверхсекретный нагатинский ракетный завод. Рабочий, шлифуя какую-то деталь, необходимую для функционирования оружия массового уничтожения, выдал остановку сердца прямо у токарного станка.
Я получал неимоверное удовольствие ото всей этой сумасшедшей свистопляски, после которой работа в реанимационной палате, которая у нас называлась блоком, представлялась вытягивающей жилы тягомотиной.
Это заметили многие, но первой высказалась конечно же наша Суходольская.
Как-то раз мы с ней возвращались после удачной реанимации в терапии, куда нас вызвали на остановку сердца. Домчались на шестой этаж пулей и увидели традиционную картину. Врачи и сестры отделения, вместо того чтобы хоть сделать вид, будто отчаянно борются за жизнь пациента, в полном составе с укоризненными и скорбными лицами поджидают нас даже не в палате, а в коридоре. Как будто они не реанимационную бригаду вызвали, а попа для отпевания. Мы, разумеется, наорали на них, параллельно вкололи мужику адреналин и атропин в сердце, заинтубировали и начали качать.
Уже в лифте, затолкав туда каталку с пациентом, которому все-таки удалость запустить сердце, Суходольская, наблюдая, как я между шестым и вторым этажом ухитрился вставить подключичный катетер, признала:
– Да, Лешка, конечно, в экстренной ситуации ты в нашем отделении лучший!
Потом поняла, что перехвалила, нахмурилась и добавила:
– Но все говорят, если Леша Моторов соизволил зайти в блок, то, для того чтобы там его удержать хоть на минуту, нужно бежать и обе двери чем-нибудь тяжелым подпереть! Не любишь ты рутину!
Вот уж кто на самом деле ненавидел рутину, так это сама Лидия Васильевна. Она просто притягивала к себе разнообразные приключения, поэтому работа с ней была сплошным водоворотом событий. Да что там работа!
Я всегда не любил гладить. Не то чтобы не умел. Именно не любил. Я мог гладить вещи с ровной поверхностью, например пионерский галстук. Или носовой платок. Или детскую пеленку. Тогда я воображал, что шипящий утюг – знаменитый ледокол “Красин”, с хрустом проламывающий арктические торосы, идущий на помощь экспедиции под руководством итальянского генерала Умберто Нобиле.
А гладить вещи сложные я терпеть не мог. На первом месте по противности стояли медицинские халаты. На втором – рубахи с длинным рукавом. На третьем – брюки.
Нагладишь манжеты и рукава у халата, переходишь на спину, а эти дурацкие рукава уже мнутся, начинаешь гладить спереди – мнется спина, да еще пуговица обязательно расплавится. Одно мучение. Рубахи отличались от халатов лишь отсутствием хлястика и были короче, но у них сложнее воротник. Брюки как будто ровные, но там эти вечные стрелки, которых всегда получалось не меньше трех.
Так как припахать в тот день было некого, я начал гладить сам. Сначала, матерясь, погладил рубашку, светлую, с длинными рукавами. Немного успокоившись, прист
Сторінка 10
пил к голубым брюкам из легкой фланели.Эти приготовления были обусловлены не предстоящим свиданием, как могли бы подумать некоторые из числа особо наивных. Просто я уходил из дому на ночное дежурство, после которого мне предстоял очередной, бог знает какой по счету, вступительный экзамен.
Пару часов спустя я, весь такой сумасшедшей красоты и наглаженности, вывалился в подземный переход метро “Коломенская” и около дверей наткнулся на толпу, окружавшую нечто наверняка интересное, но пока невидимое.
Люди, вытягивая шеи, смотрели куда-то вниз. Обычная картина, когда происходит что-то нехорошее и экстраординарное. Подозрения усилились, когда я заметил, как идущая навстречу врач-эндоскопист Инна Головнина, поравнявшись с толпой, заглянула туда с высоты своего роста и, поморщившись, прибавила шаг.
Я заработал локтями и стал пробираться к центру событий. На асфальте лежал пожилой человек в старом синем костюме, с запрокинутым белым лицом. Рядом на корточках примостилась молоденькая девушка в медицинском халате, как я понял, фельдшер пункта неотложной помощи метрополитена. Она безуспешно пыталась набрать в шприц содержимое ампулы, но у нее ничего не получалось, так сильно тряслись руки.
Напротив, вполоборота ко мне, расположилась женщина, которая, без сомнения, являла собой архитектурную доминанту всей композиции. На ней было цветастое платье, но не это главное. Она подозрительно хорошо и грамотно массировала сердце, что не так просто, как кажется.
Наверняка тетка журнал “Здоровье” прочитала, но все равно, пока они в него не начнут дышать, толку будет мало.
Тут эта правильно качающая тетка на секунду подняла лицо, чтобы сдуть челку, упавшую на глаза. Через мгновение я плюхнулся на колени рядом с ней.
– Лидия Васильевна, вам квалифицированная помощь не требуется? – Говоря это, я успел отобрать у девочки шприц, ампулу, набрать адреналин, выхватить из раскрытого чемоданчика ампулу с хлористым кальцием, сбить кончик носиком шприца и, насадив иглу, ввести смесь в левый желудочек сердца.
– Ого, Лешка, ты еще откуда взялся? – радостно воскликнула Суходольская и даже пожала мне от неожиданности свободную руку.
– Просто мимо проходил, сегодня в ночь выступаю! – набирая очередной коктейль, пояснил я. – А вам, я гляжу, на работе не хватает!
– И не говори! – усмехнулась она и, продолжая качать, мельком взглянула на часы: – Между прочим, до начала дежурства всего семь минут!
Она уже было нахмурилась, но передумала и, вырвав у меня из рук шприц, всучила мне обрывок бинта:
– Давай-ка лучше подыши, корифей! – И сама воткнула иглу в сердце.
У меня к этому времени уже был один опыт реанимации в уличных условиях, вернее в парковых, на берегу канала, но там был утопленник, почти безнадежное дело, а тут свежий труп с “сухими” легкими. Так что дышать “рот в рот” у меня получалось не хуже, чем у аппарата искусственной вентиляции легких. Экскурсия грудной клетки была сумасшедшая.
Сердце пошло спустя полминуты, а тут и “скорая” подоспела. Пришли два одинаковых амбала и тупо стали смотреть на наши героические усилия. Потом они долго чесали в башке, потом не спеша сходили к машине за носилками и чемоданчиком.
Лидия Васильевна практически вырвала у одного из них чемоданчик и быстро заинтубировала заведенного нами пенсионера. Мы помогли его переложить, и эти двое из ларца все так же неспешно потащили носилки к машине. Суходольская шагала рядом и с помощью мешка-респиратора делала искусственное дыхание.
Уже на улице, когда “скорая”, взвыв сиреной, рванула с места, я с ужасом понял, что моя сумка, в которой лежал экзаменационный лист с паспортом и которую я беспечно бросил в переходе, сейчас не висит привычным грузом у меня на плече.
“Вот и все, сходил на экзамен!” – пронеслось в голове, но не успел я затосковать по этому поводу, как за моей спиной раздался робкий голос:
– Молодой человек, а сумочку-то вашу я держу! – И какая-то добрая пожилая женщина протянула мне мое сокровище.
Я очень жарко и, самое главное, искренне ее поблагодарил, выслушал восторги по поводу нашей самоотверженности, попрощался и повернулся к Суходольской. Та даже не обратила на весь этот эпизод никакого внимания, продолжая смотреть вслед “скорой помощи”. Я знал, о чем она сейчас думает. Довезут эти паразиты его живым или нет.
– Лидия Васильевна, ну я пойду! – Мой голос вывел заведующую из оцепенения.
– Так, Лешка, паразит, ты почему до сих пор здесь? – нахмурилась та. – Марш на работу!
Я перешел дорогу и встал в очередь на маршрутку. Мои наглаженные накануне брюки выглядели так, будто ими неделю терли бетонную стену. К тому же я своими коленями собрал все окурки, плевки и даже дефицитную в то время жевательную резинку. Рубаха выглядела лучше, но ненамного. А от поцелуев с реанимированным пенсионером стояла противная кислятина во рту.
Разумеется, я опоздал на полчаса. У дверей меня уже поджидала Тома Царькова. С выражением лица, которое, видимо, должно было означать: “У всех сотрудники как сотрудники, а
Сторінка 11
у меня либо аферисты, либо дебилы, либо проститутки!”– Так, Лешечка, ты, я вижу, совсем охамел! Думаешь, я вечно покрывать тебя буду? Сколько времени? А ты когда должен на работе быть? Ну все, сволочуга, ты у меня дождешься! Вот всю жизнь теперь в блоке работать будешь!
– Тамарка! – начал я виновато оправдываться. – Просто еду в метро, а там Суходольская мужика реанимирует, вижу – одна не справляется, ну я, понятное дело, ей помог, то-сё, вот и задержался!
Обычно находчивая, Тамара, выслушав все это, несколько раз подряд глубоко вдохнула, прижала ладонь к груди и дважды поперхнулась. Так обычно описываются начальные симптомы тромбоэмболии легочной артерии. Я забеспокоился.
Но тут, слава богу, Тамару прорвало. На ее крик высыпали все, включая сотрудников лаборатории.
– Наглая рожа, реанимировал он, нет, ну всяких я видела, сама врать умею, но чтобы так!!! Все, Моторов, не вздумай теперь ко мне подходить! И по “шоку” больше работать не будешь! Вот скотина, поглядите на него, стоит улыбается!!! Да еще Лидию Васильевну приплел, завтра же все ей расскажу, бесстыжий!!! Бегом переодевайся и чтобы генеральную уборку сегодня сделал! Лично проверю!!!
Даже не предложив традиционный перекур, Царькова стремительно прошла к себе в кабинет и так бабахнула дверью, что лампа в коридоре испуганно замигала и погасла.
Через мгновение Тамарка высунула голову и уже в спину мне проорала:
– Реанимирует он! В метро! А в автобусе ты еще оперировать не пробовал, аферист?!!
Утром, когда я удрал на экзамен, отпросившись на полчаса пораньше, Суходольская вошла в ординаторскую и, не сказав свое обычное “начнем”, обвела присутствующих веселым взглядом и сообщила:
– Ох и здорово же мы вчера с Лешкой в метро мужика реанимировали, не поверите, даже завели, а где Моторов-то сам? Небось уже всем растрепал?
Тамара Царькова опять прижала руку к груди, поперхнулась, но на этот раз ничего не сказала.
* * *
Наша больница потихоньку разрасталась, почти год, как открыли новый терапевтический корпус, который в народе сразу окрестили “голубым”. Нет, пациенты там были с традиционными взглядами на жизнь, персонал в большинстве своем тоже, просто во внешней отделке выделялся синий цвет.
Через неделю после того, как туда стали прибывать первые больные, нас с дежурным врачом Витей Волоховым срочно вызвали на предагональное состояние. Когда мы примчались, то застали лежащую на полу процедурного кабинета женщину серого цвета, а над ней рыдающую и заламывающую руки молоденькую девочку-ординатора, которая выглядела немногим лучше.
Оказалось, женщина находилась здесь на обследовании и после ужина у нее разболелась голова. Во время вечернего обхода она пожаловалась дежурному ординатору, внимательной и серьезной девушке. Любой бы на месте дежурного врача всучил формальную таблетку анальгина, но эта, только что окончившая институт и поступившая в клиническую ординатуру, решила показать себя настоящим врачом и клиницистом. У постели больной она провела не меньше часа. Собрала анамнез, послушала, пропальпировала, проперкутировала, наконец измерила давление и пульс. Действительно, имелась незначительная гипертензия около ста пятидесяти и тахикардия девяносто шесть ударов в минуту.
Юность любит динамизм и бескомпромиссность. Молодому доктору очень захотелось помочь максимально быстро и эффективно. Она вооружилась фармацевтическим справочником Машковского и через полчаса пришла к выводу, что лучшее средство для снижения давления и заодно частоты сердечных сокращений – вещество под названием “новокаинамид”.
Несмотря на то что у нас в реанимации подобные препараты лились ведрами, именно к назначению новокаинамида всегда относились с опаской. Уж больно он был дубовый, что ли. Эффект от него, конечно, потрясающий, но при этом непредсказуемо резкий и такой… как бы понятнее выразиться? В общем, как от совковой лопаты, если ею от души врезать по затылку. Вот почему его вводили максимально осторожно. Брали ампулу, разводили на пол-литра физраствора и медленно капали под контролем монитора. Обычно через пару минут давление с двухсот пятидесяти заваливалось до ста двадцати.
Девочка-ординатор таких тонкостей не знала. Завела больную в процедурный кабинет и распорядилась ввести новокаинамид внутривенно шприцом. А чтобы подействовало наверняка, приказала ввести две ампулы, чего мелочиться.
Хорошо, что “шоковым” врачом в тот день был Волохов. Если бы дежурил, например, Виталий Кимович, по кличке Кимыч, который никогда и никуда не торопился, уверен, в нашей патанатомии стало бы одним вскрытием больше. Но недаром Витя Волохов в прошлом легкоатлет, кандидат в мастера по прыжкам в длину. И мы успели с ним вовремя. Сознание отсутствовало, давление не определялось, был слабый и редкий пульс на бедренных артериях.
Через некоторое время после сумасшедших усилий нам удалось стабилизировать состояние, больная выровняла давление и пульс, и мы с Витей переложили ее с пола на кушетку. Воспользовавшись паузой, я практически насильно вл
Сторінка 12
л в доктора-ординатора, у которой продолжался тихий истерический припадок, разведенную ампулу реланиума из реанимационной укладки.Еще минут через десять, когда они обе пришли в себя, мы стали свидетелями сильного зрелища.
Женщина открыла глаза, увидела зареванного доктора и с большим чувством и достаточно твердым голосом произнесла:
– Светлана Львовна, вы мне жизнь спасли, огромное вам спасибо, никогда этого не забуду! Дай вам бог самой здоровья и счастья!!!
Ни я, ни Витя против таких пожеланий, естественно, возражать не стали, сказали только постовой сестре, чтобы та, если что, звонила. А я еще попросил справочник Машковского, от греха подальше, спрятать до утра.
И пошли к себе в отделение. Пока ждали лифт, из процедурного кабинета доносились слова искренней и восторженной благодарности.
Мы возвращались по подвалу, который соединял “голубой” корпус с основным рукавом. Разговаривали. О том, какая непростая штука жизнь. На этом отрезке пути было потрясающее эхо, и наши слова разносились по всему подземелью.
Сколько ни говори на вечные темы, никогда не надоест. У меня, к примеру, всегда есть в запасе парочка историй про жизнь и смерть. Про смерть сегодня не хочу, давайте поговорим про жизнь. Про Таню Богданкину и пельмени.
История про Таню Богданкину, пельмени и архангельского мужика
Медсестра Таня Богданкина пришла в отделение спустя год после меня. Ровно через неделю у нее случилась первая неприятность.
Мы тогда стояли курили в гараже, беседовали. Как вдруг распахнулась дверь и влетела чокнутая Степанида Андреевна, старшая операционная сестра, в сопровождении главной сестры больницы Маргариты Николаевны.
– Ага!!! Вот, оказывается, где прячется эта мерзавка!!! – завопила Степанида, тыча в Таню подагрическим пальцем. – Все, я узнала тебя, теперь не отвертишься!!!
“Ничего себе, – думаю, – ну просто Гоголь какой-то, “Вий”, не иначе!”
Таня, отвернувшись, что-то пробормотала непарламентское, сплюнула и в сердцах бросила окурок в ведро. Степанида, пытаясь унять одышку, плюхнулась на лавочку. Одной рукой она держалась за сердце, а пальцем второй продолжала указывать на Таню Богданкину, испепеляя ее взглядом.
Пока Степанида свистела, вцепившись в лавку, Маргарита Николаевна подошла к раздосадованной Тане и произнесла, как всегда она умела, мягко и доверительно:
– Деточка, ты все же прислушивайся к замечаниям старших товарищей, особенно если они такие… – тут Маргарита показала взглядом на Степаниду Андреевну, – такие заслуженные люди! А курить лучше бросай, ты же девочка и к тому же в больнице работаешь!
Подхватила Степаниду и пошла на выход. Та успела обернуться и на прощание погрозить Тане кулаком.
– Леш, давай еще покурим, – сказала удрученно Богданкина, – сам видишь, весь кайф обломали!
Оказалось, что рано утром Таня забежала в гости к подружке, которая работала на седьмом этаже в “травме”. Они решили по-быстрому поболтать и, как водится, курнуть. Встали на лестнице и не успели прикурить, как сразу напоролись на Степаниду Андреевну. Та произнесла, как и полагается мудрому наставнику, речь в весьма дружелюбной форме, типа: “Что вы стоите тут с цибарками в зубах, профурсетки, еще халат напялили, форму медицинскую позорите, надавать бы сейчас вам по губам, бесстыдницы, да я в ваши годы на целине, в мороз, одна на триста километров, на сто больных, а ну быстро говорите, из какого вы отделения, нахалки!!!”
Таня огрызнулась, мол, что хочу, то и делаю, а где я работаю – не ваше дело, и вообще, ступайте, женщина, куда шли, не доводите до греха.
Но надо было знать Степаниду Андреевну. Она не поленилась и, прихватив Маргариту Николаевну, прочесала все пятнадцать этажей главного корпуса. Так как Богданкина обнаружилась после обеда, нетрудно подсчитать, что на поиски ушло две трети рабочего дня Степаниды. Ну, для такого важного дела, как воспитание подрастающей смены, времени не жалко. Вот такой был дебют у нашей Тани.
А теперь о главном. О жизни. Понятно, что жизнь человека весьма хрупка. О том, что человек смертен и смерть может быть внезапной, знают многие, не только те, кто читал “Мастера и Маргариту”. Но внезапная, быстрая смерть подчас бывает настоящим подарком судьбы. И наоборот, жизнь постоянно на грани смерти, без радости, во всем ограниченная, сопряженная с тяжелым хроническим и прогрессирующим заболеванием, может рассматриваться как сущее наказание.
На одиннадцатом этаже правого крыла больницы располагалось сосудистое отделение, часть которого была отдана автономному отделу кардиохирургии. Там проводились сложные операции на открытом сердце, а контингент составляли больные с тяжелыми пороками. Почему-то почти все они были жителями Архангельской области, видимо, существовала какая-то разнарядка.
Среди пациентов, которых направили в кардио-хирургическое отделение, был больной с тетрадой Фалло. Тетрада Фалло – один из самых тяжелых пороков сердца, уже из названия видно, что там четыре сложнейших патологии. Часть детей, родившихся с этим пор
Сторінка 13
ком, умирает в первый год жизни. Но и из выживших лишь немногие дотягивают до совершеннолетия. Обычно детей с тетрадой Фалло стараются оперировать в раннем возрасте, но случается, что такой больной попадает на стол зрелым человеком. Если, конечно, кто-нибудь берется за такого.Жизнь ребенка с этим заболеванием лишена большинства детских радостей, такие дети не бегают, не прыгают, не скачут. Большинство даже не ходит в школу – они не в состоянии подниматься по лестнице. У них, как правило, нет друзей среди сверстников, взрослые смотрят на них, и особенно на их родителей, с неподдельной жалостью и скрытым удовлетворением от сознания здоровья собственных чад. Потому что дети с тетрадой Фалло отличаются от остальных, кроме всего прочего, и внешне. Они синие, почти черные, настолько мало в их крови кислорода.
Маленькие черные человечки, сидящие на корточках, – типичная их манера отдыхать после нескольких шагов.
Вот такого больного решили прооперировать наши кардиохирурги. Точнее сказать – решили, но не сразу. Они недели две думали, советовались, перебирали анализы, делали дополнительные снимки, кардиограммы. Очень боялись, что не снимут его живым со стола. Наконец вздохнули, перекрестились и назначили день операции.
Обычно кардиохирурги заканчивали операции к обеду или чуть позже. Крайне редко больных привозили в шесть вечера. Однажды, помню, операция закончилась в девять.
Этого доставили к нам в первый блок ближе к полуночи.
Все, что можно было получить по части осложнений в момент операции, получили, причем в самой тяжелой форме. Кровило там, где не должно было кровить, не сшивалось, где должно было сшиваться, не разрезалось, где должно было разрезаться. Даже машина искусственного кровообращения выкинула фортель. Отсоединилась одна из пластиковых магистралей, и, пока это заметили, около литра крови вылилось на пол.
У анестезиологов тоже было не лучше. Уже на этапе вводного наркоза начались чудеса – сначала с интубацией, затем с подключичкой, потом возникла крапивница на один из компонентов наркозной смеси, потом вдруг давление упало по нулям… В общем, тихий ужас, врагу не пожелаешь.
При этом вся огромная хирургическая бригада думала об одном. Как и почему до сих пор он жив, этот уже изначально практически безнадежный пациент.
И вот, когда все было сделано, он выдал остановку. Хотя в момент кардиохирургических операций сердце останавливается по самой процедуре вмешательства, но тут, как говорится, больной встал наглухо. Сердце стали массировать и дефибриллировать, но оно не запускалось. Дефибрилляция открытого сердца выглядит так, будто сердце накрывают сверху и снизу двумя здоровыми ложками. Это два электрода, по которым идет ток высокого напряжения.
В какой-то момент один из двух хирургов, производящих процедуру, заметил, что нижняя ложка выехала из-под задней стенки сердца. Он решил поправить электрод, но забыл сказать об этом коллеге, который стоял практически спиной к нему. Тот занимался тем, что набирал заряд на приборе, нажимая на кнопку “набор”, а после набора напряжения нажимал на кнопку “разряд”, а после разряда нажимал на кнопку “сброс”. Потом он повторял все заново, и так много раз подряд. Вот какая техника была у нас в то время.
Операция шла больше двенадцати часов, поэтому у этих двоих синхронные действия дошли до сомнамбулического автоматизма. В общем, как только Сергей Петрович Иванцов взялся обеими руками, в мокрых от крови перчатках, за оба электрода, стоящий к нему спиной новичок Ваня Акулишин машинально нажал на кнопку “разряд”.
Эффект получился грандиозным. Тот случай потом вспоминали много лет. Иванцов подпрыгнул метра на два, а затем, приземлившись на пол, переколотив все стоящие рядом со столом дренажные банки, принял почти горизонтальное положение и, набрав скорость, выбил головой дверь в предоперационную. Пролетев ее на бреющем полете, он протаранил еще одну дверь – в коридор, где и рухнул без сознания. Самое удивительное, что сердце у больного запустилось. Часть хирургов побежала оказывать помощь Иванцову, а другие начали зашивать грудную клетку пациента.
Сергей Петрович потом больше года подволакивал правую ногу и не чувствовал правую руку. Вот они, эти опыты с электричеством.
Больного прикатили к нам в реанимацию и положили на третью койку в первом блоке. Дела были – хуже некуда. Главное – он не держал давление. Ни в первые сутки после операции, ни в последующие. Это был скверный прогностический признак. Давление поддерживалось только бешеными дозами прессорных аминов, которые постоянно вливали внутривенно. Дыхания не было, сознание вроде было, но как тут поймешь!
В принципе, все знали, что ловить здесь уже нечего. Но прошло несколько дней, и доза препаратов для поддержания давления стала заметно снижаться, а еще через сутки и вовсе свелась к одной-единственной ампуле дофамина. Это было очень здорово, значит, включились таинственные резервы организма.
Но вскоре появилось ослабление дыхания справа, и на контрольном снимке грудной клетки
Сторінка 14
обнаружилось скопление жидкости в плевральной полости.Дежурный кардиохирург спунктировал плевру, откачал жидкость, и расправившееся легкое снова задышало.
Тут бы всем радоваться и готовить больного к переводу в отделение, как вдруг в анализах наметилась четкая тенденция к падению гемоглобина. Еще через пару дней сомнений не осталось. Возникло внутреннее кровотечение, и оно прогрессировало. Стал понятен и источник. В момент плевральной пункции игла прошла через увеличенную от венозного полнокровия печень. А ткань печени – она как отварная свекла, мягкая, ранимая и подкравливать будет постоянно. Вот уж действительно, твою мать!
В таких случаях есть два варианта. Или смотреть, как пациент медленно умирает от кровотечения, или срочно брать на операцию, что в его состоянии равносильно смертному приговору. Всегда не завидовал людям, которые решают подобные дилеммы, но считаю, что любое действие лучше, чем бездействие.
Оказалось, что многие разделяют деятельный подход к лечебному процессу, и беднягу все-таки подняли в операционную, где его поджидала бригада, на этот раз печеночных хирургов, которые, на счастье, тоже имелись в нашей больнице в отделении печеночной хирургии на восьмом этаже.
Надежда умирает последней. Хотя шансов не было. Одно то, что больной с таким диагнозом, как тетрада Фалло, дожил до тридцати лет, уже считалось огромным достижением. Перенести такую операцию с кучей осложнений в момент ее проведения, с длительной остановкой сердца в финале, выраженной сердечной недостаточностью послеоперационного периода и заработать через десять дней ранение печени… Это было уж как-то слишком. Даже для нашего отделения.
Поэтому мы немало подивились, когда его живого сняли со стола. Хотя жизнью это назвать можно было с огромным преувеличением. Ни дыхания, ни сознания, ни давления. Наверное, состояние мумий, которых находили в египетских пирамидах, вселило бы больше оптимизма в реанимационную бригаду. Но глаза боятся, а руки делают.
Час за часом, день за днем, сантиметр за сантиметром он переходил на сторону жизни. Снова держал давление, хлопал глазами и уже начал сопротивляться аппарату, пробуя самостоятельно дышать.
И вот в первом блоке собрался консилиум. Были все наши и целая куча кардиохирургов под руководством профессора Соловьева. Больного отключили от аппарата. Час смотрели. Дважды проверили кровь на газовый состав. И наконец выдернули трубу из трахеи. Трахеостому не стали делать, подозреваю, из суеверия. Осталось проверить очень важное. Уровень сознания. После сумасшедшей гипоксии, остановки сердца, длительной гипотонии, кровопотери можно было запросто получить так называемую социальную смерть. Другими словами, пациент с полным правом мог превратиться в мычащего идиота.
– Тебя как зовут? – строго и громко спросил Юрий Яковлевич Романчук, старший ординатор.
– Сергей… – просипел тот.
Уже неплохо.
– А лет тебе сколько? – не отставал Юрий Яковлевич.
– Тридцать один будет… – раздался хрип.
– Живешь где, адрес твой?
Вопрос был нелишним. Потому что свое имя и возраст помнят даже полные кретины. Не верите – поспрашивайте!
– Архангельская область, город Шенкурск, улица Ломоносова, пять!
Ну слава богу! Все обменялись многозначительными и одновременно радостными взглядами. Энцефалопатии нет, можно идти и со спокойной совестью расписывать дальнейшую терапию. Так и сделали. Минут через десять, убедившись, что и давление, и пульс, и дыхание в норме, всей толпой двинули в ординаторскую.
Из всего персонала в блоке осталась только одна дежурная сестра из новеньких. Таня Богданкина.
Ужин в нашем отделении был самым приятным моментом дежурства. Во время ужина мы всегда собирались вместе, всей нашей сестринской бригадой в полном составе, и, кроме того, иногда приглашали дежурную лаборантку. Именно за ужином можно было потрепаться, посплетничать, а то и впервые за день увидеть друг друга. Так как особого времени на гастрономические изыски не было, мы ограничивались пищей быстрой в приготовлении и калорийной.
Обычно это были сосиски традиционного серого цвета, или жареная картошка, или омлет, как правило, из ворованных яиц, ну и конечно пельмени. В тот день на ужин Таня Богданкина взяла из дома пачку пельменей, которую еще с утра засунула в морозильник.
Таня была девушкой отзывчивой, как и многие новенькие, пока их не засасывала и не перемалывала рутина. Она искренне сочувствовала больным, и это сострадание компенсировало временное отсутствие реанимационных навыков.
То, что происходило с этим несчастным, которого только и успевали, что оперировать да откачивать, не могло оставить ее равнодушной.
Поэтому, когда все начальники с умным видом отчалили в ординаторскую, Таня робко подошла к постели больного, обтерла ему мокрой пеленкой лицо и спросила:
– Ты чего-нибудь хочешь?
Тот, не задумываясь, просипел:
– Хочу, очень хочу, мне бы… пожрать!
Елки-палки, и правда мужик уже третью неделю, бедный, без еды доходит, всякая глюкозка в вену не в счет,
Сторінка 15
чем только душа держится, кожа да кости.– Сейчас, подожди, я быстро! – пообещала Таня и пулей понеслась в буфет.
Обед уже закончился, буфетчица успела даже вымыть кастрюли. Таня вздохнула и открыла морозильник.
Когда она вошла в блок с дымящейся тарелкой в руке, там по-прежнему никого из персонала не было, ее напарница Маринка Ляпичева все еще торчала на вызове, а врачи сидели в ординаторской.
Таня поставила тарелку на тумбочку, пододвинула стул к кровати, села и начала кормить.
Остановка сердца произошла на третьей ложке. Это был многократно описанный в специальной литературе послевоенного времени “синдром возобновленного кормления”. Так внезапно умирали узники концлагерей и блокадники. Их нужно кормить буквально из пипетки, но Таня про синдром не слышала, зато вой тревоги монитора над третьей койкой услышали все.
Картина была еще та. Остановившийся больной, ложка с пельменем около плеча, полная пельменей тарелка на тумбочке и забившаяся в угол, абсолютно растерянная и подавленная новенькая медсестра.
Когда раздается пять коротких приказов в секунду, когда нужно в протянутую руку моментально дать или ларингоскоп, или трубку, или шприц с сердечной иглой, или шприц вовсе без иглы, молниеносно набрать нужный препарат в нужной дозе, зарядить и повесить капельницу, прикатить дефибриллятор, снова набрать шприц, надо быть собранным и четким до автоматизма. От Тани в ее состоянии толку было немного.
Поэтому наши врачи в тот раз начали оказывать реанимационное пособие без участия медсестры. И пока сбегали в соседний блок за подмогой, свинство развели такое, как будто в блоке взорвали парочку противопехотных мин, кстати, запрещенных к применению всеми гуманитарными организациями планеты.
Можете не верить, но он завелся. Да и на аппарате-то провел потом не больше суток. В каком-то смысле бегать туда-сюда стало для него привычным делом.
Через неделю его перевели долечиваться в кардиохирургию. Я приходил туда смотреть, как он осторожно, на еще плохо слушающихся ногах ковылял по коридору.
Пару лет спустя кто-то из наших кардиохирургов, вернувшись из командировки в Архангельск, рассказал, что этот Серега из Шенкурска жив, здоров и не синего цвета, а нормального, розового, работает диспетчером на местном деревообрабатывающем комбинате. Женился на молодой веселой девушке, которая должна вот-вот родить. И сам ходит веселый и довольный жизнью.
Таню, конечно, здорово ругали, чуть не прибили, думаю, ей до сих пор не хочется вспоминать тот случай. Потом прошло время, она всему научилась, стала опытной и грамотной сестрой. Такие всё делают правильно и, уж конечно, не отдают больному свой ужин.
Минотавр
А в нашем подвале поселился Минотавр. Это я его туда поместил, скуки ради. Когда среди ночи один брел из родильного дома по подвалу, возвращаясь в отделение. Только прилег, как меня вызвали на срочное донорство. В то время в экстренных случаях иногда практиковалось прямое переливание. Теплая кровь намного эффективнее консервированной. Тем более когда речь идет о массивной кровопотере.
В роддоме возникло профузное кровотечение у роженицы, которая на девятом месяце зачем-то потащилась в Центральный детский мир, где ее придавили в перманентной гигантской очереди. Ребенка спасли, а с ней дела обстояли намного хуже.
В предоперационной у меня по-быстрому выпустили пол-литра крови и отправили восвояси.
Вот когда я шел обратно, тогда и придумал себе Минотавра. Путь был неблизкий, слегка подташнивало и от хронического недосыпа, и от язвы, и от недавнего донорства. Голова кружилась. Но это скорее от сигареты. Я всегда в подвале любил курить, особенно вот как сейчас – идешь, а конца ему не видно.
Еще подумал, когда буду проходить ответвление в “голубой” корпус, пощелкаю пальцами, чтобы услышать необыкновенно сильное и долгое эхо. С этим новым рукавом наш подвал стал походить на Критский лабиринт. Ну а какой же Критский лабиринт без Минотавра? Значит, он здесь и живет, в подземелье, охотится на припозднившихся безмятежных дурачков вроде меня.
Наверняка огромный, подлый, противный. Притаился за углом, об стену рога точит. Даже показалось, что в самом дальнем конце, там, где морг, мелькнула какая-то тень. Сразу чаще забилось сердце. А, ерунда, просто такая запоздалая реакция на кровопотерю. Но шагу я все-таки прибавил.
Ну и кто же я тогда? Уж конечно не герой Тезей, тем более что мне никаких клубков и не надо, чтобы из этого лабиринта выбраться. Как говорится, мне тут каждый камень знаком. Я здесь практически в ежедневном режиме ношусь. Вернее, в ежесуточном. Скорее всего, я этот, как его, Мальчик-с-пальчик!
И попробуй догони, Минотавр дурацкий! Сил не хватит! Весело придав себе ускорение – а носился я в то время и в самом деле быстро, – уже буквально через минуту запрыгнул в буфетный лифт. Вот черт, надо же, эхо проверить забыл!
Но когда закрывались двери, я услышал это.
Далекий и устрашающий вой.
Столб воды толщиной с телеграфный столб разметал в стороны
Сторінка 16
стулья и скамьи, стоящие в малом конференц-зале, моментально затопив его. Достигнув дверей, первая волна секунду постояла в размышлении, будто витязь на распутье, а затем, разделившись на три основных рукава, с гиканьем и свистом, заходясь от собственной безнаказанности, устремилась на простор.Самый мощный поток завернул на лестницу и Ниагарой обрушился на первый этаж. Два других, образовав бешено раскручивающийся водоворот в холле у лифтов и затопив попутно отделение эндоскопии, ворвались в основной коридор.
Тому, который свернул направо, не повезло: дверь в отделение гемодиализа была плотно закрыта, и ему только и оставалось, что в бессильной злобе биться об нее, как потревоженный сторожевой пес кидается на забор.
Зато левому удалось поглумиться на славу! Превратив за секунды оба кабинета ЭКГ в Атлантиду, он вальяжно, без суеты, солидно – так катит по улице тройка с бубенцами – взял курс на реанимацию.
* * *
Несмотря на неоднократные заверения моего деда Якова о том, что род наш ведется от самого царя Соломона, я очень любил работать по субботам. Подозреваю, что и царь Соломон, окажись он на моем месте, с удовольствием выходил бы на вахту в этот святой день, к тому же “шоковым”, да еще когда бригада нормальная.
Жаль только, что вот уже год, как мой друг Ваня Рюриков уволился, ну тут никто не удивился, для медбрата три года – практически предельный срок. Медбратья или в институт поступают, или вовсе из медицины сваливают. Третий вариант бывает только в виде исключения, тем более в таком отделении, как наше.
Да если бы не Тамарка Царькова, я бы и сам отвалил отсюда, но она своими новациями мне здорово здесь жизнь скрасила. У меня даже свободное время появилось, которое еще называют “досуг”.
Это означало, что после работы я не тащился, по обыкновению, на пределе сознания домой отсыпаться, а мог несколько часов заниматься всякими-разными вещами. Например, в кино пойти. Слава богу, андроповское лихолетье кончилось, и мирных граждан перестали отлавливать с милицией по магазинам и кинотеатрам.
Причина, по которой я обзавелся этим своим досугом, очень проста. Я получил возможность спать на дежурстве.
Если не было поступлений и вызовов в другие отделения, можно было дрыхнуть почти шесть часов. И хотя сон этот был весьма специфический – уж больно он всегда поверхностный и неспокойный, – результат проявился сразу. Наутро я практически был человеком. Справедливости ради нужно сказать, что спокойная ночь в реанимации выдавалась далеко не каждый раз, но мне странным образом везло.
Везение это заключалось в том, что, когда я дежурил, все утро, весь день и весь вечер больных везли, везли, везли… На вызовы в отделения я бегал, бегал, бегал… Но ночи проходили, как правило, всегда спокойно. У нас существовало поверье, которое всегда проповедовал Кимыч, что чем больше человек нагрешил, тем больше у него поступлений по “скорой”. У меня выходило так, что грешил я много, разнообразно и со вкусом. Но почему-то днем.
Все начали дико завидовать. Старенькие стали говорить всякие гадости, типа “А что же тебе, Моторов, теща все никак машину не купит, ты ведь уже три года, как женат!”. Видимо, у них в деревнях срок три года считался достаточным для поощрения верности зятя автомобилем. Я им на это ничего не отвечал, лишь загадочно улыбался.
Тут и новеньким захотелось дрыхнуть по ночам.
Таня Богданкина подошла как-то ко мне и говорит:
– Моторов, сволочь, не надоело тебе одному по “шоку” работать, не обнаглел ли ты, часом? Давай в следующем месяце я сама Тамарку попрошу, пусть меня разок в “шок” поставит. А ты в блок иди, поперестилай малость, тебе полезно, а то, наверное, забыл уже, как это выглядит!
На том и порешили.
Таня ходила весь день довольная, как будто пылесос в лотерею выиграла. Ни одного вызова, ни одного поступления. А после ужина, как только она перемыла всю посуду и надраила пол в сестринской, тут и понеслась душа в рай! Таня приняла шесть “эстакад” и четыре раза сгоняла на вызов. Ладно, если бы просто не прилегла, так даже ни разу не перекурила. Последнее поступление случилось перед самой пересменкой, в пять минут девятого.
А у меня в блоке было всего трое больных, которые сами крутились, вертелись, какие-то астматики, один до того обнаглел, что даже газету стал читать. Поэтому я полноценные четыре часа сна получил, да еще в блоке потом часа полтора за столом кемарил.
– Нет уж, Лешенька, работай ты сам по “шоку”! – сказала мне после пятиминутки зеленая Танька. – У меня жизнь одна!
Я с ней часто организовывал бартер. То есть отпускал на пару часов поспать, а она мне крутила из марли шарики, салфетки, рисовала все сводки и температурные листы. И заодно надраивала “шок”. Делала Танька это с дикой скоростью и всегда со своими фирменными шутками и прибаутками.
Не успевал я ее отпустить, как сразу начинались у меня чаепития и перекуры с Волоховым и Орликовым в “харчевне”. Мы вели разговоры, травили байки, ржали. Иногда я так увлекался, что поднимал Таньку не чере
Сторінка 17
два условленных часа, а через три с лишним.И хотя Танька была этим весьма довольна, притворно меня ругала:
– Моторов, опять в блоке не сидел, сволочь! Ну конечно, давление не измерял, капельницы все убежали, моча уже скоро в приемный покой польется! Правильно, ты же у нас умные разговоры ведешь со своими друзьями! А ну сознавайся, в “харчевне” сидел? С Виктором Ивановичем и с Андреем Вячеславовичем чай пил? Да что ты врешь, я же от вашей ржачки три часа ворочалась, так и не заснула!
А марлевые шарики и салфетки я делать так и не научился.
Вот и в тот день я пришел еще до завтрака во второй блок, где работала Никиша, и мы стали с ней горячо обсуждать, на какое время я должен ее отпустить к знакомому травматологу за полкило накрученной марли. Никиша – так звали в нашем коллективе Олю Никишину – вела переговоры как одесская торговка рыбой, делано возмущалась, закатывала глаза, хамила, но цены не сбавляла.
Оля была девушкой, испорченной повышенным мужским вниманием. Под конец дежурства она обычно обводила глазами сестринскую, притворно вздыхала и произносила:
– Надеюсь, я ничего здесь не забыла? Кроме своей чести, разумеется…
По Олиному мнению, в обмен на шарики и салфетки я должен был отпустить ее предаваться греху аж до ужина, причем, помимо всех капельниц и остальных назначений, мне также вменялось в обязанность вымыть полы и перестелить двух здоровенных битюгов на аппарате. От сменщицы, новенькой сестры, помощи ждать не стоило. Я уже собрался было плюнуть и пойти охмурять девок из первого блока, как тут со стороны послеоперационной палаты раздался дикий визг, причем коллективный.
Примерно такие же вопли я слышал, когда однажды изловил мышь и выпустил ее вечером в сестринской.
Мы выскочили в коридор, и причина визга сразу стала понятна. Да что там понятна, я и Никиша моментально промокли, потому что прибывающая вода растекалась по нашему мраморному полу и уже была сантиметров пять высотой. Потоки накатывали откуда-то со стороны эндоскопии, и по всему видно было, что размер катастрофы там – будь здоров.
* * *
Маргарита Николаевна Коростелева очень любила свою работу. Больница была даже больше чем ее вторым домом. Это было собственноручно свитое гнездо, которое она любила, лелеяла и оберегала. В эту субботу, как и во многие другие, наша главная сестра приехала на работу, чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке.
Она шла по первому этажу, когда увидела лужу около бухгалтерии. Что за бардак? Кран забыли закрыть в туалете, что ли? Маргарита посмотрела направо, потом посмотрела еще, только внимательнее, а потом уже побежала в направлении лестницы.
Когда мы с Никишей увидели это весеннее половодье, то, поначалу не поняв масштабов бедствия, с любопытством принялись разглядывать, как по послеоперационной палате плывут коробки от лекарств, листы историй болезни и чья-то левая тапочка.
– Ого! – восхитился я. – Прямо как в Венеции! Никиша, тебя когда-нибудь на гондоле катали?
Никишина принялась в ответ хохотать особым смехом женщины, лично знакомой не с одним гондольером.
Но через минуту воды стало по щиколотку, и шутки кончились.
– Так, Ольга, быстро беги и скажи Климкиной, чтобы больных на аппаратах в первый блок перевозили! – забеспокоился я.
Та на хорошей скорости, рассекая волны словно глиссер, умчалась по направлению к ординаторской. Действительно, не хватало еще, чтобы аппараты замкнуло.
А я стал пробираться вперед. Надо бы разуться и подвернуть штаны, да уже поздно. В коридоре у эндоскопии вода доходила почти до сидений привинченных к полу кресел. Когда я свернул в холл, передо мной открылась потрясающая панорама. Таким количеством воды можно оросить все засушливые, пустынные и целинные земли разом. Из распахнутых дверей конференц-зала навстречу ко мне неслись стулья, лавки, столы. Воды здесь было уже по колено. С трудом преодолевая течение, я начал двигаться вперед, но тут боковым зрением отметил какое-то шевеление на лестничном пролете.
Я даже не сразу узнал Маргариту Николаевну, которая, вцепившись в перила, пыталась подняться на второй этаж, а обрушивающиеся сверху потоки воды сбивали ее с ног. Помощь в моем лице пришлась весьма кстати.
– Леша! – видимо, от стресса назвав меня правильно, чуть не плача воскликнула Маргарита. – Что происходит, где же это прорвало?
– Не знаю, но думаю, что где-то рядом! – прокричал я. – Слышите, как шумит?!
Лавируя между проплывающей мебелью и стараясь не отпускать друг друга, мы добрались до дверей конференц-зала. И точно, у дальней стены красиво бил в потолок здоровенный фонтан, придавая всей картине некоторое сходство с Женевским озером.
Тут сзади раздались взволнованные голоса, шум, всплески – это к нам стали прибывать люди, вернее подплывать. Диализная сестра Наташка, обе сестры из послеоперационной палаты, а от нашего отделения – Лариса Анатольевна Климкина и почему-то Никиша. Я был уверен на все сто, что она уже со своим травматологом и тот вдохновенно помогает ей расстаться с честью в очере
Сторінка 18
ной раз. Нет, гляди-ка, вернулась. Вот плохо мы знаем друг друга.– Ничего себе! – произнесла Лариса Анатольевна, держась за косяк, чтобы не унесло течением. – Сейчас же лифты замкнет!
– Сейчас все замкнет! – с апокалиптическим восторгом пообещал я. – И пол обрушится!
Словно в подтверждение моих слов, откуда-то снизу, со стороны лестницы, раздался вопль:
– Да что же это такое, сделайте что-нибудь! У меня больных в диагностике заливает! Воды по колено! Ливень с потолка!
Вопли означали, что вода прорвалась в приемный покой.
Мы быстро распределили роли. Лариса Анатольевна вызвалась звонить дежурному администратору, чтобы тот связался с городом для закрытия больницы. Одна из послеоперационных сестер понеслась успокаивать своих больных, которые уже входили в роль Ихтиандров. А Маргарита Николаевна сказала, что сама побежит во второй цех, где находились все наши технические службы.
– А ты, Лешенька, очень тебя прошу, не уходи, посторожи здесь пока!
И что же я, интересно, буду здесь сторожить? И от кого? Чтобы оставшиеся стулья мародеры не украли?
Со мной за компанию решила остаться Никиша и две медсестры – диализная и послеоперационная.
Прекрасно, вот так и будем тут стоять, пока и правда пол под нами не провалится. Сторож ручья Леша Моторов со своими тремя наядами.
– Девчонки, чешите-ка вы лучше в отделение и залейте, куда только можно воды! – приказал я, входя в роль старшего. – А то когда перекроют, ни умыться нельзя будет, ни в туалет сходить!
И остался один. Только сейчас я почувствовал, как же холодно! Даже ноги перестали двигаться – так их свело. Я взгромоздился на подоконник, разулся и стал ждать. По моим подсчетам, воду должны были перекрыть минут за десять. Пять минут бежать до второго цеха и еще пять минут для решительных действий.
Но время шло, фонтан не ослабевал, а вопли снизу, справа и слева не утихали. Вместо слесарей появилась Никиша, прекрасная, как Биче Сениэль. Она мужественно, по пояс в воде, добралась до меня и уселась рядом. Мы с ней сидели, дрожали, курили и стряхивали пепел в воду. Сегодня наш конференц-зал вполне сгодился бы для сдачи норм ГТО по плаванию.
– А ты знаешь, Никиша, что из всех возможных катастроф самое большое количество жертв всегда при наводнениях? – решив блеснуть эрудицией, поведал я. – Когда разливается Янцзы, бывает, что гибнет по нескольку миллионов китайцев!
Никиша уважительно хмыкнула. Мы бросили свои окурки, проследив, как они меньше чем за секунду наперегонки умчались в сторону лестницы.
Тут в холле опять возникла взволнованная Маргарита Николаевна.
– Ребятки, молодцы, что сидите! – похвалила она нас.
Как будто от нашего сидения была хоть какая-то польза. Я давно заметил, что одно только чье-то присутствие подбадривает сильнее, чем эффективные и грамотные действия.
– Представляете? – поделилась Маргарита со мной и Никишей. – Прибегаю я во второй цех, а там все наши слесаря и электрики пьяные! Совсем!
Чего же не представлять, очень даже хорошо представляю. В нашей стране освобожденного пролетариата гегемон только и делает, что празднует это свое освобождение вот уже почти семьдесят лет.
– Пришлось городскую аварийную службу вызывать, обещали срочно прибыть, все-таки мы больница!
И точно, не успела Маргарита договорить, как фонтан стал на глазах слабеть, чахнуть, пока и вовсе не захирел.
Сразу стало тише.
За считаные минуты уровень воды спал на три четверти. Остальную мы несколько часов вычерпывали ведрами. Маргарита Николаевна, Лариса Анатольевна, обе послеоперационных сестры, я и Никиша. А на первом этаже с шумом и чавканьем работала помпа.
Посреди конференц-зала на мокром стуле сидел больничный слесарь Юра и с любопытством наблюдал за нашей работой. Он был пьян в дугу, курил и периодически заводил долгие разговоры сам с собой.
Когда мы закончили и я пошлепал в отделение отпаиваться горячим чаем, Маргарита Николаевна окликнула меня.
– Леша, ты тогда про свои курсы массажа говорил, – улыбнулась она. – Как будешь дежурить, загляни ко мне в кабинет!
Спустя некоторое время в моей трудовой книжке появилась запись, датированная восемьдесят шестым годом:
За проявленную выдержку, оперативность и самоотверженность при ликвидации последствий аварии объявлена благодарность.
Пару раз кадровики, обнаруживая сей текст, начинали проявлять интерес: что же за авария такая? На это я всегда с укоризной качал головой: “Неужели забыли, какая авария произошла в восемьдесят шестом?” Они сразу виновато потупляли взор, а потом смотрели на меня украдкой с выражением уважения и жалости. Хотя Чернобыльская катастрофа разразилась тремя месяцами позже.
Я не фаталист.
Однако уверен, что любое событие или действие, даже совершенно случайное и ничтожное, может привести к непредсказуемым и грандиозным событиям. О таком полно всего написано, неохота даже повторяться.
Также не считаю себя невезучим. Видел я настоящих неудачников, за ними не угнаться.
Но все же общая тенденция была.
Вот
Сторінка 19
мне шесть лет. Идет в лагере игра “Зарница”. Обе наши пионервожатые вырезают из красной бумаги погоны, а из желтой – звезды, приклеивают звезды к погонам и пришивают во время тихого часа нам на рубахи. В палате я один не сплю, подглядываю – уж очень хочется получить самую большую звезду. Почему-то именно на мне желтая бумага заканчивается, и во всем лагере я – единственный рядовой среди майоров, лейтенантов и капитанов.Приезжает из Италии отец одноклассника Сашки Кузнецова, тот на радостях выносит во двор мешочек с красивой разноцветной жвачкой. Все чинно выстраиваются в очередь, Сашка, шурша пакетиком, с важным видом раздает. И когда остается последний шарик, самый красивый, в виде футбольного мячика, а я единственный, кому еще ничего не досталось от Сашкиных щедрот, он вдруг засовывает этот чудесный мячик себе в рот, смотрит на мою протянутую руку и в недоумении пожимает плечами. Мол, он и сам не знает, как так получилось, и быстренько скрывается в подъезде.
Во втором классе ужас как захотелось гэдээровский автомат, миниатюрную копию “калашникова”, который продавался за четыре рубля на первом этаже нашего дома, в магазине “Тимур”. Три месяца копил деньги, клянчил по двадцать копеек. Накопил, пришел, уже чувствовал тяжесть автомата в руке, а мне говорят: “Последний продали сегодня, мальчик, где же ты раньше был, мы ими целый квартал торговали!” Я не сдался, засунул деньги в варежку, сжал их покрепче в кулаке, сел на метро, добрался до большого “Детского мира”, долго искал, нашел! Радостный, побежал платить. А путь мой пролегал мимо центрального входа.
Там всегда давка была. Одна толпа входила, другая выходила, перемешивая ногами бурую грязь таявшего снега. И только я разглядел впереди кассу и сорвал варежку в счастливом предвкушении, меня кто-то толкнул, я оступился, варежка перевернулась, и все двугривенные высыпались в это болото, которое с довольным чавканьем проглотило мои четыре рубля. Я долго ползал у людей под ногами, шаря окоченевшими руками в холодной густой жиже, пытаясь спасти утонувшие монетки. Меня толкали, ругали, отдавили все пальцы. Я ковырялся там с час, если не больше, но собрал только рубль с мелочью.
Ну и потом – в том же духе. Взять хоть работу в больнице. То на народную дружину от отделения заставят выходить, хулиганов ловить, как самого крайнего, то в дни экзаменов суточных дежурств налепят, то лопатой снег с эстакады поручают зимой сбрасывать, будто я дворник.
Поэтому я нисколько не удивился, когда узнал, что в политике поступления на массажные курсы произошли очень серьезные изменения.
Маргарита Николаевна при мне из своего кабинета позвонила по секретному телефону и вежливо, но с особым нажимом произнесла, что ей для одного мальчика надо получить в этом году путевку. Дальше, по мере разговора, по отрывочным словам и выражению лица главной сестры я понял, что путевка будет, но случилась какая-то лажа.
Действительно, чиновница заверила, что путевку даст, коли сама Маргарита Николаевна хлопочет.
Но добавила:
– Мальчику вашему нужно держать экзамен, который будет проходить через неделю. И почему вы так поздно, уже три месяца как все готовятся!
Оказалось, что больницы и поликлиники стали заваливать все инстанции жалобами на блат при распределении мест на курсах. Было решено количество путевок не ограничивать, давать всем желающим, чтобы те подавились.
Зато ввели жесткий письменный экзамен по анатомии и сократили на треть число мест для студентов. Постановили принимать раз в полгода группу из двадцати человек. И первая двадцатка московских массажистов должна быть сформирована через неделю.
Чиновница уверяла, что рада бы помочь, но результаты экзамена будет проверять специальная комиссия, к которой она лично не имеет никакого отношения.
– Ну что, Сашенька? – с сомнением посмотрела на меня Маргарита. – Успеешь за неделю подготовиться?
– Успею, Маргарита Николаевна! Неделя – большой срок! – бодро ответил я.
Зачем ее расстраивать, что у меня на этой неделе три суточных дежурства.
Я стал штудировать анатомию с рвением чернокожего легкоатлета, переборщившего с допингом. Дошло до того, что практически перестал спать, в том числе и после дежурств. Учил в транспорте, в очередях и даже в лифте. В момент любой паузы на работе, включая перерывы на обед и ужин. Приставал с вопросами к нашим уже подзабывшим институтский курс анатомии врачам, которые, завидев меня, начинали шарахаться в сторону, как от заразного.
Дома я забывал про еду и перекуры. Ночью, когда засыпали домашние, мы с Леной садились на кухне, и она проверяла по учебнику мои познания.
Как бы там ни было, но на пятый день я чувствовал себя полностью готовым.
В воскресенье я приполз с суточного дежурства, наповторялся пройденного так, что у меня разболелась голова. И даже пораньше лег, чтобы завтра со свежими силами сдавать экзамен.
Я проснулся утром в понедельник с температурой тридцать девять, с разламывающейся головой и ватными ногами. Вокруг меня колыхался горячий воздух
Сторінка 20
Первый и самый хреновый день гриппа. В прихожей мне еле удалось одеться, руки не слушались.Не пойти на экзамен нельзя, другого шанса не будет, это точно. Хватит быть мальчиком, у которого высыпались деньги из варежки.
Не помню, как доехал из Тушина до Беляева, как потом ехал на троллейбусе, как шел пешком.
Помню лишь, когда я вошел в училище и свернул к аудитории, то поразился, какая здесь толпа. И впрямь дали путевки всем желающим. Они стояли и заламывали в волнении руки. Права Томка Царькова – аферисты, наглые рожи! Три месяца зубрят, приезжают здоровенькие и еще переживают. А мне хуже, чем Павке Корчагину в тифозном бараке!
С час нас мариновали, потом объявили, что абитуриентов очень много, поэтому экзамен будет проходить в несколько этапов, согласно спискам и расписанию. А результаты будут вывешены здесь же в следующий вторник.
С трудом – все двоилось перед глазами – я нашел себя в списках. Моя группа приступала к экзамену в шесть вечера. Это означало, что надо где-то перекантоваться часов этак восемь.
Смутно помню, чем я тогда занимался, кажется, сначала спал, сидя на подоконнике, потом вроде выполз на улицу, несколько раз пил воду из крана в туалете. В холле продолжала шуметь толпа абитуриентов, обсуждая текущий экзамен и вопросы, что достались выходившим. Я и не пытался вслушиваться, так плохо соображал. Вдобавок с голодухи стала ныть язва, но у меня не было ни сил, ни денег пойти куда-то поесть. О том, чтобы ехать домой, даже думать не хотелось. Я бы не вернулся.
Наконец нас запустили, раздали вопросники. С превеликим трудом я силился вникнуть в написанное и с еще большим трудом вписывал ответ в тестовое окошко. Помню только, что сдал листочек и вышел первым. Казалось, еще три минуты – и я прямо за столом окочурюсь. В коридоре еще толкались абитуриенты, кто-то из них о чем-то стал спрашивать, но быстро отстал.
Только получив свое пальтишко в гардеробе, я обратил внимание, что списки кончались цифрой триста шестьдесят. Нехило. Восемнадцать человек на место. Почти как в МГИМО.
Шесть дней я болел от души. На седьмой выздоровел и пошел на сутки.
Был понедельник, значит, завтра будет вынесен вердикт. Честно говоря, я слабо верил в счастливый исход.
Видя, как я маюсь, наш врач-лаборант Фингер предложила:
– Лешка, у меня в этом училище работает хорошая знакомая. Ну хочешь, я ей позвоню после обеда? Наверняка твоя оценка уже известна.
– Конечно хочу, Людмила Геннадьевна, сделайте доброе дело! – воскликнул я.
Кому охота тащиться после суток в Коньково, да еще заранее представляя негативный результат…
Было около пяти, я проносился по коридору, когда на тумбочке около пультовой зазвонил телефон.
– Реанимация слушает! – засевшим в кровь паролем выпалил я.
– Будьте добры Людмилу Геннадьевну! – отозвался телефон приятным женским голосом.
Я почувствовал, как у меня началась бешеная тахикардия. И, с трудом переведя дыхание, максимально спокойным голосом наврал:
– Людмила Геннадьевна отошла в другой корпус, могу ли я ей что-нибудь передать?
– Да, передайте, пожалуйста, что все в порядке. Ее мальчик поступил!
– Огромное вам спасибо! – завопил я.
Теперь вдобавок и в голове застучало.
– Да пожалуйста! – удивленно ответил голос. – Вы только передать не забудьте!
– Передам, обязательно передам! – Мои заверения звучали искренне. – Еще раз спасибо!
Я издал победный клич, лихо прищелкнул пальцами и, опустившись на колено, послал воздушный поцелуй Тане Богданкиной, которая вышла на шум.
Та, выразительно покрутив пальцем у виска, снова скрылась в блоке.
Когда на первом занятии нам раздали экзаменационные работы, у меня на пятьдесят ответов оказалась одна ошибка. Абсолютно дурацкая.
Моя жизнь в кино, “еврейская рожа” и магия числа 7
Многие только тем и занимаются, что всю жизнь ноют. И детство, видите ли, у них было обделенное лишь потому, что бумажные погоны не те пришили, да игрушечный автомат купить не удалось, и юность полна лишений по той причине, что институт не сразу свои двери распахнул. И зрелость убогая, без общественного признания – из-за того, что всего-то пару раз, причем по-человечески, попросили побросать лопатой снежок с эстакады. Ходят, стонут, на всех разобиженные, можно подумать – самые бедные-несчастные.
Слава богу, я не такой. Нет, конечно, и у меня не все гладко, но покажите человека, у которого жизненный путь ровный и блестящий, как серебряное блюдо. Не найдете.
А мне грех жаловаться.
Пойдем с раннего детства. Пока все мои сверстники сидели за заборами в своих коклюшечных детских садах и там над ними измывались полуграмотные няньки и воспитательницы, я жил как у Христа за пазухой на нашей фамильной даче – с бабушкой, в компании своих двоюродных сестры и брата. Нас там не шпыняли, не гоняли, не докучали воспитанием. Да можно сказать, вообще не воспитывали.
Только обучали самым необходимым вещам. Молиться Богу, чистить зубы, читать, играть в шахматы, жевать жвачку, держать правильно ложку, лепить сн
Сторінка 21
жную бабу, говорить слово “сволочь” с миллионом интонаций, ловить блох у кошки, играть на гитаре, поливать огород из лейки, петь хором, зажигать спички, слушать Вертинского и опять молиться, только уже на ночь.А когда я все это постиг, уже было не страшно вытолкать меня в самостоятельную жизнь. И конечно, я там не пропал.
Первый раз на сцену с гитарой я вышел в пять лет. А в шесть, в пионерлагере, мое выступление произвело настоящий фурор, что позволило мне сразу стать знаменитостью даже среди старших отрядов.
В третьем классе я получил свою первую, но, правда, предпоследнюю почетную грамоту, в четвертом победил в школьном конкурсе политического рисунка, разоблачавшем хунту генерала Пиночета. В пятом классе выиграл районную историческую олимпиаду, в шестом – географическую. В седьмом занял первое место в общешкольной викторине “Знаешь ли ты биографию В. И. Ленина?”, и в том же году одна девочка в пионерлагере “Березка” пригласила меня на белый танец.
А с восьмого класса, когда я начал ездить в другой лагерь – под названием “Дружба”, так там вообще началась сплошная полоса счастья.
И после школы – пусть некоторые говорят, что в институт не поступил, да к тому же слишком рано женился, зато жена красавица и сынок Рома хороший и смешной, белая голова. А что работа тяжелая – так я это сам выбрал, зато при деле состою и человек в нашем отделении не самый последний. Не случайно изо всей кучи народа меня практически одного отобрали, чтобы в кино снимать.
Самое интересное, что я здесь не дебютант зеленый, у которого поджилки трясутся, а человек искушенный, познавший, так сказать, тернистый путь в мир киногрез.
Впервые я попал на экран, когда переходил в третий класс. Тогда в пионерский лагерь “Орленок” прикатил целый автобус с киношниками. Два дня они отбирали по всем отрядам детей, а потом приступили к съемкам.
По их замыслу я, вооружившись духовушкой, должен был бежать по футбольному полю наперегонки с другим мальчиком из нашего отряда, Вовкой Булеевым. Нам объяснили задачу: во весь опор нестись с ружьями наперевес до поворота, который заботливо обозначили красным флажком. Там повернуть, не сбавляя темпа, вернуться к исходной точке и только тут остановиться.
Я сразу смекнул, что могу попасть в историю. И опозориться просто не имею права. Поэтому когда киношники наладили камеру, свет и кто-то заорал в мегафон: “Мотор!”, а наш вожатый Слава Сердечкин завопил: “Побежали!”, я рванул с места так, что только пятки сверкали. Не хватало еще, чтобы все увидели, как меня обгонит Вовка!
Напрасно я беспокоился. Булеев отстал сразу, а на повороте он поскользнулся и шлепнулся на землю, как дурак, вдобавок ко всему выронив ружье. Правда, я этого не видел, мне потом ребята рассказали. Я, пока бежал, только перед собой смотрел.
Режиссер нас похвалил, а Вовка Булеев до конца смены со мной не разговаривал. Как будто я виноват, что он бегать не умеет.
На следующий год, когда меня снова отправили в “Орленок”, в клубе нам всем показали снятый фильм. Оказалось, это такое документальное кино о том, как хорошо детям живется в разных пионерских лагерях Подмосковья. Наш “Орленок” показывали минуты две. А сцену с моим участием – так вообще прокрутили за пять секунд.
Я бегу с винтовкой, подбегаю к столу, кладу винтовку и снимаю противогаз. Забыл сказать, что я там почти весь эпизод в противогазе. Не потому, что отличаюсь каким-нибудь необычайным уродством, нет, у меня все как у всех. Просто мы изображали игру “Зарницу”, которая, кстати, тогда была неделей раньше. Так что мое лицо показывали и вовсе полторы секунды.
Но мой друг Миша Кукушкин меня узнал. И еще одна девочка из отряда. И Вова Булеев тоже узнал. И опять со мной разговаривать перестал. Его даже не показали, вырезали, как потом объяснили знающие люди.
Прошло семь лет, и советский кинематограф проявил ко мне интерес во второй раз. Как ни странно, тогда я тоже был в пионерском лагере. Нашей “Дружбе” исполнялось двадцать лет, и под это дело завхоз Лев Маркович Генкин предложил снять фильм к юбилею и договорился с кинофотоотделом института, откуда приехал мужик с камерой – оператор и режиссер в одном лице.
Киноотдел медицинского института в основном только тем и занимался, что снимал разные учебные фильмы для студентов. Например, как правильно производить вскрытие, ампутацию или кесарево сечение. Вот почему этот мастер жесткого реализма поначалу растерялся, не зная, что ему делать с полутора сотнями живых и здоровых пионеров. Но за пару дней, проведенных на природе, он освоился и начал потихоньку снимать. Именно потихоньку, так как его практически не было видно. И уж тем более он не орал такие слова, как “Камера!” или “Мотор!”.
День примерно на пятый, после того как были отсняты футбол и танцы в столовой, он зашел к нам, музыкантам ансамбля, на репетицию в клуб и, смущаясь, поведал свою горестную историю, которая мне чем-то напомнила сказку Аксакова “Аленький цветочек”.
Оказалось, что у него две дочери. Старшая – вполне обычная, в и
Сторінка 22
ституте учится, все с ней нормально, ни забот ни хлопот. А младшая всю дорогу что-нибудь придумывает, фантазирует, и желания-то у нее какие-то необыкновенные. Вот, к примеру, в сентябре ей исполнится шестнадцать, тут бы попросить в подарок что-нибудь реальное, что хотят все нормальные девушки. Наряд какой-нибудь, джинсы там, сапоги, пальто. Так нет, придумала, чтобы ей нашли песню, и не просто нашли, а записали. Потому как ни на одной пластинке ее нет, уже проверено. А песню она услышала в прошлом году, когда они всем семейством ехали на юг и кто-то невидимый в соседнем купе пел ее под гитару. И кроме той песни ничего не хочет. А где ее взять, бедный работник учебной киностудии понятия не имеет. Да и слов-то толком, включая саму младшую дочь, никто не знает. Кроме двух строчек:Я хочу целовать песок,
По которому ты ходила.
Тут мы все заржали, как по команде. И, отсмеявшись, объяснили причину смеха удивленному режиссеру-оператору. Это был прошлогодний лагерный хит, от которого всех уже тошнило. В нынешнем сезоне его, слава богу, не исполняли за отсутствием подходящих солистов.
Посовещавшись, мы практически насильно затащили в клуб первую попавшуюся пионерку старшего отряда Светку Антипову, попутно пообещав ей славу Розы Рымбаевой.
– Светка, – сказали мы ей, – ты всю дорогу себе под нос что-то напеваешь, сделай то же самое, только в микрофон!
По окончании короткой репетиции счастливый отец снял данный шедевр на камеру. Предупредил, правда, что на экран песня не попадет, не пионерского она формата, начальство не пропустит.
– Дочке вот только покажу, – говорит, – порадую, а то целый год как неприкаянная!
Никто, разумеется, возражать не стал.
А через два дня, когда мы шли курить на наше секретное место, он подошел, посмотрел на всех внимательно и почему-то обратился ко мне:
– Хочешь, парень, в эпизоде тебя сниму? У меня по сюжету пацан маленький в лесу заблудился, вот ты его как будто и найдешь! Соглашайся, роль геройская!
Я, конечно, согласился, дураков нет отказываться, тем более когда роль геройскую предлагают.
Оператор тогда попросил нас сделать факелы и раздобыть для них бензина, потому что по сценарию в этом эпизоде должна быть ночь. Факелы мы быстренько соорудили из палок и старых консервных банок. А солярку слили у трактора, который уже неделю стоял у главных ворот, его, видимо, колхозники по пьянке потеряли.
Съемки заняли две минуты, и мы пошли по своим делам, куда собирались ранее, то есть на перекур.
Премьера состоялась через несколько месяцев, во время профсоюзной конференции Первого медицинского института. Весь наш ансамбль к началу опоздал, ждали, как всегда, басиста Вову, пока он час прихорашивался. Когда наконец удалось пробраться в зал, оказалось, что фильм начался, уже показывали эпизод с футболом, где сборной пионеров противостояла парткомовская комиссия во главе с ректором. И когда я плюхнулся на свободное сиденье, на экране ректор института Владимир Иванович Петров как раз лихо пнул по мячу лакированным ботинком.
Мы, конечно, ржали, шумели всякий раз, когда видели знакомые лица, сказать по правде, они все были знакомы. На нас стали оборачиваться и шикать профсоюзные делегаты, видимо, смех сбивал их с делового настроя. Как вдруг…
Как вдруг показали сцену в клубе, нас на этой сцене и то наше выступление по просьбе оператора.
Режет ливень наискосок,
Рыжий берег с полоской ила.
Я хочу целовать песок,
По которому ты ходила…
Исполнение было ужасным, Светка совсем не умела петь в микрофон, неимоверно фальшивила, а мы, все скопом, были похожи на полных дурачков! Почему эта песня попала в фильм, непонятно. Видимо, благодарный, выполнивший дочкин наказ оператор отстоял ее перед начальством.
Фильм шел еще минут десять, я подивился, как в том эпизоде, где нахожу паренька, получилась такая темная ночь и густой лес, хотя снимали перед полдником около нового корпуса. Искусство творит чудеса.
И вот снова минуло семь лет, и я в третий раз понадобился нашей киноиндустрии. Только завершилось мое феерическое поступление на массажные курсы, до начала занятий оставалось около двух недель. Был февральский вечер, уже давно стемнело, когда я добрался до квартиры в Тушине.
Дверь открыла Лена и с порога сообщила, что несколько часов назад меня дважды разыскивала Тамара Автандиловна с работы, которая потребовала, чтобы я с утра был в отделении.
Я очень удивился, завтра был выходной, хотя, сказать по правде, у нас предполагалась процедура оповещения на случай катаклизмов, войны и прочего. Но, как пояснила Лена, дело тут совсем не в войне, а в том, что я снимаюсь в главной роли в фильме про любовь. И первые съемки – завтра. По всему было видно, что она до сих пор под впечатлением от разговора с Томой Царьковой. Ну еще бы!
– Здрасьте, мне Лешу Моторова! Как нет дома, а где, интересно, он шатается? Понятненько, значит, спать после дежурства он не хочет, аферист! Так, девочка, ты кто, Лешкина жена? Как тебя зовут? Лена? А меня Тамара Автандило
Сторінка 23
на, я у твоего Лешки начальник. В общем, передай ему, чтобы он завтра к девяти, постиранный, наглаженный, был на работе! Я договорилась, он будет сниматься в главной роли в фильме про любовь! Пусть мне деньги за это платит, наглая рожа! Ну все, пока!Минут через двадцать она перезвонила:
– Что, не пришел до сих пор? Вот придет, спроси его, скотину, где шлялся! Интересно, что он тебе наплетет? Да, чуть не забыла, пусть побреется, а то вечно ходит как чучело!
Я попытался дозвониться до Царьковой, но это был дохлый номер. Все знали, что, если ей звонить после восьми, в лучшем случае не подойдет, в худшем – облает.
– Кто мне вечером позвонит, тот мой враг номер один! – так обычно заявляла Тамарка. Она очень рано ложилась спать, чтобы явиться на работу к шести.
Без четверти девять я был в отделении. На полу “шокового” зала стояла здоровая камера, горели прожектора, а в гараже перекуривала съемочная бригада. Они-то все и объяснили, попутно одобрив мою кандидатуру.
Фильм назывался “Мгновения вечности” и был не про любовь, а про жизнь и смерть. И не художественный, а документальный. В нашем отделении они собирались отснять моменты, когда человек оказывается между этих двух основных систем координат.
Им очень нужно было показать момент реанимации или, на худой конец, как больного в критическом состоянии доставляют с улицы.
– У нас командировка на две недели. Нам сказали, что у вас веселее, чем в Склифосовского. За две недели отснимем?
– У вас к ужину пленка кончится! – заверил я киношников и пошел ловить Царькову.
Пятиминутка, судя по шуму голосов, закончилась.
– Слушай, аферист, откуда я знала, что фильм не про любовь? Сам же говоришь, какое там у них название? “Мгновения вечности”? Вот! Конечно, я сразу подумала, что так только про любовь назвать могут. Да сам ты дубина! Еврейская рожа!
Надо сказать, чем теснее становились мои отношения с Тамаркой, тем больше мы с ней ругались, причем оба от этой ругани получали большое удовольствие.
В такие минуты Царькова, давно распознавшая наметанным глазом генный материал, оставленный дедом Яковом, называла меня уже не “наглая”, а “еврейская рожа”, подчеркивая мою индивидуальность. А я, чтобы не отставать, говорил ей, что она абхазская дубина. Тамарке ее новое прозвище даже нравилось.
Как-то она шла по коридору и вопила, по обыкновению:
– Где ты, Моторов? Ну только попадись мне, дубина!
Потом остановилась и задумчиво сказала обступившим ее сотрудникам:
– Что-то я запуталась, это же я дубина, а он – рожа!
Однажды она с этой “рожей” чуть не допрыгалась.
Заместителем главного врача по хирургии у нас работал невероятно важный мужик по фамилии Френкель. Раньше он занимал большой врачебный пост в обществе “Спартак” и к нам был переведен, видимо, с понижением. Он не любил подолгу говорить с нашими врачами, те его подавляли своей эрудицией.
Вот, к примеру, подходит он к Татьяне Александровне Жуковской и задает невинный вопрос о том, что обнаружилось на вскрытии у недавно умершего больного с панкреонекрозом. Почему бы не сказать бывшему спортивному врачу, что на вскрытии диагноз некроза железы подтвердился, а причина смерти обусловлена сердечно-сосудистой недостаточностью, и дело с концом.
Ну уж дудки! Татьяна Александровна начинает употреблять всякие слова, типа: полный аутолиз, колликвационный некроз, энзимная агрессия, ателектаз, баллонная дистрофия, секвестрация, дистресс-синдром. И так полчаса.
Вот почему Френкель стал совершать обход в нашем отделении рано, в начале восьмого. Тогда заканчивающие суточное дежурство врачи не столь красноречивы.
В тот раз во втором блоке находился только я, доктор Мазурок еще спал, пришлось самому коротко, по-солдатски, отрапортовать без лишнего выпендрежа, сколько за сутки поступило больных хирургического профиля, какие оперативные вмешательства проведены и каково послеоперационное течение.
Френкель, весьма довольный моим докладом, пошел к первому блоку, а я тем временем решил сбегать одолжить там же простыней.
И только я неслышно пристроился за могучей френкелевской спиной, как тут из своего кабинета нарисовалась Тамарка. Она встала посреди коридора, уперев руки в боки, поза ее не предвещала ничего хорошего.
Завидев ее, Френкель кивнул. Та небрежно кивнула в ответ и, заметив мою голову из-за его плеча, истошно заголосила:
– Вот только в коридоре тебя и вижу, аферист! Чем просто так здесь мотыляться, еврейская рожа, занялся бы в кои-то веки делом!!!
И, стремительно повернувшись, скрылась в кабинете, мощно саданув дверью.
Френкель остановился. Вернее, остолбенел. Я уже говорил, что он был очень важный. Но тут он растерялся.
Я бесшумно юркнул во вторую дверь блока, а сам украдкой, в щелочку, стал подсматривать. Френкель медленно обернулся. И естественно, никого не увидел. Тогда он застыл в глубокой задумчивости. Сделал несколько шагов вперед. Потом опять остановился. Я понял, что он размышляет, идти ли ему разбираться или нет.
Постояв так с минуту, Френк
Сторінка 24
ль решительными шагами направился в холл, откуда был выход на лестницу и на первый этаж.Вскоре он уволился из больницы и, как рассказывали, уехал в Израиль. Не исключаю, что последней каплей, которая довела его до эмиграции, были слова Тамары Царьковой.
Тогда, кстати, я сразу поведал Томке о комедии положений, в очередной раз обозвав ее дубиной, но Царькова лишь отмахнулась.
– Ты уж совсем его за дурака принимаешь, скотина! А то он не знает, кому я так могу сказать. Пошли лучше покурим!
Киностудия “Киевнаучфильм”, приехавшая на съемки, была мной горячо любима и уважаема. Помимо захватывающих неигровых фильмов, эти киевляне снимали потрясающие мультфильмы про Алису, капитана Врунгеля и доктора Айболита.
Нас попросили, когда наступит подходящий момент, вести себя естественно, не тушеваться, не замирать, забыть про камеру, просто делать свое дело.
Вот чего у меня не было, так это скованности. Наоборот, я чувствовал в себе полную свободу и непринужденность, которая и отличает настоящую кинозвезду от простого смертного.
– Томка, а почему я снимаюсь, что у нас, народу мало? – спросил я Царькову, когда она налепила мне чудовищное количество суточных дежурств на эти две недели съемок.
– Ты чего, Леха! Я что, по-твоему, Караеву должна была поставить? Ее же за каталкой не видно! Или, может, Мартынову? Да она своей жопой полэкрана загородит! Ты же знаешь, у нас кто умеет работать, у того ни кожи ни рожи! Без слез не взглянешь! А те, кто еще ничего, совсем безрукие, они и так не умеют ни черта, а перед камерой и подавно!
Интересно, а я в какую категорию у Томки вхожу? Видимо, в промежуточную.
– Ну а ты сама, Тамарка, – все не унимался я, – ты-то почему не хочешь стать звездой, этот фильм потом миллионы увидят!
– Нет уж, Лешечка, – серьезно сказала Тамара, – если меня снимать начнут, я прямо там же со страху обделаюсь!
Но в следующий раз я заметил, что она пришла по-особому нарядная и накрашенная.
А я ходил в идеально отглаженном халате, ни морщинки, ни складочки. Мне даже садиться не разрешали. Это чтобы на экран попасть человеком и не опозорить родное отделение. В сестринской в те дни наготове стоял утюг, и если где-нибудь мой халат заминался, его срочно переглаживали. А через пару дней кто-то додумался в “шок” повесить на плечики еще один – запасной.
Роли мы распределили так. Когда поступит больной, в предбаннике нужно быстро срезать ему одежду и моментально перетащить на койку в “шок”. А там – по ситуации. Если пойдет настоящая реанимация, я начну качать, а кто-то из докторов при необходимости дефибриллировать. Подключичку доверили мне как большому специалисту, а интубировать – доктору, но так как на всю страну показывать, что медбрат катетеризирует центральную вену, нельзя, решено было допустить до съемок еще одну сестру, а меня выдать непонятно за кого. За какого-то боевого фельдшера. Сестра в этот момент подойдет и вставит кончик уже заряженной капельницы в канюлю катетера, попутно закрепив его.
Вот на эту роль назначили Тамару Царькову. Заодно ей доверялась процедура измерения давления. А мне надлежало присоединить больного к монитору и закрепить интубационную трубку. Потом врач приступит к аускультации. В общем, на экране все должно было получиться максимально натуралистично и вместе с тем впечатляюще.
Осталось дождаться подходящего пациента.
Те, кто работал в настоящей реанимации, знают главную прелесть этого отделения. Никогда не известно, что случится в следующую минуту.
Понятно, что и в реальной жизни тоже никто не представляет, что ожидает нас в ближайшем будущем. Но когда ты работаешь в таком месте, где сходятся несчастья, произошедшие в огромном секторе гигантского города, уж точно ничего нельзя ни спланировать, ни предугадать, а готовиться всегда нужно к худшему.
Таких двух недель, как те, что провели у нас киношники, не было никогда, ни до, ни после, ни одного поступления с улицы. Ни одного вызова на этаж. И это в открытой для поступлений больнице “скорой помощи”, да еще зимой!
Киношники маялись, снимать рутинные поступления больных из операционной им было не с руки, а других вариантов не имелось. Они стали жить в больнице, в помещении операционной напротив “шока”, куда им принесли матрасы, чтобы они могли снять поступление ночью или рано утром. Но и ночи были – сплошная тоска.
Дошло до того, что Суходольская позвонила на центральный диспетчерский пульт “скорой” и попросила больных в критическом состоянии везти только в реанимацию Семерки. “Передайте вашим бригадам, что примем всех, даже трупы!” – заверила Лидия Васильевна.
Никакого эффекта.
Я одурел от безделья, целые сутки напролет играл с киевлянами в кости, травил байки, а они научили меня петь нескладухи.
Из-за леса выезжала
Паровозная труба.
Здравствуйте, товарищ Сталин!
Я щекотки не боюсь.
Или:
В Ленинграде дождь идет,
А в Одессе сухо.
Здравствуй, милая моя,
Бабах с пистолета.
А вот еще:
Шел по лесу колобок,
Красной армии боец.
Сторінка 25
Ну и пусть себе идет,
Может, там его гнездо!
А поступлений так и не было, и камера в “шоковом” зале ржавела без дела. Все только и делали, что обсуждали невиданную паузу в работе, а Кимыч, лежа на диване, с важным видом рассказывал, что похожее было в Олимпиаду, но это и без него знали.
Только я догадывался о причине такого странного затишья, но никому не говорил. Просто в нашем подвале заснул Минотавр.
Ну а жизнь шла своим чередом. Необъяснимая ситуация с отсутствием поступлений продолжалась. Конечно, это привело к полному срыву графика съемок. Киношники в последний съемочный день, отчаявшись запечатлеть что-либо путное при участии людей, засняли кучу реанимационной аппаратуры и записали ее звуки. Вечером они ткнули мне под нос ведомость, по которой я получал ни много ни мало девятнадцать рублей сорок копеек. Видимо, это такой тариф для несостоявшихся исполнителей главных ролей.
– Ничего, – утешали они меня, выдавая деньги, – в следующий раз повезет, снимешься!
– Ничего, – утешал я съемочную группу, закрывая за ними ворота гаража и провожая их в ночь, – приезжайте еще, в следующий раз обязательно кто-нибудь поступит!
Поезд на Киев отходил в начале пятого.
Закрыв ворота, я направился в буфет вскипятить чайник. И пока брел по коридору притихшего отделения, принялся неторопливо рассуждать о том, что если учитывать странную семилетнюю цикличность моего участия в кино, можно предположить, что следующим выходом под софиты будет девяносто третий год.
Мне нравилось подчиняться магии числа семь.
Забегая вперед, скажу, что именно так и случилось. В девяносто третьем я попал в документальный фильм “Дом с рыцарями”, снятый признанным мастером неигрового кино Мариной Голдовской. Он даже получил приз как лучший документальный фильм Европы. А я и не знаю, показали меня там или нет. Но это было уже в совсем другой моей жизни.
А сейчас не успел я дойти до буфета, как раздался резкий и требовательный звонок с эстакады.
“Наверное, киношники вернулись, забыли что-то”, – подумал я и побежал открывать.
Это были не киношники. Это прилетела “скорая”. До пересменки мы приняли еще три поступления с улицы.
Минотавр вышел из спячки и стал лютовать. За несколько дней к нам привезли какое-то несметное количество больных. Никто не отдыхал, не болтал, не перекуривал. А в блоках в одну из этих ночей умерли двое наших пациентов. Собственно, в любой реанимации всегда умирают люди, но эти смерти были из разряда тех, что запоминаются надолго.
Первым был пожилой мужчина с сепсисом, у которого после ампутации голени началась пневмония, а дальше пошло-поехало. Он находился у нас не меньше месяца, и у всех остался в памяти даже не он, а его жена. Кажется, весь тот месяц, пока он у нас лежал, эта женщина провела в холле у дверей отделения. Такое впечатление, что она не ела, не спала и жила от передачи до передачи.
За месяц он то улучшался, то снова тяжелел. Иногда нам казалось, что все, мы его вытащили. Но на следующий день он уходил у нас на глазах. Ему устраивали всякие новомодные процедуры, такие как гемосорбция и плазмаферез. Он стал одним из тех, кому я сдавал свою кровь по дежурству.
Той ночью он устал бороться. Получасовая реанимация к успеху не привела.
А под утро встала та девочка, из третьего блока.
Чернильный штамп
С этой девочкой случилась поразительная по своей нелепости история. Настолько абсурдная и несправедливая, что если б кто рассказал, я б не поверил.
Ей было всего девятнадцать, и жила она в маленьком украинском городке. У нее был врожденный порок сердца, кажется, стеноз аорты, вполне компенсированный, с таким можно было жить, лишь немного ограничивая нагрузки. Но она приняла решение и сама настояла на операции, приехав в Москву вместе с матерью. Ей хотелось стать как все, безо всяких ограничений.
Операцию назначили на пятницу. Там все прошло по плану, сделали чистенько, да и первые сутки в реанимации протекали весьма гладко, но Суходольская, которая обычно при каждой возможности переводила больных в профильные отделения, почему-то решила подержать девочку до понедельника у нас.
– Слабенькая она какая-то, – объяснила в субботу утром свое странное решение заведующая, – да и моча темновата…
– Гемолиз, похоже! – пошутил Орликов. – Небось кардиохирурги иногруппное переливание устроили!
– Типун тебе на язык, Андрюшка! – замахала на него Лидия Васильевна. – Скажешь тоже!
И начала докладывать следующего больного. Она сдавала смену во втором блоке и уходила домой. А Орликова слушать не стала, ну и правильно. Все к тому времени привыкли к его циничному юмору.
Девочка была очень красивая, наверное, самая красивая из всех, кто прошел через отделение за то время, что я здесь работаю. Честно говоря, я и не смотрел никогда на наших больных под этим углом – красивые, некрасивые… Да и какая может быть красота, когда в реанимации люди в таком состоянии, что неподготовленному лучше не показывать. Но эту можно было снимать хоть на обложку журнала “Со
Сторінка 26
етский экран”.Она и правда была немного вялая, но в полном сознании, разговаривала, про себя рассказывала. Согласитесь, после такой операции быть бодрой и готовой к труду и обороне как-то странно. Некоторые от банальной простуды две недели в себя приходят, ноют. Так что перемудрила наша начальница, не иначе. Но уж лучше пусть такая красавица полежит на этой койке пару дней, чем очередной алкаш из-под очередной электрички.
В понедельник с утра ее перевели в отделение кардиохирургии, а там решили перелить немного крови, гемоглобин был низковат. Лечащий врач заказал пол-литра третьей группы, той же, что переливали во время операции, тогда, правда, прокапали в три раза больше. Во время операций на сердце это обычная практика.
Но на тарелке обе банки показали плохую индивидуальную совместимость. Тогда доктор не поленился и побежал ругаться в отделение переливания крови, которое располагалось в отдельном корпусе.
Он явился туда с двумя банками, историей болезни и начал с порога качать права:
– Что вы нам кровь какую-то отправляете непонятную! Одну банку совместили – не совмещается, вторую начали совмещать – та же история! Дайте нормальной крови, у меня больная после серьезной операции, а гемоглобин низкий!
Сотрудники отделения переливания, все как на подбор немолодые и спокойные женщины, обступили его и весьма подивились ситуации, когда кровь от двух доноров не совмещается с кровью пациента.
– Подождите, доктор, не шумите. Как фамилия больной, какое отделение? – спросили они хирурга.
– Фамилия ее Синицына, восемнадцатое отделение, кровь третья плюс! – ответил доктор.
Тогда они зашуршали журналами и через пару минут радостно объявили:
– Ну все понятно, доктор! У вашей Синицыной не третья, а вторая группа! Берите ей вторую, отдавайте нашу третью, и дело с концом!
– Да что вы мне такое говорите! – возмутился тот. – Какая вторая, вот же у меня история болезни в руках, вот ваш анализ приклеен, там ясно написано – третья группа, резус положительный! Мы и во время операции пять банок третьей плюс ей перелили!!!
И в подтверждение своих слов он раскрыл историю болезни, где среди вороха других анализов был подклеен желтый бланк группы крови и резус-фактора. Третья группа, резус положительный – значилось на штампе. И пять этикеток третьей группы от пяти банок, наклеенных на протокол гемотрансфузии.
Заведующая отделением переливания крови медленно и мягко приняла у него из рук историю болезни, присела за стол и раздвинула кипу бумажек, наклеенных поверх анализа группы крови. Она внимательно прочитала заключение, вырвала бланк из карточки и протянула кардиохирургу.
На бланке с большим фиолетовым штампом, удостоверяющим, что кровь третьей группы, положительного резуса, в графе Ф.И.О. значилось совсем другое имя и другая фамилия. Ей приклеили чужой анализ.
– Сколько лет вашей пациентке? – спросила заведующая у побелевшего хирурга.
– Девятнадцать! – прошептал тот.
Кто-то, не стесняясь, заплакал в голос.
У нее просто не было шанса выжить. Ни единого. И все это хорошо понимали. Иногруппное переливание я уже видел. Помню, тремя годами раньше, во время операции один лапоть-анестезиолог перелил женщине вместо первой группы вторую. Как банка второй группы попала в операционную, никто так и не понял, включая анестезиолога. Но там, едва успела откапать четверть банки, больная выдала реакцию прямо “на игле”. Давление упало по нулям, она вся посинела, начался страшный озноб. Женщину отправили к нам, две недели мы ее “размывали”, то есть выводили из кровеносного русла мельчайшие сгустки склеенных между собой разрушенных эритроцитов. Она выжила и выписалась.
Но здесь был не тот случай. Почти полтора литра, что перелили этой девочке, вполне способны отправить на тот свет два десятка человек.
Почему реакция произошла не сразу, в момент переливания, толком объяснить никто не мог, видимо, была какая-то частичная совместимость. Ухудшение началось резко, часа через два после того, как обнаружилась ошибка с анализом. К тому времени ее уже спустили в реанимацию, где спешно развернули законсервированный третий блок. К вечеру она перестала дышать сама и загремела на аппарат. На следующий день стали отказывать почки.
При переливании крови другой группы происходит массовое разрушение эритроцитов, такая кровь перестает переносить кислород к тканям, кроме того, происходит слипание форменных элементов, и эти сгустки забивают мельчайшие капилляры организма, а самое главное – капиллярную сеть почек и легких, которые перестают работать первыми.
Она уходила с каждым днем. К ее койке была прикреплена индивидуальная бригада, лучшие сотрудники, самая современная аппаратура. И это только оттягивало неизбежный финал. А еще все понимали, что два человека запросто могут пойти в тюрьму: лечащий врач, который заказал кровь в операционную, и анестезиолог, кровь переливший. Их подписи стояли под протоколом гемотрансфузии. На них страшно было смотреть, так они осунулись и постарели.
Врачи идут под
Сторінка 27
уд за три вещи. Наркотики, криминальный аборт и переливание крови другой группы. А здесь в истории болезни имелись все доказательства. Достаточно было, чтобы родители девочки написали заявление в прокуратуру.Ничего не понимающая мать ходила по больнице, спрашивала, почему ее дочку опять отправили на второй этаж. Совсем простой женщине отвечали что-то односложное и отводили глаза.
А я во время перекуров говорил о том, что всякий раз, когда мне нужно было узнать группу крови пациента, смотрел на штамп, который ставился большой фиолетовой кляксой внизу заключения. Не на фамилию и имя, а на штамп. И почти все со мной соглашались.
Когда она остановилась, реанимация продолжалась больше часа. Такую реанимацию не помнили даже старожилы. Нами двигала не надежда, а отчаяние. Когда отказывает большинство органов, реанимация не имеет смысла. Но смириться с тем, что такая молодая и красивая девочка умирает из-за глупой ошибки с бумажкой, мы не могли.
Хорошо, третий блок после генеральной уборки снова закрыли. Смотреть на эту пустую койку было непросто.
Обращаться в прокуратуру родственники не стали, в самой больнице постарались спустить все на тормозах, но этих двоих, анестезиолога и хирурга, та ситуация сломала. Хирург, молодой еще мужик, стал безудержно спиваться. Анестезиолог, очень веселый человек, быстро уволился из больницы и до самого увольнения больше ни с кем не шутил.
* * *
Любой массаж должен начинаться с поглаживаний и ими же заканчиваться. Говорю для тех, кто не знает. А я уже не только про поглаживания, но и про многое другое имею понятие. Хотя после наших больных в реанимации научиться понимать, что кто-то может страдать от такой ерунды, как невралгия или мигрень, невероятно трудно.
Занятия вел молодой спокойный мужик по фамилии Пугачев, от которого все девицы на курсе приходили в состояние сильного волнения. Из нашей двадцатки две трети студентов уже работали массажистами, а остальные так же, как и я, только делали первые шаги в этой науке мануального воздействия на организм человека.
Народ подобрался необычайно душевный, а я сразу обзавелся парочкой приятелей, с которыми коротал время перекуров. Первый оказался моим старым знакомым, его звали Дима, и мы с ним посещали одну секцию карате под руководством знаменитого тренера Николая Немчинова. А вторым моим корешем стал совсем взрослый мужик по имени Чингис, который работал в реанимации Боткинской. Чингис разглядел во мне родственную душу, и мы в общих разговорах вовсю употребляли специальные термины – реанимационный жаргон, понятный только нам двоим. Остальные курсанты смотрели на нас с неподдельным уважением. Никто и никогда уже не оспаривал нашу роль интеллектуального ядра группы.
Да и вообще мне там нравилось. Настолько, что я даже не проигнорировал объявленный в середине апреля традиционный ленинский субботник. Всех организовали прочесывать граблями газон и жечь мусор, а меня отправили на склад наводить красоту.
Пусти козла в огород. На складе я разжился шикарной аптечной банкой с притертой пробкой, на которой по-латыни было написано: Spiritus aethylicus. Отлично! Буду туда спирт сливать, который таскаю домой из больницы. А вдобавок я стащил из коробки со скелетом череп. Нижняя челюсть у него была на пружине и здорово щелкала. Всю жизнь, с раннего детства, мечтал о таком.
Интересно, как Рома отреагирует? Ему же только три года. Вдруг перепугается и, не дай бог, заикаться начнет? Хотя что тут гадать, нужно проверить. В прихожей я расстегнул молнию на сумке и, вытащив завернутый в газету череп, торжественно объявил:
– Смотри, сынок, что я принес!
Пока я шуршал бумагой, сынок стоял не шелохнувшись. И, увидев извлеченное на свет божий, весь подался вперед и засветился от счастья. А когда, демонстрируя все свои достоинства, бедный Йорик громко щелкнул челюстью, Рома не выдержал. Выхватив череп у меня из рук, он принялся его гладить и целовать:
– Это мой любимый дядя Робот!!!
Гены, что вы хотите.
Хотя наши пятимесячные массажные курсы считались “с полным отрывом от производства”, мой график мог быть с отрывом от чего угодно, только вот не от этого самого производства. Вместо суточных дежурств мне натыкали ночных, и так часто, что казалось, будто я смотрю не в график, а в школьный журнал. В таких журналах ставили буковку “Н” напротив фамилии ученика, если тот отсутствовал – как правило, по болезни. Вот и у меня случилось такое заболевание под названием “гуманное отношение начальства к персоналу”. Напротив моей фамилии красовался целый забор из буковок: Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н.
Четырнадцать ночных дежурств. Два раза по магическому числу семь. После смены я отправлялся не домой отсыпаться, а в Коньково постигать тайны массажного мастерства. А к вечеру плелся в Тушино отдыхать перед очередной трудовой вахтой.
Наверное, из-за того, что я постоянно находился в состоянии полутранса, у меня в голове начали происходить странные вещи. Например, я стал почти безошибочно угадывать масть игральной карт
Сторінка 28
, повернутой ко мне рубашкой, причем не только масть, а даже ранг. Приходя на дежурство, я с порога объявлял, сколько сегодня ожидается поступлений, и ни разу не ошибся. Перед зачетными занятиями на подходе к училищу ясно видел вопросы в билете. Подобная необъяснимая интуиция была у моей бабушки Люды. Она всегда спала после обеда, и за мгновение до погружения в сон у нее частенько случались озарения.Однажды моя тетка, тоже Люда, зимой на даче потеряла обручальное кольцо. Не помню точно, но, кажется, кольцо было с историей, и тетке было его очень жаль. Обшарили весь дом, тропинки, даже растопили снег около сарая, где тетка вроде бы неосторожно взмахнула рукой. Все без толку. Огорченная тетя Люда уехала в Москву.
Через пару дней бабушке перед сном привиделось, что кольцо находится не дома и даже не на участке. А будто бы оно лежит на улице около водопроводной колонки, и не просто лежит, а под одним из кирпичей, на которых эта самая колонка стоит. Она накинула пальто, платок, вышла на улицу, каблуком проломила лед в луже, долго шарила окоченевшей рукой под кирпичами, пока не вытащила колечко.
Я, конечно, никаких золотых культовых предметов не находил. Мои озарения, или как это все назвать, начисто были лишены практического смысла.
Как-то дежурили мы неполной бригадой, я стоял в любимом втором блоке. Было около часа ночи, тишь да гладь. Подходит ко мне Галька, медсестра из молодых, и спрашивает, что, по моему мнению, можно уколоть бабушке из первого блока после грыжесечения, а то она жалуется на боли в области послеоперационного шва.
Тут, конечно, я начал умничать, рассказывать, как у стариков мощные анальгетики вызывают депрессию дыхания, что очень опасно. Отвлечешься, например, на мытье полов, а они уже и дышать перестали.
– Введи-ка ты ей лучше в вену анальгин с димедролом! – сказал я. – Должно помочь, заодно поспит бабушка. Хотя от анальгина видел раз такое…
* * *
Это было мое второе дежурство в отделении. Я тогда находился в статусе “принеси-подай”, и этим от души пользовались все желающие. Кстати, именно в те сутки меня научил интубировать Юрий Владимирович Мазурок, серьезный молодой доктор, бывший тогда комсоргом нашего отделения. Впоследствии он стал лауреатом Государственной премии, указ о которой был подписан самим президентом страны.
Так вот. На этом же дежурстве, вечером, нам привезли больную, которая буквально помирала от инъекции анальгина.
Она была симпатичной блондинкой двадцати трех лет и совсем недавно вышла замуж. Все молодожены развлекаются по-разному. Эти напивались, закатывали поочередно сцены ревности, а потом били друг друга смертным боем. В один из таких романтических вечеров медового месяца муженек перестарался и устроил своей молодой супруге сотрясение мозга.
Приехавшая вслед за милицией “скорая” решила девушку госпитализировать. Честно говоря, урон ее здоровью был нанесен незначительный, скорее всего, бригада “скорой” действовала из альтруистических соображений. Ну и в самом деле девушке необходимо было сменить обстановку, а то каждый день пьянство да мордобой. Взять небольшую паузу, чтобы, как говорится, не приедалось.
А по дороге, уже в машине, закатили ей ампулу анальгина. Тоже из альтруизма, видимо, они добрые были ребята. Это хорошо, что они укололи ее в машине, а не в квартире, иначе могли бы и не довезти. У нее случился анафилактический шок, про который почти все слышали, но точно, что не все видели. И не дай вам бог увидеть его, настоящий анафилактический шок. Бессмысленный и беспощадный. Ну а когда увидите, то навсегда запомните, я вам обещаю.
Нам Суходольская, которая принимала эту несчастную жертву брачных игр в “шоковом” зале, так и объявила:
– Смотрите, дети мои, смотрите и запоминайте, что такое анафилактический шок! Единственное абсолютное показание для внутривенного введения адреналина!
Это она правильно сказала – не про то, что мы ее дети, Суходольская любила выражаться подобным образом в минуты сильного волнения или душевного подъема, а насчет анафилактического шока и адреналина. Только при этом виде шока развивается такая выраженная относительная гиповолемия, и тогда нужно резко сузить объем кровеносного русла.
И, несмотря на то что пациентка эта при поступлении была в крайне тяжелом состоянии и сразу загремела на аппарат, она стремительно шла на поправку, и день на третий ее перевели в нейрохирургическое отделение лечить сотрясенный мозг. Перед отправкой мы огромными красными буквами написали на ее истории, что больная не переносит анальгин, а фамилия у нее была немного похожа на мою. Морозова…
Я уже заканчивал свой рассказ, когда раздался звонок с эстакады. Значит, привезли кого-то. Прежде чем отпустить Гальку колоть старушке анальгин, я напоследок поведал ей, что встретил тогда ту блондинку в нейрохирургии всего через несколько дней после ее перевода.
Она сидела на корточках в холле у телевизора и рисовала на огромном куске ватмана. Рисовала, как я понял, какую-то дурацкую стенгазету, очередной бред со
Сторінка 29
иалистических обязательств отделения нейрохирургии. Обязательства эти заключались в несметном количестве черепов, которые взялся просверлить этот дружный коллектив за следующий отчетный год, о чем торжественно уведомлял родную коммунистическую партию.Так классно и с такой выдумкой рисовал только пионер нашего лагеря “Дружба” Шурик Беляев. Я встал сзади и открыл рот.
– Морозова! – спросил я. – Морозова, скажи честно, у тебя после удара по башке такие замечательные способности открылись?
– Ой, Леша, напугал! – засмеялась она. – Нет, не от удара, я же художник, этим летом художественное училище закончила! Мы, художники, – веселые люди!
Тут все побежали смотреть, кого привезли по “скорой”, а я принялся намывать блок. По часовой стрелке, начиная с крайней тумбочки. Странно, такой интересный случай, а я про него ни разу за четыре года не вспоминал. Это потому, что других случаев было полно.
Часа через полтора в блок заглянул дежурный врач Андрей Кочетков, я у него поинтересовался, что за пациент лежит сейчас в “шоковом” зале.
– Да бабу привезли, выловили из какой-то канавы, морда вся разбита, мокрая до нитки, головастики в волосах, алкогольная кома! – сообщил анамнез Кочетков. – Сейчас к тебе ее переведем, готовь койку!
Я кивнул, понятное дело, поздняя весна, вот и головастики.
– Вы только вычешите их из волос этой вашей Горгоны, а то мне здесь с ними возиться некогда будет!
Кочетков поправил очки, согласился и вышел. А через полчаса ее прикатили. Женщина как женщина. Только мертвецки пьяная, свежий синяк под глазом и губа разбита. Выпила, подралась, поскользнулась и в канаву с водой упала. Хорошо – нашли. Сегодня проспится, завтра переведем, через пару дней из больницы выпишут. Как говорится, до новых встреч. Такие часто повторно попадают. Идут на рецидив.
Я очень люблю алкогольные комы. Нет, не впадать в них, боже упаси, а пациентов, в них находящихся. С ними чертовски приятно работать. Вставил один катетер в вену, а второй в мочевой пузырь, покапал разных освежающих растворов, и через два-три часа все – готово дело. Клиент трезвый как огурчик, некоторые, правда, буянить начинают. Но тут главное привязать заранее, чтобы никто в окно не выпрыгнул.
Вот и дама эта через часок заворочалась, замычала протяжно, глазами захлопала. Я подошел поближе, встал у кровати. Интересно, сколько ей лет? В истории болезни написали: “Неизвестная, приблизительно тридцать пять”. Хотя тут может оказаться и двадцать пять. Такой образ жизни, когда валяешься по канавам с головастиками, хоть и закаляет характер, но преждевременно старит.
Она окончательно очнулась, затем немного поблуждала взглядом и наконец уставилась на меня.
– Ты кто? – последовал традиционный вопрос.
Я был воспитанным и никогда не отвечал в рифму типа: “Конь в пальто!”
Вместо этого я спросил:
– А как ты думаешь?
Неизвестная глубоко вздохнула, внимательно пригляделась ко мне и произнесла:
– Ты из вытрезвиловки!
Да, нелегкая жизнь у нашей неизвестной. Я понял, что бесчинствовать в ее планы не входит, и отвязал ей руки. Медленно, морщась, та стала ощупывать свое лицо.
– Здорово мне вывеску попортили? – спросила она, подмигнув здоровым глазом. – Небось смотреть страшно!
Я пожал плечами, включил верхний свет, снял у рукомойника зеркало со стены и дал ей в руки.
– Да, нормально разукрасили, неделю на улицу не покажешься! – определила пострадавшая. – Только вы не думайте обо мне плохо, молодой человек. Мы, художники, – веселые люди!
Я в этот момент пошел снять капельницу на другую половину блока, но замер и медленно повернулся.
– Голова-то болит у тебя? – начал я, чувствуя нарастающее волнение.
– Бобо, бобо головка! – жалобно простонала неизвестная женщина-художник. – И ведь не похмелишься!
– Так зачем же похмеляться! – подошел я ближе. – У нас же не вытрезвиловка, а больница, давай тебе укольчик сделаем – и дело с концом!
Говорю, а сам думаю: “Не может быть! Неужели я ее за несколько километров почуял?”
– Какой такой укольчик? – подобралась вся жительница канавы. – Как называется?
– Называется очень просто – анальгин!!! – торжественно произнес я, уже не сомневаясь, с кем говорю.
И точно. Ее подбросило на метр, чуть из кровати не выпрыгнула.
– Ну уж нет!!! Мне раз сделали укольчик!!! Несколько лет назад! Вот спасибо хорошим людям, откачали! Ты даже не вздумай анальгин колоть! Лучше сразу пристрели!
– А где же эти люди твои хорошие работали, что тебя откачали? – уже не скрывая улыбки, поинтересовался я.
– Да на Каширке больница есть, вот я там в реанимации лежала! – с некоторой важностью ответила она. – Говорю же, еле спасли!
Я подошел совсем близко, зачем-то взял из ее рук зеркало.
– Морозова! Здорово же ты наквасилась, если старых друзей не узнаешь! – И громко рассмеялся. – Всего-то четыре года прошло!!!
– Андрюша! – завопила Морозова и кинулась мне в объятия. – Моторин!
Ну, имечко и фамилию она немножко переврала, но я не обиделся. Ведь прошло четыре года, пр
Сторінка 30
няла девушка не менее двух бутылок водки да еще часок-другой провалялась в холодной воде. На ее месте любой другой даже свое собственное имя забыл бы. Тут главное не детали, а суть.И мы с ней радостно, как добрые знакомые после долгой разлуки, проболтали впритык до пересменки. А на обложке истории болезни я написал ее настоящие имя и фамилию и большими буквами красным карандашом вывел: анальгин!
* * *
Как нельзя кстати подоспел месяц май. Самый выгодный с коммерческой точки зрения. Дежурства в праздник подлежали двойной оплате. Царькова по блату поставила мне сутки и первого и девятого. Молодец, дает возможность подзаработать бедному студенту.
В отделении осталось всего трое пациентов. Перед праздниками всегда устраивался массовый перевод. Те из нас, кто побойчее, отправились на кухню. Первомайское застолье – дело святое. Те, кому нельзя было доверить готовку, остались с больными. А меня ближе к одиннадцати погнали в магазин. Как самого шустрого.
Нужно было купить несколько бутылок сухого. Буквально в пересменку поступил мужик, у которого в чемодане лежали четыре здоровые индюшачьи тушки. Он летел через Москву транзитом, возвращаясь от своих украинских родственников. Вез этих индюшек домой. Вез, но не довез. Такси, не успев отъехать от Домодедова, влетело в какой-то самосвал.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Примечания
1
Перевод С. Боброва и М. Богословской.


