Читать онлайн “Рассказы” «Аркадий Аверченко»
- 27.04
- 0
- 0
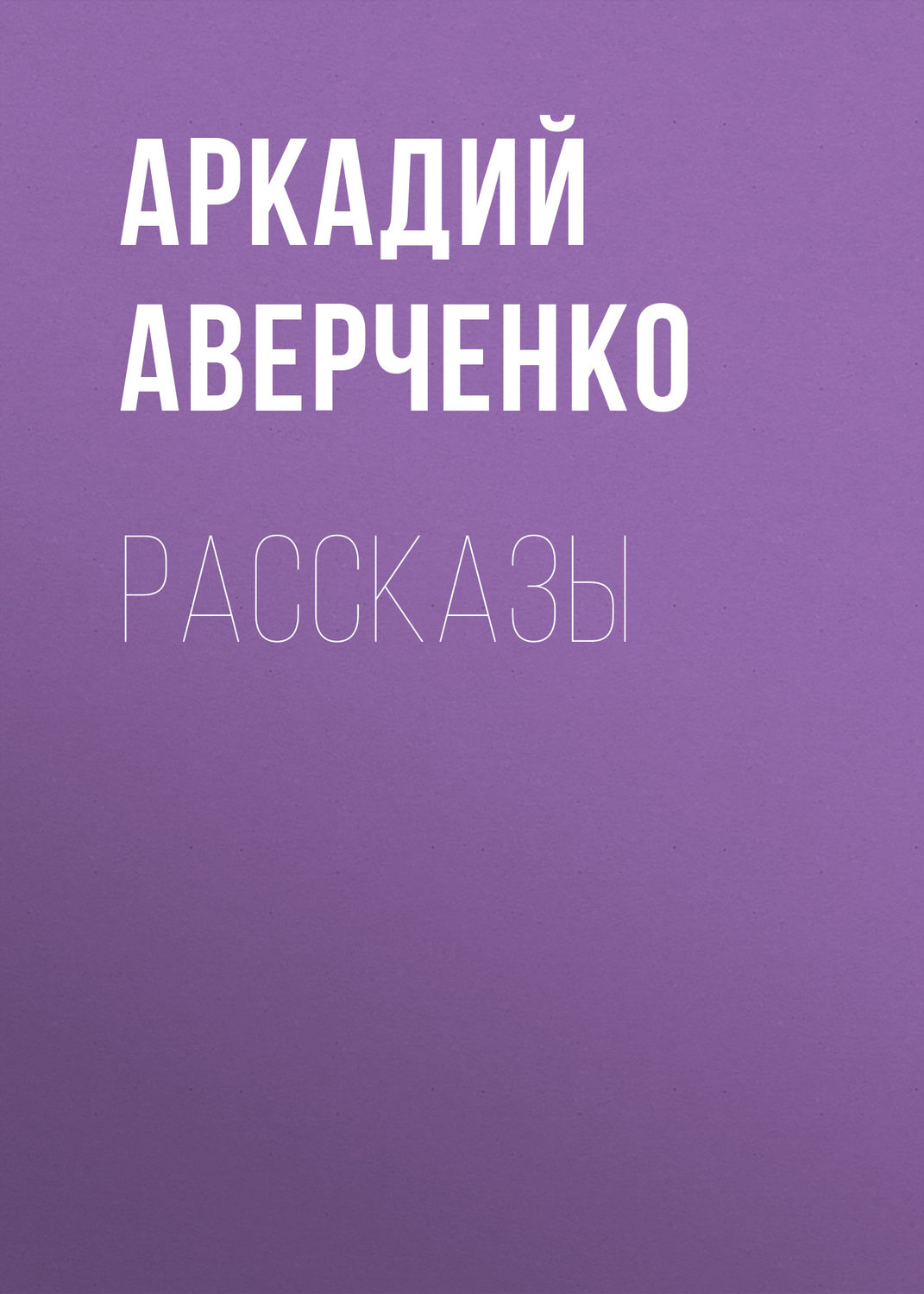
Страница 1
РассказыАркадий Тимофеевич Аверченко
Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого серьезного читателя. В книгу вошли рассказы, относящиеся к разным периодам творчества писателя, цикл «О маленьких – для больших», повесть «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев…», а также его последнее произведение – роман «Шутка мецената».
Аркадий Аверченко
Рассказы
Автобиография
Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.
Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:
– Держу пари на золотой, что это мальчишка!
«Старая лисица! – подумал я, внутренно усмехнувшись. – Ты играешь наверняка».
С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.
Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?
Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.
– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.
– Тебе надо учиться.
– Очень нужно! Не хочу учиться.
– Почему?
Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:
– Я болен.
– Что у тебя болит?
Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:
– Глаза.
– Гм… Пойдем к доктору.
Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и спалил маленький столик.
– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?
– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который докончил и уме: «…хорошего в ученьи».
Так я и не занимался науками.
* * *
Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.
Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и, нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.
Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.
Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.
* * *
Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:
– Надо тебе служить.
– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению, выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.
– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!
Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.
– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет… А ты?
Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по
Страница 2
тенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!– Сережа служит, а ты еще не служишь… – упрекнул меня отец.
– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?
– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!
Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.
* * *
Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.
Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека, в жилете, без пиджака, очень приветливого и скромного.
«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.
– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?
– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!
Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.
Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:
– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!
Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самым главным агентом.
– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)
– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!
Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:
– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!
Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.
«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»
В это время в передней послышалась возня.
– Посмотрите, кто там, – попросил меня главный агент. Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:
– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто. Плюгавый старичишка вошел и закричал:
– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!
Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того лодырем, предупредительно сообщил мне на ухо:
– Главный агент притащился. Так я начал свою службу.
* * *
Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука…
Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.
И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.
– Что это такое? – изумился я.
– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.
– Ну?
– Так не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.
Страница 3
лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими, отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмососредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
* * *
Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…
По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.
Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.
Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.
* * *
Литературная моя деятельность была начата в 1904 году,[1 - В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, наиболее вероятен 1903 год.] и была она, как мне казалось, сплошным триумфом.
Во-первых, я написал рассказ… Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!
Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась…
Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.
Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…
Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.
Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу… Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.
Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.
Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.
Я отказался.
Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!
Тогда он, обидевшись, сказал:
– Один из нас должен уехать из Харькова!
– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?
Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.
И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры
Страница 4
его можно найти даже в Публичной библиотеке.* * *
В Петроград я приехал как раз на Новый год.
Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.
И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город… Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.
И вот – начал я ее.
Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).
Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).
В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.
Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.
* * *
Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение…
Хлопотливая нация
Рассказы
В ресторане
– Фокусы! Это колдовство! – услышал я фразу за соседним столиком.
Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.
Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак.
Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова.
Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:
– Не более как ловкость и проворство рук.
– Это колдовство! – упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус.
Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:
– Хорошо! Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу?
Черный мрачно улыбнулся.
– Да разве вы, как его… пре-сти-ди-жи-да-тор?[2 - Фокусник, развивший необыкновенную ловкость и быстроту пальцев рук.]
– Вероятно, если я это говорю! Ну, хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их?
Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:
– За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!
– Вполне постижимо! Ну, идет – сто рублей?
– Нет, это много! У меня есть только пять.
– Да ведь мне все равно… Можно меньше – хотите три бутылки пива?
Черный ядовито подмигнул:
– Да ведь проиграете!
– Кто, я? Увидим!..
Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки.
– Ну, смотрите на часы и следите, чтобы не было больше пяти минут!
Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.
– Раз, два, три! Начинаю!
Человек, объявивший себя фокусником, взял нож, поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.
– На пиджаке тоже есть?
– Как же!.. Сзади, на рукавах, около карманов. Пуговицы со стуком сыпались в тарелку.
– У меня и на брюках есть! – корчась от смеха, говорил черный. – И на ботинках!
– Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь, все будет отрезано!
Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.
Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.
– На ботинках по восьми пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно.
Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.
Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал:
– Готово, все!
Лакей восхищенно всплеснул руками:
– 82 штуки. Ловко!
– Теперь пойди принеси мне иголку и ниток! – скомандовал фокусник. – Живо, ну!
Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.
– Поздно! Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли! Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.
– Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам три бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует?
Черный человек побледнел:
– Ку-куда же вы? Фокусник зевнул:
– На боковую… Спать хочется, как собаке. Намаешься за день…
– А пуговицы… пришить?
– Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл… Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен… Всех благ, господа!
Черный человек умоляюще потя
Страница 5
улся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.– Гос-по-ди! Что же теперь будет? Что с ним было, я не знаю.
Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц.
Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов хохотали.
Сплетня
Контролер чайно-рассыпочного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать дачей…
Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые теплые блики на тихую, как зеркало, воду.
Какая-то не совсем проснувшаяся мошка очертя голову взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.
Аквинский попробовал голой ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную прозрачную влагу…
И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.
Аквинский остановился и посмотрел налево.
Из-за серой, позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и наконец выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды четко показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.
Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голой рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:
– Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе… Ну и штука!
Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:
«Ну, хорошо… скажем, купаются вместе… а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!»
Придя на службу в таможню, он после обычной возни в пакгаузе сел на ящик из-под чая и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом…
– Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю – из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает… Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет… Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются… Гы!.. Вот бы поехать!
Когда, через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:
– Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался… Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе – и мужчины и женщины купаются. Говорит – поеду в Ривьеру. Поедешь, как же… На это деньги надо, голубчик!
– Отчего же! – вмешался пакгаузный Нибелунгов. – У него тетка, говорят, богатая; может у тетки взять…
Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.
А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сухонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:
– Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможне! Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил… Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято… Хе-хе!
– Ах бесстыдники! – целомудренно потупилась Петровна. – Ну и езжали бы себе подальше, а то – на-ко, здесь разврат заводят! Только куда ему с ней… Она баба здоровая, а он так – тьфу!
На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-соседски утюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:
– Это что же, для Ривьеры глаженые юбки понадобились?
– Ах, что вы! Слова такие! – усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.
– Ну да! Небось тебе-то да не знать… Она скорбно помолчала.
– Эхма, дурость бабья наша… И чего нашла она в нем?
Горничная, все-таки не понимавшая в чем дело, вытаращила глаза…
– Да, ваша Марья Григорьевна – хороша, нечего сказать! С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру, на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился… Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!
Горничная всплеснула руками.
– Да правда ли это, Анисья Петровна?
– Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.
– Ах, ужасти!
Горничная опрометью, позабывши об утюгах,
Страница 6
росилась домой и на пороге кухни столкнулась с самим членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.– Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна? – прищурив глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. – Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников…
– Оставьте! – огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных t?te-?-t?te.[3 - Здесь: свидание наедине (фр.).] – Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками…
Пухлое, невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.
Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом.[4 - Железной дорогой (фр.).]
Но, учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.
Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.
– Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повтори-ка!!
Испуганная этим неожиданным превращением члена таможни, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:
– Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то чтоб после на меня чего не было… Скажут – ты помогала! А я как перед Господом!..
Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:
– Рассказывай: с кем, как и когда? Горничная почуяла под собой почву.
– Да все с этим же… трухлявым! Федором Ивановичем… что в прошлом году раков вам в подарок принес… Вот тебе и раки! И как они это ловко… Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет – тетка евонная богатая, – и вместе купаться поедут в Ривьеру куда-то… Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..
* * *
Сидя за покосившимся столиком в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.
Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского… Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.
Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь – Аквинского – нафталином и сложить на лето в сундук… Моль и поела Аквинского.
Он писал:
«Милая тетенька! Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении… За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело… Вчера досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требуют член таможни господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял… Сначала говорит: „Вы, – говорит, – Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?“ – „Никак нет“, – отвечаю… А он как закричит: „Так вот как!!! Не лгите! Вы, – говорит, – попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором – предупреждаю – вы же и захлебнетесь!!“ Ужасно эти ученые люди туманно говорят… Потом и про вас, тетенька… „Вы, – говорит, – вашу тетку порешили ограбить… вашу старую тетку, а это стыдно! безнравственно!!“ Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание? Как я уже вам объяснял – это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки – не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы… А за что? Какие-то устои, водоворот… Насчет же семейной жизни что он говорил – так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, я не женат…»
Пропавшая калоша Доббльса
(Соч. А. Конан-Дойля)
Мы сидели в своей уютной квартирке на Бэкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. (Удивительно: когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись…)
Итак, по обыкновению, выла буря, Холмс, по обыкновению, молча курил, а я, по обыкновению, ожидал своей очереди чему-нибудь удивиться.
– Ватсон, я вижу – у тебя флюс. Я удивился:
– Откуда вы это узнали?
– Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого! Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком.
– Поразительно!! Этакая наблюдательность. Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко-де-Гама.
Когда он заканчивал 39-ю симфонию Юлия Ген
Страница 7
иха Циммермана, в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью.– Г. Холмс! Я Джон Бенгам… Ради Бога помогите! У меня украли… украли… Ах! страшно даже вымолвить…
Слезы затуманили его глаза.
– Я знаю, – хладнокровно сказал Холмс. – У вас украли фамильные драгоценности.
Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока.
– Как вы сказали? Фамильные… что? У меня украли мои стихи.
– Я так и думал! Расскажите обстоятельства дела.
– Какие там обстоятельства! Просто я шел по Трафальгар-скверу и, значит, нес их, стихи-то, под мышкой, а он выхвати да бежать! Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша – вот.
Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и наконец, откусивши кусок, с трудом разжевал его и проглотил.
– Теперь я понимаю! – радостно сказал он. Мы вперили в него взоры, полные ожидания.
– Я понимаю… Ясно, что эта калоша – резиновая! Изумленные, мы вскочили с кресел.
Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения, но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало.
– Господи помилуй! Это колдовство какое-то! По уходе Бенгама мы помолчали.
– Знаешь, кто это был? – спросил Холмс. – Это мужчина, он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией.
Я всплеснул руками:
– Холмс! Вы сущий дьявол. Откуда же вы все это знаете?
Холмс презрительно усмехнулся.
– Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор – несомненно, мужчина!
– Да какая же сорока принесла вам это на хвосте?
– Ты обратил внимание, что калоша мужская? Ясно, что женщины таких калош носить не могут!
Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак.
Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке.
Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии.
Кончивши элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микель-Анджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне:
– Ну, Ватсон – собирайся! Я таки нащупал нить этого загадочного преступления.
Мы оделись и вышли.
Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймса».
Мы прошли прямо к редактору.
– Сэр, – сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы. – Если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи – задержите его и сообщите мне.
Я всплеснул руками:
– Боги! Как это просто… и гениально.
После «Таймса» мы зашли в редакцию «Дэли-Нью», «Пель-Мель» и еще в несколько. Все получили предупреждение.
Затем мы стали выжидать.
Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выла буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату забрызганный грязью.
– Холмс, – сказал неизвестный грубым голосом. – Я – Доббльс. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквере калошу – я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски.
– Ну, мы эти штуки знаем, любезный, – пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол.
Но Доббльс прыгнул к дверям и, бросивши в лицо Шерлока рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез. Другую калошу мы нашли после в передней.
Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным.
Кроме этого преступления, Холмс открыл и другие, может быть, более интересные, но я рассказал о пропавшей калоше Доббльса как о деле, наиболее типичном для Шерлока.
Друг
I
Душилов вскочил с своего места и, схватив руку Крошкина, попытался выдернуть ее из предплечья.
Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что эта хирургическая операция имела очень мало сходства с обыкновенным дружеским пожатием.
– Крошкин, дружище! Кой черт тебя дернул на это? Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз с осторожностью, как будто дивясь прочности Крошкиных связок после давешнего рукопожатия.
– Видишь, ты уже раскаиваешься… Ведь я эти глупые романы знаю – вот как! Я как будто сейчас вижу завязку этой гадости: когда однажды никого из ближних не было, ты ни с того ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию… У них иногда действительно бывают такие физиономии… забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах, повисла у тебя на шее, а ты, вместо того чтобы стряхнуть ее на пол, сделал предложение… Было так?
Крошкин пожал плечами:
– Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем, что-то подобное было. Но что поделаешь… Глупость совершена – предложение сделано.
– Ах ты Господи! Можно все еще исправить. Ты еще можешь разойтись.
– Черт возьми! Как?! Душилов впал в унылое раздумье.
– Не мог ли бы ты… поколотить ее отца, что ли! Тогда, я полагаю, все бы расстроилось, а?
– То есть как поколотить? За что
Страница 8
– Ну… причину можно найти. Явиться не в своем виде – прямо к старику. Ты что, мол, делаешь? Газету читаешь? Так вот тебе газета! Да по голове его!
– Послушай… Как ты думаешь: может дурак хотя иногда чувствовать себя дураком?
– Иногда пожалуй, – согласился Душилов серьезно. – Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика, пожалуй, бить жалко…
– Ну, вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила! Не нашел бы ты человека счастливее меня!
Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее в карман.
– Друг Крошкин! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она тебя разлюбит?
– Может, ты ее собираешься поколотить?
– Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор… в котором немного преувеличу твои недостатки, а?
Крошкин подумал.
– Знаешь, удав, – это мысль! Только ты можешь все испортить!
– Кто, я? Будет сделано гениально.
– Сумасшедший, постой! Куда ты?
Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.
II
Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.
– Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно… я рада за вас. А что поделывает Крошкин?
– Какой Крошкин?
– Ну, ваш друг!
– Он мне теперь не друг!
– Что вы говорите! Почему?
– Потому что он не Крошкин!
– А кто же он?
Душилов сокрушенно вздохнул.
– Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.
Побледневшая блондинка открыла широко испуганные глаза.
– Что вы говорите! Зачем ему это понадобилось?
– Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден… Теперь вы понимаете?!
– Душилов… Вы меня… с ума сведете.
– Еще бы! Я и сам хожу теперь как потерянный!
– Боже мой… Такой симпатичный, скромный, непьющий…
Душилов развел руками:
– Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик… Вчера он у вас не был?
– Не был.
– Вчера он ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!
– Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый… Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал…
– Комедия! Если бы отрыть тетку и произвести экспертизу внутренностей…
– Господи! Вы думаете…
– Я уверен.
– Но каково это его сестре! Душилов грубо расхохотался.
– Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра!
На глазах девушки стояли слезы.
– Вы знаете, что он хотел на мне жениться?
– Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?
– Да… Мы так мечтали.
– Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это все было устроено!..
Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.
– Душилов… один вопрос: значит, он меня не любил?
– Видите ли… У него есть любовница – француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре наказание за кражи и разврат.
Девушка глухо, беззвучно плакала.
– Этого… я ему никогда не прощу.
– И не прощайте! Я вас вполне понимаю… Кстати, у вас столовое серебро в целости?
– Ка-ак! Неужели он дошел до этого?
– Ничего не скажу… Вы знаете, я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias[5 - Здесь: иначе (говоря) (лат.).] Звереву, от вас привет?
Девушка вскочила с растрепанной прической и гневным лицом:
– Скажите ему… что он самый низкий мерзавец! Что ему и имени нет!
– Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца – я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому папаше!
Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.
III
На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами.
Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.
За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:
– Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком?.. Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки ускорена не природой, а человеком, и этот человек были вы, – при соучастии любовницы, француженки Берты, которую полиция сегодня тщетно разыскивает? Не запирайтесь, вы видите, что правосудию все известно!..
Люди четырех измерений
I
– Удивительно они забавные! – сказал
Страница 9
она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:
– Совершенно верно. – Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.
– Иногда они смешат меня.
– Это мило с их стороны, – осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.
– Вы знаете, он – настоящий Отелло.
Так как до сих пор мы говорили о старике докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:
– Никогда этого нельзя было подумать! Она вздохнула.
– Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.
– Ах, вы говорите о муже! Но ведь он… Она удивленно посмотрела на меня:
– Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.
– Упал, что ли?
– Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку. Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной. Я беспомощно взглянул на нее и сказал:
– До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.
– Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете – я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, – настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, – говорит, – закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове – трах! И молодой человек, как этот самый… сноп, – падает. Ужас!
– Неужели он его приревновал ни с того ни с сего?! Она пожала плечами.
– Я же вам говорю: они удивительно забавные!
II
Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.
– Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете!
– И не покажусь, – пошутил я. – Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.
Он захохотал.
– Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то – подумайте – у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги…
Я отшатнулся от него:
– Но… при чем здесь серьги?
– Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаянная.
– Вы думаете, что это грабитель?
– Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку – ясно, кажется.
Он обиженно замолчал.
– Так вы его… кирпичом?
– По голове. Не пискнул даже… Мы тоже эти дела понимаем.
Недоумевая, я простился и пошел дальше.
III
– За вами не поспеешь! – раздался сзади меня голос.
Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.
Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.
– Боже! Что с вами сделалось?!
– Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.
– Но… ради Бога! Чем вы были больны?
Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:
– Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?
– Не знаю. А что?
– Ну… не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?
– Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.
– Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.
Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:
– Вы говорите – шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?
– Ну да. Вы, наверно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни… Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу, – черт возьми! Нет спичек… Ну, думаю, будет проходить добрая душа – попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И – что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то – и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.
Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:
– Вы… действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?
– Я в этом уверен.
Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось.
Это была небольшая заметка в хронике происшествий: «Под парами алкоголя. – Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по пасп
Страница 10
рту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию…»* * *
Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны…
И смеюсь, смеюсь.
День госпожи Спандиковой
День госпожи Спандиковой начался обычно.
С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической дурой» и «рыжей тетехой», а потом долго причесывалась.
Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.
Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга вставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.
В городе она купила десять фунтов сахарного песку, цветок в глиняном горшке и опять колотила Кольку.
Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.
Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.
Извозчик сообщил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.
Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.
Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.
– Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.
Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.
Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легок, и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.
Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.
– Мука моя мученская! – простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.
Из Галочки, сахара, цветка, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.
Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.
* * *
Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться, и так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.
Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.
– Чего ты? – спросил господин Спандиков.
– Я потеряла обручальное кольцо в воде, – всхлипнула госпожа Спандикова.
– Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать – потеряла, значит, и нет его. Пойдем.
– Как пойдем? – вспыхнула госпожа Спандикова. – Так может говорить только старый осел!
– Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?
Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:
– Ты.
– Ну ладно, ну я… Пойдем, милая.
– Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.
– Я куплю другое. Пойдем, милая.
– Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит – большое несчастье.
– Первый раз слышу!
– Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.
– Ну, я иду домой.
– Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?
– Купить другое? – пошутил муж. Госпожа Спандикова всплеснула руками:
– Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца… Это принесет нам страшное несчастье.
– Да мне не хочется.
– Лезь.
Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.
– Ищи тут!
Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.
– Ищи же тут! Нырни еще.
Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:
– Разве ты в этом месте купалась?
– Нет…
Страница 11
от здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.– Да течение не оттуда, а отсюда.
– Не может быть… Почему же, когда мы купались у Красной рощи, течение было отсюда?
– Потому что мы были на том берегу реки.
– Это все равно! Ищи!
Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку грустный, с искаженным лицом…
– Не могу больше! – прохрипел он.
– Это еще что за новости?!
– Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо для моего здоровья.
– Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье… Поищи еще здесь…
* * *
Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:
– Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер…
В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но тем не менее господин Спандиков, зеленый, как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.
Вернулись вечером.
Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер.
……………………………………………………….
На даче все оживилось.
Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.
Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром «хронической дурой» и «рыжей тетехой».
Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.
Сочувствовала.
Утром рыжая соседка говорила своему мужу:
– Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами… Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!
– Ну? – спросил муж хронической дуры.
– Ну – и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?
Поэт
– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, – мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния… Ради бога, простите меня!
– Ничего, ничего, – ласково сказал я, – не извиняйтесь.
Он печально свесил голову на грудь.
– Нет, что уж там… Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.
– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению только, ваши стишки не подошли.
– Э?
Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня:
– Эти стишки не подошли??!
– Да, да. Эти самые.
– Эти стишки??!! Начинающиеся:
Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать…
Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!
– К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:
Хотел бы я ей черный локон…
– Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.
– Согласен. Лично я очень ими позабавился, но… для журнала они не подходят.
– Да вы бы их еще раз прочли!
– Да зачем же? Ведь я читал.
– Еще разик!
Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой – сожаление, что стихи все-таки не подойдут.
– Гм… Тогда позвольте их… Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон…»
Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:
– Стихи не подходят.
– Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.
– Нет, зачем же оставлять?!
– Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?
– Не надо. Оставьте их у себя.
– Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но…
– До свиданья!
Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел:
«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл…»
– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду… Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.
Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.
В пять часов я поехал домой обедать. Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.
Вынул, развернул и прочел:
«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать…» – и т. д.
Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.
Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:
– Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.
– Покажи.
Я взял бумажку и прочел:
– «Хотел бы я ей черный ло…» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухн
Страница 12
, на полу? Черт его знает… Кошмар какой-то!Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.
– Чего ты такой задумчивый? – спросила жена.
– Хотел бы я ей черный ло… Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.
За десертом в передней позвонили и вызвали меня… В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.
– Что такое?
– Тс… Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни… Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..
Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.
В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:
Хотел бы я ей черный локон… —
все от первой до последней строчки.
В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.
– От кого это?
– Брось! Это так… глупости. Один очень надоедливый человек.
– Да? А что это тут написано?.. Гм… «Целовать»… «аждое утро»… «черны… локон…» Негодяй!
В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.
Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь сунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.
На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.
– Папочка! – радостно закричал Володя. – Меня дядя держал на руках! Незнакомый… дал шоколадку… бумажечку дал… Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.
– Я тебя высеку, – злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»… – Ты у меня будешь знать!..
Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:
– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов, – вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя это то на продажных тварей, – и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи… Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня…
Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла.
Желание чесать чьи-то власы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.
Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.
Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.
Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:
Хотел бы я ей черный локон…
Здание на песке
I
Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.
– Чья это ручонка? – спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.
Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства…
– Чья это маленькая ручонка?
Самое простое – жене нужно было бы ответить:
– Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?
Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:
– Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку. Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.
Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:
– Как ты думаешь, что у нас будет?
Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:
– Окрошка, на второе голубцы, а потом – крем. Или:
– Завтра? Кажется, пятница.
Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.
– Да нет же! – хохотал он. – Что у нас должно родиться?
– Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.
– Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?
Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесце
Страница 13
ьно:– Мальчик.
– Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган… Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком… А? Как ты думаешь… Что мы из него сделаем?
Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух:
– Котлеты под морковным соусом. Но говорю:
– Инженера.
– Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это ты так?! Покажи.
Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:
– Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.
– Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.
Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.
Я трогаю пальцем один и робко говорю:
– Хороший нагрудничек.
– Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?
Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:
– Панталончики?
– Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?
– Видел. Три раза видел.
– Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.
Начинается тщательный осмотр колыбельки. У мужа Мити на глазах слезы.
– Вот тут он будет лежать… Большой, толстый мальчишка. «Папочка, – скажет он мне, – папочка, дай мне карамельку!» Гм… Надо будет завтра про запас купить карамели.
– Купи пуд, – советую я.
– Пуд, пожалуй, много, – задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.
Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:
– А кто меня должен поцеловать?
Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.
– А чьи это губки?
Из угла я говорю могильным голосом:
– Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!
– Что?
– Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя… Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.
– Друг мой… я тебя не понимаю… Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?
– Эй! – кричу я. – Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!
Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:
– А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..
II
Недавно я получил странную записку:
«Дорог Александ Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!?! Ого-го-го!!»
«Бедняга помешается от счастья», – подумал я, взбегая по лестнице его квартиры.
Дверь отворил мне сам муж Митя.
– Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?
– Поздравь, – сухо ответил он.
– Жена благополучна? Здорова?
– Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя… ха-ха!
Я откачнулся от него.
– Послушай… ты в уме? Или от счастья помешался? Муж Митя сардонически расхохотался.
– Ха-ха! Можешь поздравить… пойдем, покажу.
– Он в колыбельке, конечно?
– В колыбельке – черта с два! В корзине из-под белья!
Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.
– Послушай! – закричал я, отскочив в смятении. – Там, кажется, два!
– Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать…
Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.
– Черт возьми… Действительно! Как же это случилось?
– А я почем знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!
Он покачал головой.
– Вот тебе и инженер!
Я попробовал утешить его.
– Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно…
– Да как же! Теперь я погиб…
– Почему?
– Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок… Ну… и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут – учить… Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему… Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше… Пропало… все пропало… Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать – она от ужаса протянет ноги… как ты полагаешь?
– Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? Чьи ушки?»
– Да… Попались бы мне теперь эти
Страница 14
ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено… Так хорошо началось… Свивальнички, колыбельки… инженер…– Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.
– Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины!
Рыцарь индустрии
Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, – и упал на мостовую.
Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:
– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?
– Почему не можете? – добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. – Конечно же, можете.
– Зайдите ко мне в таком случае, – сказал я, отходя от окна.
Он вошел, веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:
– Цацкин.
– Очень рад. Не ушиблись ли вы?
– Чтобы сказать вам – да, так – нет! Чистейшей воды пустяки.
– Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? – подмигивая, спросил я. – Хе-хе.
– Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли – могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.
– Нет, зачем же, – удивленно возразил я, всматриваясь в него. – Послушайте… ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..
– Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.
Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:
– Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.
– Так вы – агент по страхованию жизни? – сухо сказал я. – Чем же я могу быть вам полезен?
– Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться – на дожитие или с уплатой премии вашим близким после – дай вам Бог здоровья – вашей смерти?
– Никак я не хочу страховаться, – замотал я головой. – Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет… Я одинок.
– А супруга?
– Я холост.
– Так вам нужно жениться – очень просто! Могу вам предложить девушку – пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет – можно купить готовые. Адрес – магазин «Оборот»… Наша фирма…
– Господин Цацкин, – возразил я. – Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни…
– Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь… Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик…
– Оставьте ваши пробные флакончики при себе, – раздражительно сказал я. – Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост…
– Что такое – лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью… Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите – рост…
– Ничего мне не нужно! – сказал я, сжимая виски. – Простите, но вы мне действуете на нервы…
– На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный… Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но…
Я схватился за голову.
– Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин» – фирма уж сама доставит вам на дом…
– Извините, – сказал я, закусывая губу, – но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа – писать статью…
– Утомительная? – сочувственно спросил господин Цацкин. – Я вам скажу – она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма. Нормальное положение, удобный наклон… За две штуки семь рублей, а за три – десять…
– Пошел вон! – закричал я, дрожа от бешенства. – Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!
– Этим пресс-папье? – презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. – Этим пресс-папье… Вы на него дуньте – оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье
Страница 15
так я вам могу предложить целый прибор из малахита…Я нажал кнопку электрического звонка.
– Вот сейчас придет человек – прикажу ему вывести вас!
Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания. Прошло две минуты. Я позвонил снова.
– Хорошие звонки, нечего сказать, – покачал головой господин Цацкин. – Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки…
Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.
– Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца…
– Это не дай бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк…
Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.
Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и – распахнулась.
Господин Цацкин робко вошел в комнату и прищурясь сказал:
– В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся… Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня – один прибор два рубля сорок копеек, за три – шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук…
Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:
– Сейчас я буду стрелять в вас!
Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:
– Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, а три еще дешевле. Прошу вас убедиться!..
Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне:
– У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де…
Я захлопнул окно.
Ниночка
I
Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову, и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.
Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.
Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.
Мишкин подошел к ней ближе и сказал:
– Так вы, это самое… перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?
– Почему же? – удивилась Ниночка. – Я за это жалованье получаю.
– Так, так… жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела…
– Грудь не болит.
– Я очень рад. Вам не холодно?
– Отчего же мне может быть холодно?
– Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная… Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?
– Оставьте мои руки в покое!
– Милая… Одну минутку… Постойте… Зачем вырываться? Я, это самое… рукав, который просвечив…
– Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!
Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.
Волосы у нее сбились в сторону и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.
– Мерзавец, – прошептала Ниночка. – Я тебе этого так не прощу.
Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:
«К кому же мне идти? Пойду к адвокату».
II
Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.
– Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? – ласково спросил адвокат Язычников.
– Нельзя ли его сослать в Сибирь? – попросила Ниночка.
– В Сибирь нельзя… А притянуть его вообще к ответственности можно.
– Ну, притяните.
– У вас есть свидетели?
– Я – свидетельница, – сказала Ниночка.
– Нет, вы – потерпевшая. Но, если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?
– Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверно, там теперь синяк.
Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.
– Покажите руку, – сказал адвокат.
– Вот тут, под кофточкой.
– Вам придется снять кофточку.
– Но ведь вы же не доктор, а адвокат, – удивилась Ниночка.
– Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?
– Нет, не знаю.
– Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.
Ниночка
Страница 16
усто покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на белорозовом фоне плеча и вежливо сказал:
– Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое?.. Грудь?
– Не трогайте меня! – вскричала Ниночка. – Как вы смеете?
Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.
– Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов…
– Вы – нахал! – перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.
Идя по улице, она говорила сама себе: «Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее – это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».
III
Доктор Дубяго был солидный пожилой человек. Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:
– Разденьтесь.
Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:
– Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь…
– Зачем же совсем? – вспыхнула Ниночка. – Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.
Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.
– Все-таки вам нужно раздеться… Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.
Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.
– Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!
IV
Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.
«Вот вам – друзья человечества! Интеллигентные люди… Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».
Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.
Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.
– Ха-ха! – горько засмеялся он. – Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страданья страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз – справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью… Ха-ха. Узнаю я вас!
– Прикажете снять кофточку? – робко спросила Ниночка.
– Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем… можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы, гм… культуры.
Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.
– Однако, руки же у вас… разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет… постойте… чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут… в сгибе… А… Гм… согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое…
Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.
Идя домой, она улыбалась сквозь слезы: «Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»
Вечером Ниночка сидела дома и плакала.
Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла посидеть к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.
Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.
Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:
– Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.
– Меня сегодня обидели, Ихневмонов, – садясь, скорбно сообщила Ниночка.
– Ну!.. Кто?
– Адвокат, доктор, старик один… Такие негодяи!
– Чем же они вас обидели?
– Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали…
– Так… – перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, – это нехорошо.
– У меня рука болит, болит, – жалобно протянула Ниночка.
– Этакие негодяи! Пейте чай.
– Наверно, – печально улыбнулась Ниночка, – и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.
– Зачем же ее осматривать? – улыбнулся студент. – Есть синяк – я вам и так верю.
Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.
– До сих пор рука горит, – пожаловалась Ниночка. – Может, примочку какую-нибудь надо?
– Не знаю.
– Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, – я вам верю.
Ихневмонов пожал плечами.
– Зачем же вас затруднять… Будь я медик – я бы помог. А то я – естест
Страница 17
енник.Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:
– А вы все-таки посмотрите.
– Пожалуй, показывайте вашу руку… Не беспокойтесь… вы только спустите с плеча кофточку… Так… Это?.. Гм… Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.
Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.
Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.
– Вы бы одели в рукав, – посоветовал Ихневмонов. – Тут чертовски холодно.
Сердце Ниночки сжалось.
– Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, – сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.
– Экий негодяй! – мотнул головой студент.
– Показать?
Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:
– Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь – что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.
Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.
– Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.
– Отчего же, помилуйте, – сказал Ихневмонов, энергично тряся на прощанье руку Ниночки.
Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:
– Какие все мужчины негодяи!
Страшный человек
I
В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.
Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупо покрывающий какуюнибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.
Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа – любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.
Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:
– Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.
Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.
Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.
Но или негодяям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.
II
Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое. Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.
– Я не хочу вашего супа с битком, – говорил он обиженно. – Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?
О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню. Он хотел сделать так.
Съесть, надвинув на глаза шляпу, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.
Но, раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.
Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь».
Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.
Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.
И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.
Усевши
Страница 18
ь, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:– Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?
– Их нет-с, – говорил обычно слуга. – Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.
– Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха! – грубо смеялся он, хлопая себя по карману. – Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.
Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.
«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.
Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:
– Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить глотку.
И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.
III
Вокруг него шумела и ругалась городская голытьба, он думал: «Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто, – будут со страхом спрашивать, – стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это – страшный человек! Потом княжну какуюнибудь украсть…»
Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.
Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.
«Хорошо бы, – подумал он, – если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал». И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека («эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся»).
Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:
– Вот… возьми себе.
При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.
IV
У помощника счетовода был один только друг – сын квартирной хозяйки, Мотька, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.
Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:
– Мотя! Хочешь ко мне?
Замирая от страха и любопытства, Мотька робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.
Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.
– Ну, тезка… Было сегодня жаркое дело.
– Бы-ло? – спрашивал Мотька, дрожа всем телом. Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.
– Да, брат… Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча – чудо что такое.
– А что же вы с купцом сделали? – тихо спросил бледный Мотька.
– Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов – Лоренцо, и я, ха-ха, поквитался с ним!
– Кричал? – умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.
– Не цыкнул. Нет, это что… Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.
– Какой… старухи? – прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.
– Была, брат, такая старуха… Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с… Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери… Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я четырех уложил… Ну, и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.
Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:
– А сколько… вы вообще человек… уложили? Химиков задумывался:
– Человек… двадцать, двадцать пять. Не помню, право. А что?
– Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть…
Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.
– Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть… а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим…
Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.
– Покажите мне еще раз ваш кинжал, – просил Мотька.
– Вот он, старый друг, – оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. – Я таки частенько утоляю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо… Хах-ха!
И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывая конец плаща
Страница 19
а плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.Потом Химиков говорил:
– Ну, Мотя, устал я после всех этих передряг. Лягу спать.
И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.
– Зачем вы предпочитаете пол? – почтительно спрашивал Мотька.
– Э-э, брат! Надо привыкать… Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев это – царская постель.
И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.
Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупо покрытое рыжими волосами лицо.
И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков – такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.
Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.
V
Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность, – закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала, – влюбился.
Его идеал, – бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме, – нашел воплощение в девице без определенных занятий – Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.
Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:
– Очень даже это нетактично приставать к незнакомым девушкам.
– Сударыня, Маруся… Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей…
Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?
– Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь… Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорилась… Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!
Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.
– Милостивый государь! – загремел он, приблизившись к дон-жуану и смотря на него снизу вверх. – Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!
Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:
– Кто вы такой, черти вас раздери?
– Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!
Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.
– Ч-черт з-знает, что такое, – пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки. – Черт знает… решительно не понимаю… – оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.
VI
– Сударыня, – сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли. – Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха! – зловеще захохотал Химиков. – Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания… Ха-ха-ха!
– Кто вы такой? – спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.
– Я…
Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:
– Когда-нибудь… когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я… Пока же… сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы… Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь… Не найдете ли вы удобным соблаговолить дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома.
– Ну что ж, можно, – усмехнулась Полина Козлова. Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию – Полина Козлова.
– Так молоды и, увы, беззащитны, – прошептал Химиков, тронутый ее историей. – Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары зло
Страница 20
ной интриги и происки вра…– Покатайте меня на автомобиле, – сказала девушка, щуря на Химикова глаза.
По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желание женщины было для него законом.
– Сударыня, вашу руку…
Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.
Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.
Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.
– Суд… Полина. Вв… вы… меня… полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.
– Дайте папиросу, – попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.
– Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! – в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.
После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.
Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:
– Сегодня я сплю одна.
Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.
VII
Химиков зажил странной жизнью.
Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива – все это поглотило молодое поэтичное чувство, загоревшееся в его тощей груди.
Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед… Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.
И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в трактире «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.
Полина Козлова была нехорошей девушкой.
Химикову изменяли – он не замечал этого. Над Химиковым смеялись – он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли – он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание…
И наступило крушение.
VIII
Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал, как зеницу ока. Но однажды Полина сказала:
– Принесите завтра конфет.
И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.
– Что это? – спросил удивленный торговец.
– Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, – печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.
– Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, – улыбнулся торговец. – С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.
Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди и похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.
IX
А на другой день, так как вопрос о конфетах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.
Решил он это без всяких колебаний и сомнений: ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.
Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.
Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.
Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.
Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал – маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб – перед прохожим.
– Ха-ха-ха! – жутким смехом захохотал он. – Нет ли денег?
– Бедняга! – сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. – В такую холодную ночь просить милостыню… Это ужасно. На тебе двугривенный, пойди, обогрейся!
Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странно
Страница 21
птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.X
Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.
Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.
– Да… брат… Мотя, – подмигнул ему Химиков, – много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.
– Мама говорила, что, может, не умрете, – попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.
– Нет уж, брат… Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя… Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, – мой кинжал?
На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.
– Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.
– Ха-ха-ха! – зловеще засмеялся Химиков. – Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках, – тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.
Он оборвал разговор и затих.
Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.
И он мучительно думал.
Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.
– Кто он такой? – шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.
– Лекарь, – с трудом сказал Химиков, открывая глаза, – тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!
Он схватился за грудь и прохрипел:
– Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей… Но дам я за них ответ только перед престолом Всевыш…
И затих.
История одной картины
(Из выставочных встреч)
До сих пор, при случайных встречах с модернистами, я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо или попросит взаймы.
Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.
Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.
Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, – и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины.
Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения… Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом – голубого цвета.
Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину, – что предо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.
– Э! – сказал я сам себе. – Ловкач-художник просто изобразил внутренность нормандской хижины…
Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.
Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее…
Я пустился на хитрость – крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их…
Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной и закорючки с утомительной стойкостью висели – каждая на своем месте.
Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.
– Черт возьми! – проворчал я, наконец потеряв терпение. – Хотелось бы мне знать автора этой картины… Я б ему…
Молодой господин радостно закивал головой:
– Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы… Позвольте мне пожать вам руку.
– Кто вы такой? – отрывисто спросил я.
– Я? Автор этой картины! Какова штучка?!
– Да-а… Скажите, – сурово обратился я к нему. – Что это такое?
– Это? Господи боже мой… «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый». Самая простейшая соната.
Я еще раз внимательно осмотрел картину.
– Соната?
– Соната.
– Вы говорите, восемнадцатый? – мрачно переспросил я.
– Да-с, восемнадцатый.
– Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена; опус двадцать четвертый?
Он побледнел.
– Н-нет… Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.
Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.
– Объясните мне… Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже шестую сонату… А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?
Он заволновался.
– Так нельзя… Вы вводите
Страница 22
настроение математическое начало… Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к четырнадцатой сонате.Я грустно улыбнулся.
– К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение… О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.
– Почему?!!
– Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был преленивым субъектом.
– Что вы ко мне пристаете?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах… Я и переживал.
– Старик как будто задался целью строить вам козни… Виолончельных-то сонат всего шесть и состряпано.
Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.
– Не надо портить статуи, – попросил я. Он вздохнул.
У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.
– Вы знаете… Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?
Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.
Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая фуга Чайковского, Оп. 9, изд. Ю. Г Циммермана».
Он не сдержал обещания. Я – тоже.
Магнит
I
Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:
– Если мне будут звонить, спроси – кто и запиши номер.
Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:
– Если мне будут звонить, спросите – кто и запишите номер.
– Слушаю-с, барин!
– Хорошо, папа!
И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:
– Смотрите, какой он важный!
– Да, у него такой дурацкий вид, что будто он только что обзавелся собственным телефоном.
II
Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.
– Что такое?
– Барин, барин, – шептала она, давясь от смеха. – Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услыхала…
Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй, что я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает вступить с ней в преступную связь.
Я подошел ближе, строго спросив:
– Чего ты хочешь?
– Тш… барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.
Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия и она говорит первое, что взбрело ей на ум.
Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.
– Что случилось? – обеспокоился я.
– Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой… Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.
– Какую… Бельс-ку-ю? – ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.
– Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.
Вне себя, я оттолкнул Китти и бросился к жене.
Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:
– И это передать… Хорошо-с… Можно и это передать. И поцелуи… Что?.. Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.
Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:
– В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.
– Это дом сумасшедших! – вскричал я. – Ничего не понимаю!
Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:
– Ты… мерзавец!
– Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.
– Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?
Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:
– № 349-27: «Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй».
№ 259-09: «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»
№ 317-01: «Я на тебя сердита… Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»
№ 102-12: «Ты негодяй! Надеюсь, понимаешь».
№ 9-17: «Мерзавец – и больше ничего!»
Страница 23
№ 177-02: «Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?».
Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.
– Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? – с дрожью в голосе спросила она. – Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей – № 177-02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!
Я пожал плечами.
Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.
Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.
– Центральная, № 177-02! Спасибо. № 177-02? Мужской голос ответил мне:
– Да, кто говорит?
– Номер 300-05. Позовите к телефону Надю.
– Ах, вы № 300-05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин… Я знаю, кто вы такой!
– Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.
– Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные обольстители. Знайте, № 300-05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.
Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.
III
Обед прошел в тяжелом молчании.
Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:
– Папа, так ты бросишь эту драную кошку Бельскую? Смотри же! Брось ее!
Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник. По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.
Зазвонил телефон.
Я вскочил и помчался в кабинет.
– Кто звонит?
– Это № 300-05?
– Да, что нужно? Послышался женский смех.
– Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его девал?
– Кольца у меня нет, – отвечал я. – И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!
И повесил трубку.
После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.
Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку Бельскую».
Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.
IV
На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:
– Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.
– А зачем? – удивился я.
– Видите ли, ваш номер 300-05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли.
– Да, они уж очень к нему привыкли, – согласился я.
– И потому, так как мой новый номер мало кому известен, происходит путаница.
– Совершенно верно, – согласился я. – Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву, как предполагал.
– Да? – обрадовался молодой человек. – Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.
– А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам глаза, – сообщил я, подмигивая.
– Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бельскую.
– Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ребенка вашего хотел подкинуть № 77–92. Я обещал усыновить.
– Вы думаете, он мой? – задумчиво спросил бритый господин. – Я уже, признаться, совершенно спутался: где мои – где не мои.
Его простодушный вид возмутил меня.
– А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поколотить палкой. Поколотил?
Он улыбнулся и добродушно махнул рукой:
– Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же, поменяемся номерами?
– Ладно. Сейчас скажу на станцию.
V
Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.
Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голоса.
– Так вы артист? Я очень люблю театр.
– О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое… которое…
Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, все это покрылось звуком поцелуя.
Русская история
Посвящается Мин-ву нар. Просвещения
I
Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.
Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал.
А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.
– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.
– Здравствуй, щучий сын
Страница 24
чтоб тебе пусто было, – отвечали поселяне. – Ты чего?– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.
– Ты – чего?!
– Как видите: гербаризацией балуюсь.
– Ты – чего?!!?!
Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков.
Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые кулаки.
– Ты – чего?!!?!
– Да что вы, братцы… Если вам цветочков жалко, – я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки…
И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик, Петр Савельев Неуважай-Корыто.
Был он старик белый как лунь и глупый как колода.
– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрейший. – Брешет он, ребята! Холеру пущает.
Авторитет стариков, белых как лунь и глупых как колода, всегда высоко стоял среди поселян…
– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы… Заходи оттелева!
Студент завопил.
– Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол – твой батя – и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?
Порошок нашелся.
Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки и то – самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.
– Вот он, порошок-то! Холерный… Как, ребята, располагаете: потопить парня али так, помять?
Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:
– Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный… Ну, хотите – я съем его?
– Брешешь! Не съешь!
– Уверяю вас! Съем – и мне ничего не будет.
– Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопает! Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок.
Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:
– Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой… а без покаяния.
– Весь! – сказал студент, показывая пустой пакетик.
– Ешь и бумагу, – решил Петр Савельев, белый как лунь и глупый как колода.
По газетным известиям насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего – его якобы отпустили.
А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать: нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.
– Ешь! – приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда Неуважай-Корыто.
Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:
– Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..
– Видимое дело, – сказал добродушный мужик по прозванию Коровий-Кирпич. – Занапрасну скубента изобидели.
– Темный вы народ, – сказал студент, вздыхая.
Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.
– Темный вы народ! – повторил он. – Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах – так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.
– Толкуй! – недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.
В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое.
Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что луна сама не светит, а отражает только солнечный свет.
Когда же студент осмелился нахально заявить, что земля круглая и что она ходит вокруг солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить…
Били долго, а потом утопили в реке.
Почему газеты об этом умолчали – неизвестно.
II
Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.
И совершенно неожиданно выход был найден в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.
– Дело! – сказал Васька Свищ.
Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерову кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:
– Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!! Там заплатят.
Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к Старостиной избе.
Васька Свищ молодцевато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:
– Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!
Испуганный, перетревоженный, выскочил староста.
– Чего изволишь,
Страница 25
батюшка?– «Батюшка»? Я тебе, ррракалия, покажу – батюшка!! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?
– Ко… Коровий-Кирпич.
Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича…
– Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут! Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.
Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой, испуганной, встревоженной тучей.
– Тихо! – крикнул Васька Свищ, выступая вперед. – Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки – собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята? Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поняли?!
– Поняли, ваше благородие! – зашелестели мужицкие губы.
– Благоро-о-оодие?!! – завопил телеграфист. – Меррзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!
Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:
– Может, оно… насчет бумаги… поглядеть бы… Касательно печати…
– Осел!!! – рявкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.
– Я покажу вам, негодяи, – погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.
Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый как лунь и глупый как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:
– С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!
Четверо
I
В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена – Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель – Василий Абрамович Сандомирский…
А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.
Особенная – дорожная – скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.
– Нам еще ехать пять часов, – сказала Симочка, сладко зевая. – Пять часов отчаянной скуки!
– Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, – наставительно отвечал муж.
А Сандомирский сказал:
– И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет стоит двенадцать рублей.
И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:
– Уже я не говорю о плацкарте!
– Главное, что скучно! – стукнула ботинком Симочка.
Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.
И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили:
– Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука… Оттого, что все вы – не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.
– То есть как мы не те? – обиженно возразил Сандомирский. – Мы вовсе – те. Я, как человек интеллигентный…
Незнакомец улыбнулся и сказал:
– Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы – кто вы такой?
– Я? – поднял брови Сандомирский. – Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.
– Ах-ха-ха-ха! – закатился смехом незнакомец. – Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!
– Ватикан? – пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. – Я Ватикан?
– Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!
– Извините, – сказал Сандомирский. – Но эти шутки мне не надо!
II
– Джузеппе! – серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. – Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок…
– Пустите меня! – в ужасе закричал Сандомирский. – Что это такое?!
– Тссс! – зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. – Не надо кричать. Здесь дама.
Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.
– Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого н
Страница 26
переношу!Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.
– Господа! – сказал странный пассажир. – Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался – кто он такой?
– Я Сандомирский! – прошептал белыми губами коммивояжер.
– Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.
Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.
Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:
– Вы видите, с кем вы имеете дело… Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?
– Я же не кардинал!! – в отчаянии прошептал Сандомирский.
– Он стесняется сказать вам, что он кардинал, – заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. – Но, вероятно, он кардинал.
– Не правда ли?! – подхватил незнакомец. – Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?
– Есть! – с готовностью отвечал Четвероруков. – Но… стоит ли вам так волноваться из-за этого?..
– Пусть он скажет! – капризно потребовал пассажир, играя револьвером.
– Ну хорошо! – закричал Сандомирский. – Хорошо! Ну, я кардинал.
III
– Видите! – сделал незнакомец торжествующий жест. – Я вам говорил… Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!
Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца. Симочка фыркнула.
– При чем тут смех? – обиделся Сандомирский. – Позвольте мне, господин, на минутку выйти.
– Нет, я вас не пущу, – сказал пассажир. – Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.
– Какие прихожанки? Какая может быть интриж… При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:
– Ну, были интрижки, – стоит об этом говорить…
– Говорите!! – бешено закричал незнакомец.
– Уберите ваш пистолет – тогда расскажу. Ну, что вам рассказать… Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама…
– Графиня? – спросил пассажир.
– Ну, графиня. Вася, говорит, я тебя так люблю, что ужас. Целовались.
– Нет, вы подробнее… Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..
Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:
– Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень…»
– Что вы путаете, – сурово перебил пассажир. – Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?
– Ну какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».
– Исповедаться! – поправил незнакомец.
– Ну исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».
– Ужасно глупый роман! – бесцеремонно заявил незнакомец. – Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!
IV
Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:
– Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар…
Четвероруков побледнел и робко спросил:
– Ка… кой ддар?
– Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..
– Вы ошиблись, – насильственно улыбнулся Четвероруков. – Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка…
– Кардинал! – воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. – Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?
Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:
– Наверное, баритон!
– Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.
– Я не умею! – беспомощно пролепетал Четвероруков. – Уверяю вас, у меня голос противный, скрипучий!
– Ах-хах-ха! – засмеялся незнакомец. – Скромность истинного таланта! Прошу вас – пойте!
– Уверяю вас…
– Пойте! Пойте, черт возьми!!!
Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах…
Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.
– Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?
– Еще как! – нерешительно сказал Сандомирский.
– Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?
– Какая тут скука! – вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель. – Сплошное веселье.
– Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это
Страница 27
зяться – все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь… А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой – баритоном. Не правда ли, кардинал?– Вы говорите, как какая-нибудь книга, – печально сказал Сандомирский.
– И самое ужасное, что ложь – во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас – снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе – тело!
Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:
– Будьте добры раздеться… Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..
Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:
– Я… нич… чего… Я сам любблю красоту. Немножко раздеться можно, хе… хе…
Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:
– Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.
– Кардинал! – строго сказал незнакомец. – Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!
– Симочка… – пролепетал Четвероруков. – Ты… немножко.
– Отстань, без тебя знаю!
Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.
– Не правда ли, я интересная? – задорно сказала она, улыбаясь углами рта. – Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа – он, вероятно, позволит.
– Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!
Четвероруков молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах смотрел на страшного пассажира.
– Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку…
Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.
– Зачем же руку? – болезненно улыбнулась Симочка. – Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?
Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:
– Я буду счастлив!
Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала. Поезд остановился.
Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:
– Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет – я застрелю того. Ладно?
– Идите уж себе! – простонал Сандомирский. Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской. Четвероруков взял ее и с недоумением прочел: «Сознайтесь, что мы не проскучали… Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я – весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала…»
Ложь
Трудно понять китайцев и женщин.
Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени – и все это было ни к чему… Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки – сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.
Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.
* * *
Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.
Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.
Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.
– Что же это, – весело вскричала жена Лязгова. – Около двенадцати, а публики еще нет?!
– Подойдут, – сказал Лязгов. – Откуда ты, Симочка?
– Я… была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.
Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это значит? Я задумался.
Зачем о
Страница 28
а солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник… В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или – встречу с Таней Черножуковой.Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние… И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать…
* * *
Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:
– Ну как сегодняшняя пьеса в театре… Интересна? Серафима Петровна удивленно вскинула плечами:
– С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.
– Как же не были? А я заезжал к Черножуковым – мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.
Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:
– В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе…
Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену.
– Почему она должна была солгать?
– Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!
Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне:
– К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.
Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:
– А он все-таки здесь!
– Не понимаю… – пожал плечами студент Конякин. – Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.
– Он, кажется, скрывается, – постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. – За ним следят.
Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился.
– Следят??! Кто следит?
– Эти вот… Сыщики.
– Позвольте, Серафима Петровна… Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!
Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила:
– Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?
* * *
Пришел еще один гость – газетный рецензент Блюхин.
– Мороз, – заявил он, – а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.
– А жена тоже сейчас только оттуда, – прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. – Встретились?
– Что вы говорите?! – изумился Блюхин. – Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.
Серафима Петровна улыбнулась.
– Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.
– Удивительно… Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, все как на ладони.
– Мы больше сидели все… около музыки, – сказала Серафима Петровна. – У меня винт на коньке расшатался.
– Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю! Я мастер на эти дела. Где он у вас?
Нога нервно застучала по ковру.
– Я уже отдала его слесарю.
– Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? – спросил Лязгов.
Серафима Петровна рассердилась.
– Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная, по случаю срочной работы, была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.
* * *
Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.
– Извиняюсь, что опоздал, – раскланялся он. – Задержал прекрасный пол.
– На драматурга большой спрос, – улыбнулся Лязгов. – Кто же это тебя задержал?
– Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.
Лязгов захлопал в ладоши.
– Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!
– Как не читал? – обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. – Читал! Именно ей читал.
– Ха-ха! – засмеялся Лязгов. – Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.
– Да, она со мной была, – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.
– Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».
– Вы что-нибудь спутали, – пожала плечами Серафима Петровна.
– Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так – спутать?
– Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна.
– Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?
– Часов в десять-одиннадцать. Драматург всплеснул руками.
– Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.
Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.
– Да? Может быть, на свете существуют две Шемшурины? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вче
Страница 29
а?.. Ха-ха!..– Ничего не понимаю! – изумился Селиванский.
– То-то и оно, – засмеялась Серафима Петровна. – Тото и оно! Ах, Селиванский, Селиванский…
Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.
Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.
– Вы сегодня были на катке? – спросил я равнодушно.
– Да. С Шемшуриной.
– А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.
Она вспыхнула.
– Не может быть. Что же, я лгу, что ли?
– Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.
– Вы приняли за меня кого-нибудь другого…
– Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую… Для чего вы солгали мужу о катке?
Ее нога застучала по ковру.
– Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.
– А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.
Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.
– Вы этого не сделаете!
– Отчего же не сделать?.. Сделаю!
– Ну милый, ну хороший… Вы не скажете… да? Ведь не скажете?
– Скажу.
Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:
– А теперь не скажете? Нет?
* * *
После чтения драмы – ужинали.
Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.
Среди разговора она спросила его:
– А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.
Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в «ГрандОтеле», а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.
– Где ты был сегодня?
Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:
– Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле – она очень богатая – по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в «Гранд-Отеле» у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.
Я улыбнулся про себя и подумал: «Да. Вот это ложь!»
Золотые часы
История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, наделала в свое время очень много шуму. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы.
Тогда перестали волноваться.
Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман и Кантарович – каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.
– Они не правы?! – кричал, тряся седой бородой рыбник Блюмберг. – Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну и они перестали верить.
– Что такое двадцатый век? – обиженно возражал Яша Мельник. – Они говорят, двадцатый век – жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.
– Они разочаровались людьми – нужно вам сказать. Они… как это говорится?.. О! вот как: скептики. Вот они что.
– Скептики? А по-моему, это гениальные люди!
– Шарлатаны!
Дело заключалось в следующем.
Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью в двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтораста рублей, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и наконец, махнув рукой, сказал:
– Вы, Гендельман, упрямый как осел. Ну, так получайте эти двести рублей.
– Где же они? – осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.
– Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.
– Так что же вы их держите в руках? Дайте я их пересчитаю.
– Хорошо, но вы же дайте мне часы.
– Что значит – часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?
– Ну да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.
– Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?
– А спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов не имею?
– Кантарович! Вы мне не доверяете?!
– А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разверился в человеческих поступках.
– Кантарович!!! Вы мне не доверяете?
– Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?
– Я доверяю, но только – двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!
– Что мне думать? Мало я думал! Ну, давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватайте деньги, а я часы.
– Гм… Вы предлагаете так? Кантарович! Вы
Страница 30
умаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и… татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович… Я теперь уже ничему не верю.– Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?
– Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег – это будет самый печальный факт.
– Ну хорошо… смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.
– Гм!.. Это ваша рекомендация… А не хотите ли моей рекомендации: пойдем к лавочнику Агафонову и он нам сделает то же самое.
– Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!
– Так Бог с вами, если вы такой – разойдемся!
– Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.
– А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!
– Так мы сделаем вот что, – сказал Кантарович, почесывая затылок. – Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Он лицо официальное!
– Ну, это еще так-сяк.
Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли задумчивые.
– Стойте! – крикнул вдруг Кантарович. – Мы идем к уряднику. Но ведь урядник – тоже человек!
– Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон, к чертям.
Оба приостановились и погрузились в раздумье. По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:
– Что с вами?
– Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель? Спрашивается?
– Доверьте становому приставу.
– Благодарю вас, – усмехнулся Кантарович, – сами доверяйте становому приставу.
– Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев, – сейчас же и вышлет. Знаете что? Доверьте мне!
– Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.
– Это верно, – подтвердил старый Блюмберг, – без векселя никак нельзя!
– Ой! Неужели я, по-вашему, жулик?
– Вы, Яша, не жулик, – возразил Гендельман. – Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?
– Да, – подтвердил недоверчивый Кантарович. – Почему?
Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.
Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.
– Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.
– Мы вам доверяем, Григорий Соломонович… Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести – часами. Подумайте сами.
– Положим, верно… Ну, тогда поезжайте в город к нотариусу.
– Нате вам! К нотариусу. А нотариус – машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!
Комбинаций предлагалось много, но так как сумма – двести рублей – была действительно неслыханная – все комбинации рушились.
* * *
Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год… Часы были как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.
О сложном, запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать… Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:
– Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.
Веселый вечер
Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный удивительный комок, не вызывали у прохожих Невского проспекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто. Мало кто обращал внимание на эту шаблонную девицу, старообразную от попоек и любви, несмотря на свои двадцать пять лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами обольщения.
Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома:
– Мужчина… Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик – очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право. А?
И все время она смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городового, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а наоборот – он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно.
Ходила она так каждый день.
– Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право. А?
Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и с видом шутника, баловня дам, спрашивал:
– А может быть, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?
И она раскрывала рот, схватывалась за бока и хохотала вместе с веселым прохожим, крича:
– Ой-ой, чудак! Уморил… Ну, и скажет же…
В общем, ей совсем не было так весело, как она прики
Страница 31
ываласъ, но, может быть, веселый прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной и водкой, что, принимая во внимание сырую погоду, было бы совсем не плохо.Сегодня прохожие были какие-то необщительные и угрюмые, – несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение поужинать совместно ветчиной и водкой посылали ее ко «всем чертям», а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало полную возможность развести в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины.
Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно. Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу и изобретая все новые и новые ругательства, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.
В это время навстречу шли два господина. Один приостановил своего спутника и указал ему на девицу:
– Давай, Вика, ее пригласим.
Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед. Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.
– Сударыня, – сказал Петерс, – приношу вам от имени своего и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытны. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, просто, скромно и интеллигентно.
Девица захохотала, взявшись за бока.
– Ой, уморили! Ну и комики же вы! Господин по имени Петерс всплеснул руками:
– Это очаровательно. Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела?
Вика кивнул головой.
– Настоящая воспитанность именно в этом и заключается: простота и безыскусственность. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам нескромное одно предложение…
– Что такое? – спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.
– Нам, право, неловко… Вы не примите нашего предложения в дурную сторону…
– Мы даем вам слово, – заявил Петерс, – что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.
Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и крикнуть: «Ой, уморили!» – но руки ее опустились, и она молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.
– Что вам нужно?
– Ради бога, – засуетился Вика, – не подумайте, что мы хотели употребить во зло ваше доверие, но… скажите… Не согласились бы вы отужинать вместе с нами, – конечно, где-нибудь в приличном месте?
– Да, да, – согласилась повеселевшая девица, – конечно, поужинаю.
– О, как мы вам благодарны!
Петерс нагнулся, взял загрубевшую руку девицы и тихо коснулся ее губами.
– Эй, мотор! – крикнул куда-то в темноту Вика.
Девица, сбитая с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут… Но вместо того к ним подъехал, пыхтя, автомобиль.
Вика открыл дверцу, бережно взял девицу под руку и посадил ее на пружинные подушки.
«Матушки ж вы мои, – подумала пораженная, потрясенная девица. – Что же это такое?»
Ей пришло в голову, что самое лучшее, в благодарность за автомобиль, обнять Вику за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым из ее знакомых это доставляло удовольствие.
Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:
– А ведь мы еще не знакомы. Моя фамилия – Гусев, Виктор Петрович, а это мой приятель – Петерс, Эдуард Павлович, – писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя…
Девица помолчала.
– Меня зовут Катериной. Катя.
– О, помилуйте, – ахнул Петерс, – разве мы осмелимся звать вас так фамильярно. Екатерина… как по отчеству?..
– Степановна.
– Мерси. Вика… Как ты думаешь, куда мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в «Москву» неудобно.
– Да, – сказал Вика. – Там с приличной дамой нельзя показаться… Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на кокотку, на пьяного… Самое лучшее – к «Контану».
– Прекрасно. Вы, Екатерина Степановна, не бойтесь, туда смело можно привести приличную даму.
Девица внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные, невозмутимые лица, с той немного холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве.
И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль: ее серьезно приняли за даму из общества.
У «Контана» заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья были при ярком электрическом свете убийственны, но друзья не замечали этого и, разоблачив девицу, посадили ее на диван.
– Позвольте предложить вам закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров… Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы любите вино?
– Люблю, – тихо сказала девица, смотря на цветочки на обоях.
– Прекрасно. Петерс, ты распорядись.
Весь стол был уставлен закусками. Девице налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную, прозрачную водку. Девице вместо шампанского хотелось водки, но ни за что она не сказала бы этого и молча прихлебывала шампанское и заедала ег
Страница 32
ветчиной и хлебом.На белоснежной скатерти ясно выделялись потертые рукава ее кофточки и грудь, покрытая пухом от боа. Поэтому девица искусственно-равнодушно сказала:
– А за мной один полковник ухаживает… Влюблен – невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.
Друзья изумились.
– Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?
– Никак, они живут в Пскове.
– Вы, вероятно, – сказал участливо Петерс, – приехали в Петроград развлекаться. Я думаю, молодой неопытной девушке в этом столичном омуте страшно.
– Да, мужчины такие нахалы, – сказала девица и скромно положила ногу на ногу.
– Мы вам сочувствуем, – тихо сказал Вика, взял девицу за руку и поцеловал деликатно.
– Послушай, – пожал плечами Петерс. – Может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты ей руки целуешь, а она стесняется сказать… Мы ведь обещали вести себя прилично.
Девица густо покраснела и сказала:
– Ничего… Что ж! Пусть. Когда я у папаши жила, мне завсегда руки целовали.
– Да, конечно, – кивнул головой Петерс, – в интеллигентных светских домах это принято.
– Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки.
– Вы какая-то скучная, – сказал участливо Вика. – Вероятно, у вас мало развлечений. Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой… Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселей выезжать в театры и концерты.
Девица с непонятным беспокойством в глазах встала и сказала:
– Мне пора, спасибо за компанию.
– Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле.
– Ой, нет, нет, не надо! Ради бога, не надо. Ой, нет, нет, спасибо!
Когда девица вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на диван…
…Девица шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.
Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:
– Мм… мамочка! Идем со мной. Девица злобно обернулась.
– Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь. Нельзя порядочной даме на улицу выйти… Сволочь паршивая!
Кривые Углы
Глава первая
приезд
Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова Кривые Углы.
Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, семьдесят лошадьми и восемь пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.
Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до усадьбы Кривые Углы.
Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом.
Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший, густой сад.
Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал.
– Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!
Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.
Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.
Вошел толстый человек в халате и с трубкой. Пососав ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:
– Наверно, это самый учитель и есть! Приехал с чемоданом. Да. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов! Учитель к тебе приехал.
Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.
– Эй, кто есть? Копанчук! Павло! Возьмите его чемодан. А что, учитель, играете вы в кончины?
– Нет, – сказал Поползухин. – А ваш мальчик меня языком дразнил!
– Высеку! Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами… Пойдем… покажу!
Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди.
– Чего ты его тащишь? Опять, верно, со своими проклятыми картами! Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги.
– Здравствуйте, сударыня! Я – учитель Поползухин, из города.
– Ну, что же делать? – вздохнула она. – Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не режь!
– Зачем же мне их резать? – удивился Поползухин.
– То-то я и говорю – незачем. От Бога грех и от людей страм. Пойди к себе, хоть лицо оплесни! Опылило тебя.
Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.
Глава вторая
триумф
На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залиты
Страница 33
чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.
– Учение – очень трудная вещь, – говорил Поползухин. – Вы знаете, что такое тригонометрия?
– Нет!
– Десять лет изучать надо. Алгебру – семь с половиной лет. Латинский язык – десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно! Профессора двадцать тысяч в год получают.
Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина.
– Да, теперь народ другой, – сказал он. – Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?
– Как играть?
– А так… Прислал мне тесть на именины из города граммофон… Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает! Так и стоит без дела.
Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:
– Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря!
– Ну? Играете? Вот так браво!..
Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку.
– Пойдем! Вы нам поиграете. Ну его к бесу, ваш пиджак! После отчистите! Послушаем, как оно это… Жена, жена!.. Иди сюда, бери вязанье, учитель на граммофоне будет играть!
Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.
Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.
– Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер! Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете!
– А вы его не испортите? – испуганно спросил Плантов. – Вещь дорогая.
Поползухин презрительно усмехнулся:
– Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели!
Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.
Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку».
Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка, с хладнокровием опытного, видавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука.
Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил:
– Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли? А ты все по крышам лазишь!.. А ну еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!
В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя.
Потом крадучись пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.
В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.
Глава третья
светлые дни
Для гимназиста Поползухина наступили светлые, безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:
– Ну, сыграйте что-нибудь!.. Очень вас прошу! Чего в самом деле?
– Да ничего сейчас не могу! – манерничал Поползухин.
– Почему не можете?
– А для этого нужно подходящее настроение! А ваш Андрейка меня разнервничал.
– А бес с ним! Плюньте вы на это учение! Будем лучше играть на граммофоне… Ну, сыграйте сейчас!
– Эх! – качал мохнатой головой Поползухин. – Что уж с вами делать! Пойдемте!
Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.
Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени.
И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могуществом учителя – при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.
Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал: Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:
– Принеси-ка мне чего-нибудь поесть! Студня, что ли, или мяса! Да наливки дай!
Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.
– Кушаете? А что, в самом
Страница 34
деле, выпью-ка и я наливки! А ежели вам спать не особенно хочется, пойдем-ка, вы мне поиграете что-нибудь. А?Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.
Глава четвертая
крах
С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:
– Идите, барчук, в дом! Барин просят вас на той машине играть.
– А ну его к черту! – морщился Поползухин. – Не пойду! Скажите, нет настроения для игры!
– Идите, барчук!.. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочут.
– Скажите, вечером поиграю!
Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.
«Выйду ль я на реченьку», – заливался граммофон.
С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.
– Да что ж тут мудреного? – говорил он. – Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится.
– Зачем вы без меня трогали граммофон? – сердито крикнул Поползухин.
– Смотри, какая цаца! – сказал ядовито помещик Плантов. – Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Колонтарев приехал и сразу заиграл. Эх, ты… карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу! То-то здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.
За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:
– Ну, брат, довольно тебе шалберничать… нагулялся!.. Учитель, займитесь!
Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:
– Пойдем!
И они пошли, не смотря друг на друга… По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.
День человеческий
дома
Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с жениной теткой чай. Тетка – глупая, толстая женщина – держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.
– Как вы нынче спали? – спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.
– Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.
– Ах ты Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.
Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо…
– Хорошо. Будем говорить серьезно… Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно – вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал – ликованию и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?
Она обиженно отталкивает от себя чашку.
– Я вас не понимаю…
– Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете… Ей-богу, лично против вас я ничего не имею… простая вы, обыкновенная тетка… Но когда вам нечего говорить – сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства… И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо», – вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?», – хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно…
Мы сидим долго-долго и оба молчим.
Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?
– Дни теперь стали прибавляться, – говорит наконец она, смотря в окно.
– Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?
Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.
– Вы тяжелый грубиян и больше ничего.
– Ну как же так – и больше ничего… У меня есть еще другие достоинства и недостатки… Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.
Тетка плачет, тряся жирным плечом. Я одеваюсь и выхожу из дому.
на улице
Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.
Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:
– Как поживаете, чт
Страница 35
поделываете?И делает движение устремиться дальше. Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:
– Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу… Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать… Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное – оказывается, пустяки… Поставил термометр, а он…
Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:
– Да… Так о чем я, бишь, говорил… Беру зеркало, смотрю в горло – красноты нет… Думаю, пустяки – можно пойти гулять. Выхожу… Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю… От кого бы это? И можете вообразить…
– Извините, – страдальчески говорит Хрякин, – мне нужно спешить…
– Нет, ведь вы же заинтересовались, что я поделываю. А поделываю я вот что… Да. На чем я остановился? Ах, да… Что поделываю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля – встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте, – говорит, – завтра к нам»…
Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих…
Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого – Игнашкина.
Игнашкин никуда не спешит.
– Здравствуйте. Что новенького?
– А как же, – говорю, вздыхая. – Везувий вчера провалился. Читали?
– Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?
– Нет, не курю.
– Счастливый человек. Деньги все собираете?
– Нет, так.
– По этому поводу существует…
– Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» – «Нет». – «Значит, есть домик?» – «Нет». – «Ха-ха!» Да?
– Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..
Я его перебиваю:
– Как поживаете?
– Ничего себе. Вы как?
– Спасибо. До свидания. Заходите.
– Зайду. До свиданья. Спасибо.
Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:
– А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!
– Почему – черти побрали?
– Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.
– Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?
– Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.
Отец
Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.
Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.
Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других… Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы – но тоже они были както ни к чему – делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:
– Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!
– А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.
– Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понимаешь…
– Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты много понимаешь…
Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности – с коммерческой точки зрения – тех операций, которые в магазине происходили.
Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом… Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:
– Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал отец. – Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.
– Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так всем и давать в долг?
– Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.
Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.
– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал,
Страница 36
конфузившись, отец.Я любил книжки, а он купил мне полдюжины какихто голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план – открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.
Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть – покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.
* * *
Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.
– Что это такое? – с беспокойством спросила мать. Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.
– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас поставим его.
Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.
– Ну? – торжествующе обратился отец к окружающим. – Во сколько вы оцените эту штуку?
– Да для чего она? – спросила мать.
– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты – сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?
Алеша – льстец, гипперболист и фальшивая низкопоклонная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:
– Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!
– Ха-ха-ха! – торжествующе захохотал отец. – А ты, Варя, сколько скажешь?
Мать скептически покачала головой.
– Да что ж… рублей пятнадцать за него еще можно дать.
– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.
В монументальный рукомойник налили ведро воды… Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.
– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.
Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас.
Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:
– Вы ничего не понимаете!
У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.
Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била. Но струя не дремала…
Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.
Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала…
* * *
Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье… Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.
То была странная процессия.
Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышу небольшого сарайчика.
– Что это? – с тайным страхом спросила мать.
– Лампа, –
Страница 37
весело отвечал отец.– А я думала – тумба для афиш.
– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.
Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.
– Ну, как думаешь, Алеша… Сколько она стоит?
– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.
– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя? Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.
С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.
– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?
– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.
– Много ты понимаешь! – растерялся отец.
Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.
А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.
Отец стоял перед ней в немом восторге.
Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.
– Что еще? – выскочила мать.
– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.
Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.
По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек…
Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.
Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.
Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку… Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске…
Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.
Часы пригодились нам, как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат… Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.
Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».
Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.
Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.
– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.
– Продала.
– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.
– Три рубля. Только не они дали, а я… Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром…
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:
– Много ты понимаешь! Теперь он умер, мой отец.
Корибу
В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей, и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.
– Вы редактор?
– Редактор.
– Ей-богу?
– Честное слово!
Он замолчал, пугливо посматривая на меня.
– Что вам угодно?
– Кроме шуток – вы редактор?
– Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?
– Не губите меня, – сказал молодой человек. – Если вы сболтнете – я пропал!
Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью – бежать.
Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях кл
Страница 38
ч и сурово сказал:– Э, нет, голубчик! Не уйдешь… Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..
Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.
Я развернул брошенную на стол бумажку. Вот какое странное произведение было на ней написано.
«Африканские неурядицы
Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными – все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья Далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка…
Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы, будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»
Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:
– Вы хотите, чтобы мы это напечатали?
– Да… – робко кивнул он головой.
– Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!
Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:
– Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.
– Какой вздор и какая нелепость, – возмутился я. – К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто – описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было… Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?
– Я думал, так безопаснее…
– А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто – наложил печати?
– А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? – прищурился молодой человек.
– Вы меня извините, – сказал я. – Но тут у вас есть еще одно место – самое чудовищное по ненужности и вздорности… Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?
Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:
– А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так – нука – пусть догадаются! Ха-ха!
На мои глаза навернулись слезы.
– Бедные мы с вами… – прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.
И так долго мы с ним плакали.
И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:
– Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы! И тоже плакали над своей горькой участью.
И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки – и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал… И так плакали мы все.
Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут…
Хлопотливая нация
Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.
Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.
«Это и есть хлопоты», – думал я.
И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.
Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот – в бегстве и бормотании.
С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.
Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.
Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма.
– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.
– Похлопочи? Как так похлопочи?
– Очень просто. Т
Страница 39
писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.
– Да так. Как обыкновенно хлопочут.
Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы… У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.
– Ну, что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я. С этим решением я и поехал в Крым.
* * *
Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму – нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским… Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.
В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:
– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.
– По какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны.
– А по какой причине?
– На основании чрезвычайной охраны!
– Да по ка-кой при-чи-не?!!
– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!
Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.
Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:
– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что – это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли – ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?
Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:
– Могу.
Но вместо этого сказал:
– Удивительная публика… Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.
– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки… Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?
– Нельзя, – сказал губернаторский чиновник.
Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:
– Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру… Я тихий. Разрешите? Можно жить?
Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.
Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:
– Тогда – если вы так хотите – начните хлопотать об этом.
Я с суеверным ужасом поглядел на него.
Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову – не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..
Да, ну вас к…
Я уехал.
* * *
Теперь я совсем сбился:
Человек хочет полетать на аэроплане.
Об этом нужно «хлопотать».
Несколько человек хотят устроить писательский съезд.
Нужно хлопотать и об этом.
И лекцию хотят прочесть о радии – тоже хлопочут. И револьвер купить – тоже.
Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему – мне говорят – об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!
Да я хочу хлопотать!
Почему револьвер купить – нужно хлопотать, а галстук – не нужно? Лекцию о радии прочесть – нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти – не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать, и – о чем не нужно? Почему просто «о радии» – нельзя, а «Радий в чужой постели» – можно?
И сижу я дома в уголку на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголку на диване?) – сижу и думаю:
– Если бы человек захотел себе ярко представить Россию – как она ему представится?
Вот как:
Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».
Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.
Хорошо бы это все взять да изменить…
Нужно будет похлопотать об этом.
Петухов
I
Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.
Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому.
Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были
Страница 40
рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля – Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова – он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла – такую же позу пожелала принять и соседка… а когда она положила свою руку на ручку кресла – их пальцы встретились.
Оба вздрогнули, и Петухов сказал:
– Как жарко!
– Да, – опустив веки, согласилась соседка. – Очень. В горле пересохло до ужаса.
– Выпейте лимонаду.
– Неудобно идти к буфету одной, – вздохнула красивая дама.
– Разрешите мне проводить вас. Она разрешила.
В последнем антракте оба уже болтали, как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.
– Неужели мы так больше и не увидимся? – с легким стоном спросил Петухов. – Ах! Надо бы нам еще увидеться.
Брюнетка лукаво улыбнулась:
– Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем. Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:
– Ах, ах! Умоляю вас – где же мы увидимся?
– Нет, нет, – усмехнулась брюнетка. – Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.
– Ага! – вскричал Петухов. – О, спасибо, спасибо вам.
– Я не знаю – за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.
Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.
Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, – и уехала.
II
Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы. Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:
– Где ты была сегодня вечером?
– В синематографе.
Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:
– Одна?
– Нет, с Марусей.
– С Марусей? Знаем мы эту Марусю!
– Я тебя не понимаю.
– Видишь ли, милая… Мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!
– Александр! Ты меня оскорбляешь… Я никогда не давала повода!!
– Э, матушка! Я не сомневаюсь – ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь – он поднимает, вы встречаетесь взглядами… Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О, да! Пока конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует… Ты кладешь руку на ручку кресла и – согласись, это очень возможно – ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) – вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко», – говорит он. «Да, – простодушно отвечаешь ты. – В горле пересохло…» – «Не желаете ли стакан лимонаду?» – «Пожалуй…»
Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.
Его ревнивый взгляд жег жену.
– Леля, – простонал он. – Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже – негодяй! – при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила – я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь… О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!
– Что с тобой, глупенький? – удивилась жена. – Ведь этого же всего не было со мной…
– Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!
Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.
III
Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.
Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:
– Вы? Каким образом?
– Позвольте быть вашим кавалером?
– О, да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.
Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.
И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.
– Милая! – прошептал он еле слышно. – Как мне хорошо…
– Тссс… – улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. – Таких вещей замужним дамам не говорят.
– Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.
– Вы с ума сошли! А кузина! А… вообще…
– «Вообще» – вздор, а кузину домой отправим.
– Нет, и не думайте! Она меня не ос
Страница 41
авит! Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:– Когда? Когда?
– Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.
– Спасибо!..
– Я не понимаю, за что вы меня благодарите?
– Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!
– Я не понимаю… что вы такое говорите? Что такое – уютно?
– Солнце мое лучистое! – уверенно сказал Петухов.
Приехав домой, он застал жену за книжкой.
– Где ты был?
– Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?
– Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки – прекрасная вещь.
Петухов омрачился.
– Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!
– Что?
– Да, да… Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой. У-у, подлая!
Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.
– Ты… в своем уме?
– О-о, – горько засмеялся Петухов, – к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он, – не будь дурак – сейчас тебе: «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу не согласишься…
Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.
– Не согласишься… «Я, – скажешь ты, – замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной»! Но… змея! Я прекрасно знаю вас, женщин – ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!
Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.
Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.
IV
Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило три часа.
Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.
– Спите? – прошептал он. – Утомились? Ха-ха. Как же… Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия – они утомляют!!
– Милый, что с тобой? Ты бредишь?
– Нет… я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня… Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать – это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба…
– Саша!!
– Что там – Саша!
Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.
– О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту… Ты! Ты – чистая, добродетельная женщина только и находишь в себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот – гибнет все! Ты уже не та моя Леля какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!
Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватающим за душу голосом.
V
Прошло три дня.
Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:
– Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто… Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, – чтобы он написал тебе коротко и ясно: «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса – это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и – не буду скрывать – даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»
Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:
– А что – кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!
Случай с Патлецовым
Глава первая
ключи
Однажды летом, в одиннадцать часов вечера, супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от своей квартиры и ругались.
– В конце концов, – пробормотал Патлецов, – это уже удивительно: стоит только поручить что-либо женщине – и она приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже и глупее.
– Молчал бы лучше, – угрюмо отвечала жена, – уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.
Муж горько, страдальчески засмеялся.
– В огороде бузина, а в Киеве дядька… Представьте себе, – обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как никого другого поблизости не было, – п
Страница 42
едставьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с собой… Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне двери. Как вам это покажется! И, представьте, чем эта женщина оправдывается. «А вы, – говорит, – картежники». Логично, доказательно, всеобъемлюще!Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спросила:
– Скажи: чего ты от меня хочешь?
– Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квартиру.
Жена задумалась.
– Это ты виноват. Ты отпустил прислугу до завтра – ты и виноват. Если бы она была внутри – она бы открыла нам.
– Видели? – обратился к своему единственному другу – столбику – Патлецов и заскрежетал зубами. – Я виноват, что отпустил прислугу. А она ее нанимала, – значит, она и виновата. А та заперла черный ход, – она, значит, и виновата. А какой-то глупый англичанин изобрел английский замок, – он и виноват.
– Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж. Если бы не вышла – ничего бы не было.
– Что?.. Как вам это нравится?
После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, ни площадке лестницы, у дверей.
Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично. За второй проект автор его удостоился краткого слова:
– Ду-рак!
– Ну, что же, – кротко улыбнулся Патлецов. – Если я дурак, а ты умная, – придумай сама выход. А я вздремну.
Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.
– Ты чего?
– Мне страшно. Ступай за слесарем.
– Да какой же слесарь в двенадцатом часу… Все честные слесаря спят…
– Бери хоть нечестного. Мне все равно. Муж улыбнулся.
– Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками – он оборудовал бы это моментально.
– Поймай вора.
– Что ты, милая!.. Как же это так… поймай вора! Что это – блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?
И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в переулке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся самой печальной и скверной репутацией.
Сначала то, что думал Патлецов, показалось ему неимоверно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполнимее.
Он сказал, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.
Глава вторая
«назарет»
Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную липкую дверь.
Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему.
– Не могу я навести у вас справочку?
– Ну, – сурово и подозрительно кивнул одноглазый.
– Мне нужен слесарь. Нет ли здесь… между вашими… гостями слесаря?
– А вам для чего?
– Ключи от дверей потеряли. В квартиру не могу попасть.
Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.
– Бог их знает… Все они слесаря так или иначе. Ходят тут всякие.
– Да вы мне только укажите на кого-нибудь… а я сам поговорю. Я заплачу ему.
– Вот туда идите, – ухмыльнулся буфетчик. – Видите, в углу роятся. Только меня не путайте. Может они и не возьмутся. Мне-то что!
В углу сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.
Один носил странное имя – Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.
– Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?
– Да мы всегда честно рубли зарабатываем, – с болезненным самолюбием вора проворчал Аркашенька.
– И прекрасно. Мне нужен слесарь… Ключи от дверей забыл. Так нужно открыть.
Все трое, как куклы, замотали головами.
– Не занимаемся.
– Как же так? Мне сказали, что кто-то из вас слесарь.
Мишка Саматоха, молодой, бритый парень с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:
– Да как же так: ночью идти в чужую квартиру, отмыкать какие-то двери – бог его знает, что оно такое… Хорошо ли это?
– Да я хозяин квартиры, – загорячился Патлецов. – Понимаете, хозяин квартиры. И я вам разрешаю… Мало того, я даже прошу вас об этом. Вы меня выручите… Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?
– Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? – спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.
– Заперто уже все. Господи! А мне сказали, что тут, в «Назарете», можно найти… этих… слесарей… безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру! Мы бы с женой вам были очень благодарны, чрезвычайно.
Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина, будут ему, Са
Страница 43
атохе, очень благодарны.А когда Патлецов, заметив колебания раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:
– Идите вперед. Я… сбегаю за инструментом и догоню вас.
Глава третья
мишка саматоха
Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:
– Нашел. Вот он сейчас откроет.
У Саматохи в сукне были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический звон. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил суконку на подоконник и развернул ее.
– О-ой, что это, – с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, – зачем так много?
– Инструменты, сударыня, – снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха. – Разные тут.
– А это что?
– Это английский лобзик, – стал объяснять польщенный вниманием Мишка. – Пилочка такая… Преимущественно для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.
– А зачем чтоб не слышно было? – спросила жена. Патлецов и Саматоха перекинулись быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.
– Это, изволите ли видеть, американский ключ – последнее слово техники. Со вставными бородками: можно вставить какую угодно, вот набор бородок.
Невыносимо алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста.
– Ну, а как же вы откроете нашу дверь? – спросил Патлецов. – Этим, что ли?
– Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите…
Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворнее и с блеском.
– Только он не будет уже больше годиться, – предупредил он, – ничего? Английские замки нужно, видите ли, ломать снаружи, чтобы открыть.
– Все равно, – нетерпеливо сказал Патлецов. – Лишь бы попасть домой.
– Слушаюсь!
Послышался треск. Саматоха, с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.
У своего плеча он слышал дыхание госпожи Патлецовой, с любопытством глядевшей на его работу.
И сам Патлецов был неимоверно заинтересован. Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.
– Пожалуйте-с!
Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструменты Саматоху и сказал ему:
– Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.
Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один.
Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась и в ее освещенном четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городовой.
– А-ах! – крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.
– Вот что, милый мой, – строго обратился к нему Патлецов. – Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком большая персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оного. Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении. Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом – благодарю покорно! Да я ночей не буду спать!..
Когда Саматоху уводили, он уже не старался тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.
Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.
Яд
(Ирина Сергеевна Рязанцева)
Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какуюто ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.
«Милые руки, – с умилением подумал я. – Милые, дорогие мне глаза!»
И неожиданно я сказал вслух:
– Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!
Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятьях.
– Наконец-то! – сказала она, слабо смеясь. – Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?
– Молчи! – сказал я.
Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:
– Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая – помнишь? – тоже так, со слабо сорвавшимся криком «наконец-то» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском… О, как я люблю тебя.
На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.
* * *
Жизнь наша была красива и безоблачна.
Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего матерьяла.
Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельс
Страница 44
во, что Ирина смотрела в это время в зеркало.Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:
– Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?
– Видишь ли, – сконфуженно объяснила она, – ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.
– Как… должен? – изумился я. – Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама…
– Да, такого правила, конечно, нет… но как-то странно, когда мужчины обвивают женскую шею.
Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.
Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея – узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:
– Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека… И потом… (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того – хотела бы сама завоевать для тебя славу.
Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его».
И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».
– Странно, – сказал я сам себе.
А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.
* * *
С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.
Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»… А Ирину я и не чувствовал.
Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала грандкокет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-кокетским способом. Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то – ха-ха! – висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:
– Я тебя не обвиняю… Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека… Но я вижу далеко, далеко… – Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: – Нет! Ближе… совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть…
– Замолчи! – нервно говорил я. – Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов – Базаровского… Верно?
Она болезненно улыбалась.
– Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо мне светлую, весеннюю память.
– Не светлую, – хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, – а «лучезарную».
Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?
Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.
А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.
* * *
Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:
– Уходишь?
Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.
– Слушай! – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Прекратится ли когда-нибудь это безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово – всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.
– А кто же его говорит? – испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.
– Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходят полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодя
Страница 45
князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.
– Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись… Будем говорить откровенно… На сцене, – пойми ты это, – такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!
На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:
– Я люблю тебя! Ты опять вернулся!
Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ непринятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся», – пропустил я мимо ушей.
* * *
Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду. Ирина была неузнаваема.
Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!» – выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).
А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками пребольшой нос и подмигнув сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!»
Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это правилось больше прежнего: «О, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!»
Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.
Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.
Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».
Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:
– Здравствуй, старый, толстый дурачок! Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.
* * *
Теперь я счастливый человек.
Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.
И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.
Она говорила кому-то, очевидно, прачке:
– Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете – не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.
Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.
– Ирина, – шептал я, – настоящая Ирина.
А впрочем… Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..
Смерть девушки у изгороди
Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе, у изгороди, стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль.
Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства.
Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую, издерганную душу.
Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города.
С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели.
Прямая им противоположность – городская женщина. Глаза ее ни на секунду не устремляются в беспредельную даль. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же, около вас… Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть… Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом…
О, как прекрасны девушки у изгороди!
У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин.
На этой
Страница 46
ородской женщине я изучил женщин вообще – и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным условием – не считать ее за человека.
Сначала она призадумалась:
– А кем же ты будешь считать меня?
– Я буду считать тебя существом выше человека, – предложил я, – существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама – какой же ты человек?
Кажется, она обиделась.
– Очень странно! Если у меня нет усов и бороды…
– Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины, – это вздор. Просто мы разные – и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы… Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом – ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей.
– Ну, поцелуй меня, – сказала женщина.
– Это можно. Сколько угодно. Мы поцеловались.
– А ты меня будешь уважать? – спросила она, немного помолчав.
– Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать – ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.
И она стала жить у меня.
Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.
Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком.
То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз – когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.
– Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности – кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?
– Ты глуп.
Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ног не могли; корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.
Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.
Цель, к которой он при этом стремится, – сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.
«Выдумаю-ка я для них башмаки», – решил в пылу своей работы этот таинственный человек.
За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.
«Гм, – думает этот человек, – башмак хорошо-с!»
Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц, и – бедная, доверчивая, обманутая женщина обута.
«Ничего, – злорадно думает этот грубый таинственный человек. – Сносишь. Не подохнешь… Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие, плотные. Хорошо-с.
Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра».
И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается.
«Носи, носи! – усмехается суровый незнакомец. – Я тебе и шляпку выдумаю. И кофточку, которая застегивается сзади. И пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом подлецом себя держит».
Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.
– Вот, – сказала мне продавщица, – модная вещь.
В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.
– Что это?
– Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки.
– А есть у вас клей, – спросил я с тонкой иронией, – для приклеивания на место
Страница 47
выпавших волос?– На будущей неделе получим, monsieur. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?
– Благодарю вас, – холодно сказал я, – я предпочитаю сделать это с помощью мясорубки или ротационной машины.
Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.
* * *
Живя у меня, городская женщина проводила время так.
Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был невиноградный сезон, то что-нибудь другое – плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты.
Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции.
– Почему тебя интересуют именно турки? – спросил я однажды.
– Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?
Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне.
Через пять минут она заливалась слезами:
– Зачем ты ее купил?
– А что?
– Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!
– Ну, еще что?
– Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты глубоко в этом раскаешься.
– В чем?
– В этом.
Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.
– Луша, – спрашивала горничную жившая у меня женщина, – зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?
– Он не заходил.
– Ступайте.
– Это еще что за штуки? – кричал я сурово.
– Я хотела вас поймать. Гм… Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим.
Потом она еще плакала.
– Дай мне слово, что когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство.
* * *
Недавно я пришел к ней и сказал:
– Ну вот я и разлюбил тебя.
– Не может быть! Ты лжешь. Какие вы, мужчины, негодяи!
– Мне не нравятся городские женщины, – откровенно признался я. – Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня если не физически, то взглядами, желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок… К черту приборы для вынимания соринок из глаз!
– Ну, поцелуй меня, – сказала внимательно слушавшая меня женщина.
– Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.
– И буду. Подумаешь, какой красавец выискался! Думает, что кроме его и нет никого. Не беспокойся, милый! Поманю – толпой побегут.
– Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай.
* * *
На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь… Я упал перед ней на колени и заплакал:
– Я устал, я весь изломан. Исцели меня. Ты должна сделать чудо.
Она побледнела и заторопилась:
– Встаньте. Не надо… Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы.
– У меня было прошлое. У меня была женщина.
– Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне – у тебя не было счастья.
Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках:
– Не надо, не надо!
Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил, – с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.
Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное.
Мы уже миновали задумчивые, зеленые поля и въехали в шумный, громадный город.
– Она здесь? – неожиданно спросила меня моя спутница.
– Милая! Раньше ты этого не говорила. И потом – это невозможно. Я ведь сам от нее ушел.
– Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?
– Да так просто.
– Так. Но ведь ты мог смотреть на меня!
Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины.
– Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков.
– Зайдем. И мне нужно кое-что. В магазине она спросила:
– У вас есть маленькие кружевные зонтики? Я побледнел.
– Милая… зачем? Они так неудобны… лучше большой.
– Большой – что ты говоришь! Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики
Страница 48
Это не деревня. Послушайте. У вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках… не те, выше, еще выше.Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов… А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:
Modes et robes.[6 - Шляпы и платья (фр.).]
Девушка отошла от изгороди и – умерла.
История болезни Иванова
Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.
– Что с тобой? – спросила жена.
– Плохо! – сказал Иванов. – Я левею.
– Не может быть! – ахнула жена. – Это было бы ужасно… Тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.
– Нет… что уж скипидар! – покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. – Я левею!
– С чего же это у тебя, горе ты мое?! – простонала жена.
– С газеты. – Встал я утром – ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету…
– Ну?
– Смотрю, а в ней написано, что в Минске губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха… И вдруг – чувствую я, что мне его не хватает…
– Кого это?
– Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону… Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!
– Ты б молочка выпил… – сказала жена, заливаясь слезами.
– Какое уж там молочко… Может, скоро баланду хлебать буду!
Жена со страхом посмотрела на Иванова.
– Левеешь?
– Левею…
– Может, доктора позвать?
– При чем тут доктор?!
– Тогда, может, пристава пригласить?
Как все больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:
– Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.
– Дай-то Бог, – всхлипнула жена.
Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.
Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.
* * *
Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим… Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.
Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:
– Еще полевел! Что оно будет – не знаю!
– Опять небось газету читал, – вскочила жена. – Говори! Читал?
– Читал… В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры…
Жена заплакала и побежала к тестю.
– Мой-то… – сказала она, ломая руки. – Левеет.
– Быть не может?! – воскликнул тесть.
– Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка, и полевел!
– Надо принять меры, – сказал тесть, надевая шапку. – Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.
* * *
Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.
Вошел пристав.
Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:
– Ну, как наш дорогой больной?
– Левеет!
– А-а! – сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза. – Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность…
Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:
– Как вы себя сейчас чувствуете?
– Мирнообновленцем!
Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:
– Не готово еще… Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?
– Октябристом, – вздохнул Иванов. – До обеда – правым крылом, а после обеда – левым…
– Гм… плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками…
Жена упала тестю на грудь и заплакала.
– Я, собственно, – сказал Иванов, – стою за принудительное отчуждение частновладельч…
– Позвольте! – удивился пристав. – Да это кадетская программа…
Иванов с протяжным стоном схватился за голову.
– Значит… я уже кадет!
– Все левеете?
– Левею. Уходите! Уйдите лучше… А то я на вас все смотрю и левею.
Пристав развел руками… Потом на цыпочках вышел из комнаты.
Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робинзона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.
– Вот… почитай. Может, отойдет.
* * *
Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.
Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал…
– Господи! – вскрикнула несчастная женщина. – Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены… Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на ме
Страница 49
я такими глазами… Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?– Об исключении Колюбакина… Ха-ха-ха! – проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. – Отречемся от старого ми-и-и…
В комнату вошел тесть.
– Кончено! – прошептал он, благоговейно снимая шапку. – Беги за приставом…
* * *
Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми. В комнату вошел пристав.
Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:
– Готово! Доспел.
Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.
Октябрист Чикалкин
К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюге, с целью сообщения избирателям результатов о деятельности его, Чикалкина, в Думе, не может быть разрешено.
– Почему? – спросил изумленный Чикалкин.
– Потому. Неразрешенные собрания воспрещаются!
– Так вы бы и разрешили! Околоточный снисходительно усмехнулся:
– Как же это можно: разрешить неразрешенное собрание. Это противозаконно.
– Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть неразрешенным, – сказал, подумавши немного, Чикалкин.
– Так-то оно так, – ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина. – Да как же его разрешить, если оно пока что неразрешенное? Посудите сами.
– Хорошо, – сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин. – Мы внесем об этом в Думе запрос.
– Распишитесь, что приняли к сведению, – хладнокровно кивнул головой околоточный.
* * *
Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате…
– Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно! Запрос надо формулировать так: «Известно ли… и тому подобное, что администрация города Битюга своими незакономер…»
Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.
– Гм. Резковато. За версту кадетом несет… Может, так: «Известно ли и тому подобное, что ошибочные действия администр…» А что такое ошибочные? Ошибка – не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я, в самом деле, дурак… Запрос! Запрос! Не буду же я один его вносить. А фракция – вдруг скажет: несвоевременно! Ну конечно, скажет… Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты… Право! Напишу министру этакое официальное письмецо…
* * *
Октябрист Чикалкин сел за стол.
«Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей…»
Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.
«… что произвол властей…»
В столовой гулко пробило половину третьего.
«…что произвол властей, которые…»
Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.
«…что произвол властей, которые…»
Стало смеркаться.
«Которые… произвол, котор…»
И вдруг Чикалкину ударило в голову:
«А что, если…»
Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.
– Положим… Не может быть!.. А вдруг! Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и, наконец, всплеснув руками, сказал:
– Ну конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае – припугнуть.
* * *
Чикалкин оделся и вышел на улицу.
– Извозчик! К исправнику! Знаешь?
– Господи! – с суеверным ужасом сказал извозчик. – Да как же не знать-то! Еще позавчерась оны меня обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека, да не знать. Скажут такое.
– Что же он – строгий? – спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.
– Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие, будем прямо говорить – строгий человек. И-и! Порох! Чиновник мне один анадысь сказывал… Ему – слово, а он сейчас ножками туп-туп да голосом: «В Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!»
– Что ж он – всех так? – дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.
– Да уж такие господа… Строгие. Если что – не помилуют.
Октябрист Чикалкин помолчал.
– Ты меня куда везешь-то? – неожиданно спросил он извозчика.
– Дык сказывали – к господину исправнику…
– Дык сказывали! – передразнил его Чикалкин. – А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю – вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!
* * *
– Да, брат, – заговорил Чикалкин, немного успокоившись. – В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики, ему говоришь туда, а он тебя везет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили. Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они у меня! Это уж такая у нас полиция – ей бы только придраться
Страница 50
Уже… приехали?.. Что так скоро?– Старался, как лучше.
– Могу я видеть пристава? – спросил Чикалкин, входя. – То есть… господина пристава… можно видеть?
– Пожалуйте.
– Что нужно? – поднялся навстречу Чикалкину грузный человек с сердитым лицом и длинными рыжими усами.
– Я хотел бы этого… спросить вас… Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога.
– Э, черт! – отрывисто вскричал пристав. – Шляются тут по пустякам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, дубина стоеросовая! Проводи.
Мой сосед по кровати
Гостей на этой даче было так много, что я не всех знал даже по фамилиям. В 2 часа ночи вся эта усталая, нашумевшая за день компания стала поговаривать об отдыхе. Выяснилось, что ночевать остаются восемь человек – в четырех свободных комнатах.
Хозяйка дома подвела ко мне маленького приземистого человечка из числа остающихся и сказала:
– А вот с вами в одной комнате ляжет Максим Семеныч.
Конечно, я предпочел бы иметь отдельную комнату, но по осмотре маленького незнакомца решил, что если уж выбирать из нескольких зол, то выбирать меньшее.
– Пожалуйста!
– Вы ничего не будете иметь против? – робко осведомился Максим Семеныч.
– Помилуйте… Почему же?
– Да видите ли… Потому что компаньон-то я тяжелый…
– А что такое?
– Человек я пожилой, неразговорчивый, мрачный, все больше в молчанку играю, а вы паренек молодой, небось душу перед сном не прочь отвести, поболтать об этом да об том?
– Наоборот. Я с удовольствием помолчу. Я сам не из особенно болтливых.
– А коли так, так и так! – облегченно воскликнул Максим Семеныч. – Одно к одному, значит. Хе-хе-хе…
Когда мы пришли в свою комнату и стали раздеваться, он сказал:
– А ведь знаете, есть люди, которые органически не переносят молчания. Я потому вас и спросил давеча. Меня многие недолюбливают за это. Что это, говорят, молчит человек, ровно колода…
– Ну, со мной вы можете не стесняться, – засмеялся я.
– Ну, вот спасибо. Приятное исключение…
Он снял один ботинок, положил его под мышку, погрузился в задумчивость и потом, улыбнувшись, сказал:
– Помню, еще в моей молодости был случай… Поселился я со знакомым студентом Силантьевым в одной комнате… Ну, молчу я… день, два – молчу… Сначала он подсмеивался надо мной, говорил, что у меня на душе нечисто, потом стал нервничать, а под конец ругаться стал… «Ты что, – говорит, – обет молчания дал? Чего молчишь, как убитый?» – «Да ничего», – отвечаю. «Нет, – говорит, – ты что-нибудь скажи!» – «Да что же?» Опять молчу. День, два. Как-то схватил он бутылку да и говорит: «Эх, – говорит, – с каким бы удовольствием трахнул тебя этой бутылкой, чтобы только от тебя человеческий голос услышать». А я ему говорю: «Драться нельзя». Помолчали денька три опять. Однажды вечером раздеваемся мы перед сном, вот как сейчас, а он как пустит в меня сапогом! «Будь ты, – говорит, – проклят отныне и до века. Нет у меня жизни человеческой!.. Не знаю, – говорит, – в гробу я лежу, в одиночной тюрьме или где. Завтра же утром съезжаю!» И что же вы думаете? – Мой сосед тихо засмеялся. – Ведь сбежал. Ей-богу, сбежал.
– Ну, это просто нервный субъект, – пробормотал я, с удовольствием ныряя в холодную постель.
– Нервный? Тогда, значит, все нервные! Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня такая невеста была. Сначала говорила мне: «Мне, – говорит, – нравится, что вы такой серьезный, положительный, не болтун». А потом, как только приду – уже спрашивать начала: «Чего вы все молчите?» – «Да о чем же говорить?» – «Как! Неужели не о чем? Что вы сегодня, например, делали?» – «Был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал». – «Мне, – говорит, – страшно с вами. Вы все молчите…» – «Такой уж, – говорю, – я есть – таким меня и любите». Да где там! Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сиди-ит, разливается! Я, говорит, видел и то и се, бывал и там и тут, и бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, и со значением или без значения? И сколько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно… А она все к нему так и тянется, так и тянется… Мне-то что… сижу – молчу. Юнкер на меня косо посматривает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться… Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. «Вам, – говорит, – чего тут надо?» – «Как чего? Марью Петровну хочу видеть». – «Пошел вон! – говорит мне этот проклятый юнкеришка. – А то я, – говорит, – тебя так тресну, если будешь еще шататься». Хотел я возразить ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери: «Вы мне, – говорит, – не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму, какая разница…» Дура! Взял я да ушел.
Я сонно засмеялся и сказал:
– Да-а… История! Ну, спокойной ночи.
– Приятных снов! Вообще, у мужчины хотя логика есть по крайней мере. А женщина иногд
Страница 51
так себя поведет… Дело прошлое – можно признаться – был у меня роман с одной замужней женщиной… И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно! За то, видите ли, «что я очень молчалив и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюся»… Три дня она меня только и вытерпела… Взмолилась: «Господи, Создатель! – говорит. – Пусть лучше будет вертопрах, хвастунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, – говорит, – со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, – говорит, – и чтобы мои глаза тебя не видели отныне и до века!» И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях… Вот тебе и разговорчивость! После скандал вышел.– Действительно, – поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки. – Ну, спите! Вы знаете, уже половина четвертого.
– Ну? Пора на боковую.
Он неторопливо снял второй сапог и сказал:
– А один раз даже незнакомый человек на меня освирепел… Дело было в поезде, едем мы в купе, я, конечно, по своей привычке, сижу молчу…
Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню.
– …Он сначала спрашивает меня: «Далеко изволите ехать?» – «Да». – «То есть как – да?»…
– Хррр-пффф!
– Гм! Что он, заснул, что ли? Спит… Ох, молодость, молодость. Этот студент бывало тоже, что со мной жил… Как только ляжет – сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать… Со мной-то не наговоришься – хе-хе!
Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал:
– Вы говорите, что вы такой неразговорчивый. Однако теперь этого сказать нельзя.
Он недоумевающе повернулся ко мне:
– Почему?
– Да вы без умолку рассказываете.
– Я к примеру рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди… Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается: «Грешен?» – «Грешен». – «А чем?» – «Мало ли!» – «А все-таки?» – «Всем грешен». Молчим. Он молчит, я молчу. Наконец…
– Слушайте! – сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели. – Сколько бы вы ни говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю! И чем вы больше мне будете рассказывать – тем хуже.
– Почему? – спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет. – Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор… Зовет меня к себе… Настроение у него, очевидно, было самое хорошее… «Ну, что, – спрашивает, – новенького?» – «Ничего». – «Как ничего?» – «Да так – ничего!» – «То есть позвольте… Как это вы так мне…»
– Я сплю! – злобно закричал я. – Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи!
Он развязал галстук.
– Спокойной ночи. «…Как это вы так мне отвечаете, – говорит, – ничего! Это невежливо!» – «Да как же иначе вам ответить, если нового ничего. Из ничего и не будет ничего. О чем же еще пустой разговор мне начинать, если все старое!» – «Нет, – говорит, – все имеет свои границы… можно, – говорит, – быть неразговорчивым, но…»
Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая, мягкая шуба, покрыл собою все.
* * *
Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза.
Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеныча, свернувшегося под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок:
– «Я, – говорит, – буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного, безгласного идола. Ну, чего, чего вы молчите?» – «Да о чем же мне, Липочка, говорить?»
Законный брак
(Стихотворение в прозе)
На берегу суетилась кучка людей…
Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину, которая лежала, худая, мокрая в купальном костюме, с закрытыми глазами и сжатыми тонкими губами.
– В чем дело? – спросил я.
– Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.
– Нужно растереть ее, – посоветовал я.
На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он махнул рукой и сказал:
– Не стоит. Все равно ничего не поможет.
– Да как же так… Попробуйте устроить искусственное дыхание… Может, отойдет.
– Мм… не думаю. Не стоит и пробовать, – сказал толстяк, искоса поглядывая на захлебнувшуюся.
– Но ведь нельзя же так… сидеть без толку. Пошлите за доктором!
– Стоит ли, – сказал толстяк. – До доктора три версты, да еще, может, его и дома нет…
– Но… попытаться-то можно?!
– Не стоит и пытаться, – возразил он. – Право, не стоит.
– Я удивляюсь… Тогда одолжите нам вашу простыню: попробуем ее откачать!
– Да что ж ее откачивать, – сказал толстяк. – Выйдет ли толк? Все равно уж… Будем считать ее утонувшей… Право, зачем вам затрудняться…
– Вы жалкий, тупой эгоист! – сердито закричал я. – Небось если бы это был вам не чужой человек, а жена…
Он угрюмо посмотрел на меня.
– А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть жена… Моя жена!
Робинзоны
Когда корабль тонул, спаслись только двое:
Павел Нарымский – ин
Страница 52
еллигент.Пров Иванов Акациев – бывшй шпик.
Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.
Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:
– Ваш паспорт!
Голый Нарымский развел мокрыми руками:
– Нету паспорта. Потонул. Акациев нахмурился.
– В таком случае я буду принужден… Нарымский ехидно улыбнулся:
– Ага… Некуда!..
Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.
* * *
Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом.
Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:
– Ага! Попался! Вы это что делаете? Нарымский улыбнулся:
– Предварилку строю.
– Нет, нет… Это вы дом строите?! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?
– Ничего я не знаю.
– А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?
– Отстанете вы от меня?..
– Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.
Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.
Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.
Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.
Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.
Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.
Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:
– Ага! Попался… Вы имеете разрешение на право ношения оружия?
Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:
– Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами.
– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела.
– Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!
– За находку вы имеете право лишь на одну треть… – начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охотиться!
– Почему это?
– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?
– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский.
Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:
– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.
– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!
Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.
* * *
Возвращался Нарымский другой дорогой.
Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.
Приблизившись, прочел:
«Езда по мосту шагом».
Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:
«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются…»
Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.
– Что вам угодно?
– Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений…
– А предписание вы имеете? – лукаво спросил Нарымский.
Акациев тяжко застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.
Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:
– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству – виновные подвергаются…
Нарымский сладко спал.
* * *
Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.
Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.
Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.
– Вы… живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.
– Жив. – Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. – Скажите… Вот вы рисковали из-за меня жизнью… Спасли меня… Вероятно, я все-таки дорог вам, а?
Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный
Страница 53
морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, – и просто, без рисовки, ответил:– Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.
И, помолчав, добавил искренним тоном:
– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.
«Аполлон»
Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу… По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.
А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.
– Как же он… называется? – растерянно спросил я.
– Да ведь заглавие-то на обложке!
Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:
– Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет, – я буду свято хранить его.
– Здесь нет секрета, – сказал приказчик. – Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего… Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет, как по маслу.
– Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..
Приказчик призадумался.
– Аполлон – бог красоты и света, а ящерица – символ чего-то скользкого, противного… Вот она, очевидно, и пронзена богом света.
Мне понравилась эта замысловатость.
Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов…
Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.
* * *
Первая статья, которую я начал читать, – Иннокентия Анненского, – называлась «О современном лиризме». Первая фраза была такая:
«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро…»
Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку… Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну – махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.
Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:
«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов…»
Это было до боли обидно.
Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»…
* * *
Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».
Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:
«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».
Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.
«Действительно! – думал я. – Как мы живем… Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены… Нет, решительно, обетные шествия и плясы – вот то, что выведет нас на новую дорогу».
Дальше автор говорил:
«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу…»
«Вот оно! – подумал я. – Начинается!»
У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье: «О театре».
* * *
Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.
Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жаловании у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»… И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре – простое глазение на все происходящее?..
Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.
* * *
Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.
Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.
– Господа! – предложил я. – Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!
Мое предложение вызвало недоумение.
– То есть?..
– В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь… Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так… Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа… Нельзя же так!..
Гости растерянно опустили сплет
Страница 54
нные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.– Почему вам взбрела в голову такая идея – танцевать? – сухо спросил хозяин дома. – Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла – согласитесь сами…
Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:
– А поэта Бунина в академики выбрали… Слышали? Я пожал плечами.
– Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов…
Хозяйка побледнела.
А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:
– Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно…
Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:
– То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело… Благодарю вас, не беспокойтесь… Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек…
* * *
По улице я шагал с тяжелым чувством.
– Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!
Огорченный, я зашел в театр.
На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.
– Так – жаловаться?! – гремел городничий.
Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.
– …Жаловаться? Архиплуты, протобестии…
Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:
– …Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что…
Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь…
Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:
– Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?.. Я попытался оправдаться:
– Тирсы уж очень примахались, господин околоточный…
– Знаем мы вас, – скептически сказал околоточный. – Напьются, а потом – тирсы!..
Неизлечимые
«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».
(Книжн. Известия)
Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.
– В чем дело?
– Вещь!
– Которая?
– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть, отдам!
Издатель нахмурил брови.
– Повесть?
– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу, две-три выдержки.
Писатель развернул рукопись.
«…Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте…»
– Еще что? – сухо спросил издатель.
– Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел… На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди и все заверте…»
– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.
– А… еще… вот… Зззаб… бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах… Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте…»
– Не надо, – сказал издатель.
– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.
– Не надо. Идите, идите с богом.
– В-вам… не нравится? У… У меня другие места есть… Внучек увидел бабушку в купальне… А она еще была молодая…
– Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия и все заверте…»
– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. – Действительно, так и есть у меня.
– Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.
Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:
– А где тут у вас корзина?
– Вот она, – указал издатель.
Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:
– О чем нужно?
– Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных…
– А аванс дадите?
– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!
– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.
* * *
Через неделю издатель Залежалов получил дв
Страница 55
рукописи. Были они такие:I
боярская проруха
Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.
Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.
– Ой, ты, гой, еси, – воскликнул он на старинном языке того времени.
– Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте…
II
мухи и их привычки
(Очерки из жизни насекомых)
Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна. Звали ее по-мушиному – Лидия.
Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим… Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте…
Четверг
В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:
– Едете к Пылинкиным?
– А что? – спросил, покривившись, Андромахский. – Разве сегодня четверг?
– Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали, и все еще не можете запомнить.
Андромахский саркастически улыбнулся.
– Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-те Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников, – не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то – что мы, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! «Нет, скажешь, не был». – «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»
Ляписов засмеялся:
– Не скажете!
– Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какуюто босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане…» – «Ах, – скажет игриво m-me Пылинкина, – вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей – кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники? «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чаишко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом попахивает… И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны. Ляписов вынул часы:
– Однако уже скоро девять!
– Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются… Одну минуточку.
* * *
В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.
M-те Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:
– Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?
– Благодарю вас! – ласково наклонил голову Андромахский. – Не откажусь.
– А мы с мужем думали, что встретим вас вчера…
– Где? – спросил Андромахский.
– Как же! В Соляном Городке. Грудастов читал о Пшебышевском.
На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.
– Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты, вообще, мельком просматриваю.
– В газетах теперь нет ничего интересного, – сказал из-за угла чей-то голос.
– Репрессии, – вздохнула хозяйка. – Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?
– Не о
Страница 56
кажусь, – поклонился Ляписов.– Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.
– Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное… Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?
– Хорошенькая? – игриво спросил Андромахский. Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой.
– Ох, эти мужчины! Им бы все только – хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.
– Ну, нет, – сказал Ляписов. – Вейнингер держится обратного мнения… У него ужасное мнение о женщинах…
– Есть разные женщины и разные мужчины, – послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. – Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.
– У меня был один знакомый, – сказала полная дама. – Он был кассиром. Служил себе, служил и – представьте – ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!
– А я против женского равноправия! – сказал господин с густыми бровями. – Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера – кухня!
– Извините-с! – возразила хозяйка. – Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!
– Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины – все изящное, женственное.
– А, по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое – ноги толстые, и сама скачет, как козел!
– А мне нравится! – сказал маленький лысый человек. – Это танцы будущего, н они открывают новую эру в искусстве.
– Чашечку чаю! – предложила хозяйка Андромахскому. – Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?
– Мерси. Я, вообще, не пью. Спиртные напитки вредны.
Голос из угла сказал:
– Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку – это не может быть вредным.
– Ничем не надо злоупотреблять, – сказала толстая дама.
– Безусловно. Все должно быть в меру, – уверенно ответил Ляписов.
Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:
– Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.
На лице хозяйки выразился ужас.
– Уже?!! Посидели бы еще…
– Право, не могу.
– Ну, одну минутку!
– С наслаждением бы, но…
– Какой вы, право, нехороший… До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.
Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог – лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.
Он оделся и вышел.
* * *
Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.
– Что за черт?
Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово – так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл…
– Куда это он так вскочил? – спросил голос толстой дамы.
– К жене, – отвечал голос Ляписова. M-те Пылинкина засмеялась.
– К жене! С какой стороны?!
– Что вы! – удивилась толстая дама. – Разве он такой?..
– Он?! – сказал господин с густыми бровями. – Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной – с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?
– В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, – сказал лысый старичок.
– К кому?
– Не к кому, а к чему… К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!
Все рассмеялись.
– Куда же вы? – послышался голос хозяйки.
– Я и так уже засиделся, – отвечал голос Ляписова. – Нужно спешить.
– Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.
* * *
Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.
– Тссс!.. – прошептал Андромахский, указывая на окно. – Слушайте! Это очень любопытно…
– Какой симпатичный этот Ляписов, – сказала хозяйка. – Не правда ли?
– Очень милый, – отвечал господин с густыми бровями. – Только вид у него сегодня был очень расстроенный.
– Неприятности! – послышался сочувственный голос толстой дамы.
– Семейные?
– Нет, по службе. Все игра проклятая!
– А что, разве?..
– Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?
– Проклятая баба, – прошептал изумленный Ляписов. – Что она такое говорит!
– Хорошее оконце! – улыбнулся Андромахский.
– …Куда же вы?! Посидели бы еще!
– Не могу-с! Время уже позднее, – послышался голос лысого
Страница 57
осподина. – А ложусь-то я, знаете, рано.– Какая жалость, право!
* * *
На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.
Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.
– Сейчас о вас будет. Слушайте!
– Я никогда не встречала у вас этого господина, – донесся голос толстой дамы. – Кто это такой?
– Это удивительная история, – отвечала хозяйка. – Я удивляюсь, вообще… Представили его мне в театре, а я и не знаю: кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину, между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.
– Ах ты дрянь этакая, – прошептал огорченно лысый старичок. – Если бы знал – никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек, – обратился он к Андромахскому, – эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ейбогу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!
– А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю 20 бутылок пива в день? – сурово спросил старичка Андромахский.
– А вы мне очень понравились, молодой человек, – виновато улыбнулся старичок. – Когда зашел о вас разговор – я и думаю: дай вверну словечко!
– Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?
– Опять обо мне, – сказал Ляписов. – Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.
– Проклятая лягушка! – проворчал Андромахский. – Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!
– Ха-ха! – злобно засмеялся старичок. – А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..
– Как же! – усмехнулся Андромахский. – Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало – ничего…
Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:
– И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!
– Хе-хе! – тихонько засмеялся Ляписов. – А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил на счет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.
Лысый старичок усмехнулся:
– Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились…
* * *
Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевшуюся на ступеньках лестницы компанию…
– Я уверен, – говорил увлеченный разговором Ляписов, – что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.
– Ну да! – возражал Андромахский. – Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой – и madame Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..
Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:
– А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же – в будущий четверг!
Виктор Поликарпович
В один город приехала ревизия… Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.
Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:
– Приступим-с.
Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».
– Во-первых, – заявляли обыватели, – никакого моря у нас нет… Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; вовторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы – показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается.
Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.
Страница 58
– Позвать Дымбу! – распорядился ревизор. Позвали Дымбу.
– Здравия желаю, ваше превосходительство!
– Ты не кричи, брат, так, – зловеще остановил его ревизор. – Кричать после будешь. Взятки брал?
– Никак нет.
– А морской сбор?
– Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.
Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.
– Превосходно… Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.
Городового увели.
Когда его уводили, явился и его высокородие… Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.
– Из… зволили звать?
– Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?
– По распоряжению Павла Захарыча, – приободрившись, отвечал Пальцын. – Они приказали.
– А-а. – И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки. – Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает… Хе-хе. Никифоров! Этому – бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне… Живо!
Пришел и Павел Захарыч.
Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.
– Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте… Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?
– Гм… Это взыскание-с.
– Знаю, что взыскание. Но – какое?
– Это-с… во исполнение распоряжения его превосходительства.
– А-а-а… Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!
Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.
– Позвольте предложить вам стул… Садитесь, ваше превосходительство.
– Успею. Зачем это я вам понадобился?
– Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?
– Как понимать? Очень просто.
– Да ведь моря-то тут нет!
– Неужели? Гм… А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.
– Так как же так – «морской сбор»? Почему без расписок, документов?
– А?
– Я спрашиваю – почему «морской сбор»?!
– Не кричите. Я не глухой.
Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.
– Ну?
– Что «ну»?
– Какое море вы улучшали на эти триста рублей?
– Никакого моря не улучшали. Это так говорится – «море».
– Ага. А деньги-то куда делись?
– На секретные расходы пошли.
– На какие именно?
– Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!
– Так-с…
Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.
– Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините… обязанности службы… я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!
Его превосходительство обидчиво усмехнулся.
– Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.
Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.
– Ага! Так, так… Вместе разрабатывали?! С кем? Его превосходительство улыбнулся.
– С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.
– Да-а? Кто же этот человечек?
Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:
– Виктор Поликарпович. Была тишина. Семь минут.
Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки… И нарушил молчание:
– Так, так… А какие были деньги получены: золотом или бумажками?
– Бумажками.
– Ну, раз бумажками – тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм… гм…
Ангел его превосходительства усмехнулся ласковоласково.
– Могу идти? Ревизор вздохнул:
– Что ж делать… Можете идти.
Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами. Подошел Никифоров.
– Как с арестованными быть?
– Отпустите всех… Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит… Кан-налья!
И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.
Мужчины
Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях… Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.
Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомило.
…По пустынному коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучалась в мою дверь.
Машинально я сказал:
– Войдите!
Это была скромно одетая немолодая женщина в траурной шляпе с крепом.
Я вскочил с дивана, сделал п
Страница 59
направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:– Чем могу быть вам полезен?
Она внимательно всмотрелась в мое лицо.
– Вот он какой… – пробормотала она. – Таким я его себе почему-то и представляла. Красив… Красив даже до сих пор… Хотя прошло уже около шести лет.
– Я вас не знаю, сударыня! – удивленно сказал я. Она печально улыбнулась.
– И я вас, сударь, не знаю. А вот привелось встретиться. И придется еще вести с вами длинный разговор.
– Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен… Кто вы? Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:
– Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая… ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я?! Я – мать вашей любовницы!..
Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными.
Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.
Потом повторила, вздыхая:
– Теперь вы знаете, кто я… И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках, с вашим именем на холодеющих устах.
Я рассудил, что вполне приличным случаю поступком будет всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову:
– Умерла?! Боже, какой ужас!
– Так вы еще не забыли мою славную дочурку? – растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. – Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад… Из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.
Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я должен бы откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:
«Милая моя! Для тебя роман замужней женщины с молодым человеком – огромное незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. – А я… я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты… была ли это Ася Званцева? Или Ирина Николаевна? Или Вера Михайловна Березаева?»
Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил:
– Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери…
– Да что ж рассказывать?.. Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал души ее и запросов… А тут явились вы – молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении… Помните?
– Помню, – нерешительно кивнул я головой, – как же не помнить!.. Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.
– В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась… Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали: «Счастье мое! Я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одинока. Есть только один, человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти…»
– Да, это мой приемчик, – задумчиво улыбнулся я. – Теперь я его уже бросил…
– Что?! – переспросила старушка.
– Я говорю: да! Это были именно те слова, которые я сказал ей.
– Ну вот. Потом вы, кажется, стали целовать ее?
– Наверное, – согласился я. – Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?
– Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам, выпить чашку чаю… Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней даме ходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу… Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» – «Да, – сказали вы, – вас оскорбляет такое отношение и вообще вам очень тяжело и вы страдаете». Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично…»
Вы пожали плечами: «Вы меня обижаете!» Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей.
И, опять приподнявшись со стула, спросила старуха торжественно:
– Помните ли вы это?
– Помню, – подтвердил я. – А что она говорила, уходя от меня?
– Она говорила: «Наверное, теперь вы перестанете уважать меня?», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет! Никого еще в жизни я не любил так, как тебя!» А теперь… она умерла, моя голубка!
Старая дама заплакала.
– О! – порывисто, в припадке великодушия вскричал я. – Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью!
– Нет… ее уже ничто не вернет оттуда, – рассудительно возразила старуха.
– Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне?
– Она рассказывала, что вы сначала виделись с н
Страница 60
й каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку.
– Помните вы это? – спросила дама.
– Помню.
– А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.
– Неужели я предложил ей это? – недоверчиво спросил я.
Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви – дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!» А опустит голову, промедлит минуты три и скажет: «Да! Прощайте!» Очевидно, старуха что-то напутала.
– Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью?
И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:
– Да! Она поручила вам свою маленькую дочь.
– Мне? – ахнул я. – Да почему?
– Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю…
– Да почему же именно мне? Старуха печально улыбнулась.
– Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому, тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла ее мне только в предсмертный час: настоящий отец ребенка – вы!
– Боже ты мой! Неужели? Вы уверены в этом?
– Перед смертью не лгут, – строго сказала старуха. – Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери.
Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.
– А может быть, она ошиблась? – робко переспросил я. – Может быть, это не мой ребенок, а мужа.
– Милостивый государь! – величаво сказала старуха. – Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт!
Нахмурившись, я размышлял.
С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала мне совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее!). С другой стороны, эта неожиданная тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные, запутанные обязанности в будущем.
Я – отец! У меня – дочь!..
– Как ее зовут? – спросил я разнеженный.
– Верой, как и мать.
– Хорошо! – решительно сказал я. – Согласен. Я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова.
– Почему Двуутробникова? – недоумевающе взглянула на меня старуха.
– Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.
– Вы… Двуутробников?!
– А кто же?
– Боже мой! – в ужасе закричала странная гостья. – Значит, это не вы?!
– Что – не я?
– Вы, значит, не Класевич?! Дочь называла фамилию Класевич и сказала этот адрес.
Неожиданная бурная волна залила мое сердце.
– Класевич, – захохотал я. – Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната – номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.
Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.
– Как же! – тараторил я. – Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Класевич дальше. Он – номер одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же! Класевич… Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь… А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали?! Хе-хе… Ошибочка вышла. Как же! Класевич, он тут. Эй, Класевич!! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает… Идите, сударыня. Хе-хе… А я-то – слушаю, слушаю…
Чад
План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга – постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.
Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке. Сзади меня послышался голос:
– Освежиться? На скорую руку?
Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.
Все мы обрадовались чрезвычайно.
– Я тоже зашел на минутку, – сообщил юбилейный друг. – И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.
– Можно не снимая пальто?..
– Пожалуйста!
Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:
– Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.
– Да выпей! Какая там еще рецензия…
– Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.
– Глупости, – сказал я, закусывая первую рюмку икрой. – К
Страница 61
кие там еще почки?– Молодец, Сережа! – похвалил меня юбилейный друг. – За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.
Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.
И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.
– Да выпей! – умоляюще протянул я. – Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!
– Почему же свинство? У меня почки…
– А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше…
– Ну, я только одну…
– Не извиняйся! Можешь и две выпить. Буйносов выпил первую, а мы по третьей.
Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»
Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами – и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.
Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:
– Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.
– Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо. Буйнос! Пей – не хами.
– Я не хам… хамлю, – осторожно произнес странное слово Буйносов. – А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.
– Вздор! После напишешь.
– Когда же после… Ведь ее в четверть часа не напишешь.
– Ты?! – с радостным изумлением воскликнул юбилейной друг. – Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут!
– Где там… – просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.
– Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет…
– А вы что же думали, – засмеялся Буйносов. – И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?
– Я… сейчас, – смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. – Дай ветчину прожевать.
– Не хами, Сережа, – сказал юбилейный друг. – Не задерживай чарки.
Я вспомнил о своей работе.
– Мне бы домой нужно!.. Дельце одно.
К моему удивлению, возмутился Буйносов.
– Какое там еще дельце? Вздор – дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.
«А действительно, – подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. – Черт с ним, с дельцем!..» Вслух сказал:
– Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.
– Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!
– …И пива я бы кружку выпил…
– Вот! Так. Освежиться нужно.
Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.
– Сережа… милый… – сказал Буйносов. – Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».
– Да ведь мы и так на «ты»! – засмеялся я.
– Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.
Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.
– Графинчик водки! – крикнул Буйносов.
– Водку? – удивился я. – После пива?
– Это освежает. Освежимся!
– Неужели водка освежить может? – удивился я.
– Еще как! Об этом даже где-то писали… Сгорание углерода и желтков… Не помню.
– Обедать будете? – спросил слуга.
– Как? Разве уже… обед?..
– Да-с. Семь часов.
Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».
– Семь часов?! – всплеснул руками юбиляр. – Черт возьми! А мой юбилей?
Буйносов сказал:
– Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.
– Да, брат… – поддержал и я. – Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.
– Мне распорядиться нужно…
– Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.
Юбиляр подмигнул.
– Вот! Идея… Освежает!
Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.
– Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят. Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:
– Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.
– Да как же: юбилей, а юбиляра нет.
Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:
– Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей… которые его искренне любят.
– Поцелуемся! – вскричал воодушевленно юбиляр. – Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.
– Вот это яркий человек! Вот это порыв, – воодушевился Буйносов. – В тебе есть что-то такое… большое, оригинальное. Правда, Сережа?
– Да… У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»
Страница 62
Не хамите! – с готовностью сказал юбиляр. – Сейчас бы кюрассо был к месту.– Почему?
– Освежает.
Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассао был признан единственным могущим освежить нас напитком………………………………………………………..
……………………………………………………………..
– Извините, господа, сейчас гасим свет… Ресторан закрывается.
– Вздор! – сказал бывший юбиляр. – Не хами!
– Извините-с. Я сейчас счет подам.
– Ну, дай нам бутылку вина.
– Не могу-с. Буфет закрыт. Буйносов поднял голову и воскликнул:
– Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру…
– Завтра пойдешь. Ну, господа… Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.
В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего – поехать домой и хоть отчасти выспаться.
Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.
Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло… Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.
Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.
– Пойдем ко мне, – неожиданно для себя предложил я. – у меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.
– Освежиться? – спросил юбиляр.
«Как попутай заладил, – с отвращением подумал я. – Хоть бы вы все сейчас провалились – ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты… Не встреть я вас – все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».
Единственное, что меня утешало, это – что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.
– Ну, освежаться так освежаться, – со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), – к тебе так к тебе.
Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но, тем не менее, в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хами!» – и с хохотом побежал за нами…
– Вот дурак, – шепнул я Буйносову. – Как так можно свой юбилей пропустить?
– Да уж… Не дал Господь умишка человеку.
«А тебе, – подумал я, – влетит завтра от редактора… Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко»……………………………………………………..
…………………………………………………………………….
Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он, вообще, не хамил.
Было смертельно скучно и как-то особенно сонно… противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.
Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.
– Может, спать хочешь? – спросил я.
– Хочу, но удерживаюсь.
– Почему?
– Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну – хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.
И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.
– Ну, а я пойду спать, – сухо проворчал я. Проснулись поздно.
Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.
– Здорово вчера дрызнули, – сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.
– Сейчас бы хорошо освежиться!
Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами… Ели лениво, неохотно, устало.
«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»
По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех трех самым непостижимым, самым отвратительным образом…
Один город…
I
Считается признаком дурного тона писать о частной жизни лиц, которые еще живы и благополучно существуют на белом свете.
То же самое можно применить и к городам.
Мне бы очень не хотелось поставить в неловкое положение тот небольшой городок, о котором я собираюсь написать. Именно потому, что он еще жив, здоров и ему будет больно читать о себе такие вещи.
Поэтому я полагаю: самое лучшее
Страница 63
– не называть его имени. Жители сами догадаются, что речь идет об их городе, и им будет стыдно. Если же жители других городов, которых я не имел в виду, примут все на свой счет, я нисколько не буду смущен… Пусть! На воре шапка горит.В том городе, о котором я хочу писать и который не назову ни за какие коврижки, мне нужно было пробыть всего один день.
Подъезжая к нему, я лениво поинтересовался у соседа по месту в вагоне: что из себя, в сущности, представляет этот город?
– Скверный городишко… Мог бы быть красивым и интересным, но городская дума сделала из него черт знает что…
– А почему?
Сосед ехидно подмигнул мне:
– Покрали деньги.
– Кто покрал?
– Да члены думы. А первый вор – городской голова… Такого вора, как ихний городской голова, и свет не производил! Не только все деньги из кассы покрал, но даже самую кассу на куски разломал и домой к себе свез.
– А чего же ихняя полиция смотрит?
– Ихняя полиция? Ха-ха!.. Ихняя полиция… В этом городе такая полиция, что с живого и мертвого взятки дерет…
– Ну уж и с мертвого… – усомнился я.
– А ей-богу. Собираются родственники хоронить покойника, а их сейчас за шиворот: «Стой – куда? Хоронить? А разрешение от департамента торговли и мануфактур имеешь?» – «Нет». – «Ну, вот видишь… Давай десять рублей поспектакльного сбору – тогда волоки». И дают.
– Ну, это вы, кажется, слишком…
– Нет, не слишком! Не слишком… С жидов взяли все, что можно было взять. Теперь русских стали ловить. Поймают: «Ты жид?» – «Нет, не жид!» – «Нет, жид». – «Сколько?» – «Десять». – «Подавись!» Всего и разговору.
– Но как же при таких порядках могут существовать жители?
Он опять ехидно подмигнул мне.
– Жители? А вот увидите.
В этот момент поезд подошел к городку, имени которого я упорно не хочу называть… Так как вещей у меня с собой почти не было, я решил до ближайшей гостиницы дойти пешком. Взял ручной сак и пошел.
II
Впереди меня шел человек простоватой наружности и вел энергичную беседу с бабой в платке.
– Да ты говори толком – сколько хочешь?
– Да двадцать же рублей! Слепой, что ли? Чистое золото.
– Мало что чистое! Небось украла – дешево досталось! У меня только десятка и есть – хочешь за десятку?
Я приблизился.
– Да вот спросим у барина, – сказал простоватый человек. – Нешто за краденую вещь можно столько просить?
Баба подозрительно оглянулась на меня и спрятала золотые часы под платок.
Простоватый человек дружелюбно нагнулся ко мне и шепнул:
– Дура баба! А не хотелось бы вещицу выпускать… Часы рублей двести стоют, а она двадцать просит. Десятки только у меня и не хватает… Эх, жалость! – И сказал бабе громко: – Так не отдашь за десять? Ну и шут с тобой.
Он махнул рукой и отошел. А я, оставшись с бабой, решил купить дешевые часы.
– Вот что, сударыня, – сказал я. – Если эти часы действительно ваши и если вы считаете для себя возможным отдать за такую цену…
Я вынул бумажник…
Какой-то человек, видом похожий на дворника, спешно приближался к нам, размахивая руками и крича:
– Постойте! Обождите, господин!.. Вы, верно, приезжий?
– Приезжий, – робко отвечал я.
– Оно и видно. Ах ты, старая ведьма! Пошла вон, пока я тебя в участок не отправил! Ну и жулье же, прости Господи!..
Старая баба запахнулась в платок и испуганно убежала, а мой новый знакомый сострадательно посмотрел на меня и сказал:
– Эх вы! Вот бы и влопались, если бы купили часики. Ведь они медные.
– А как же тот человек сам хотел купить…
– Да он ее муж. Вместе работают, по уговору. О-о… Тут нужно держать ухо востро!
Я горячо поблагодарил своего спасителя, а он добродушно махнул рукой и сказал:
– Ну чего там!.. Вы где думаете остановиться?
– Я… еще не знаю.
– У нас во дворе хорошая гостиница. Чисто и безопасно. А в других гостиницах – не только обворуют, а еще и придушить могут.
Я затрясся от ужаса и еще раз пожал руку моему новому знакомому.
– Пойдем, я вас провожу.
Когда мы вошли в арку под воротами, с нами столкнулся солидный, изящный господин в цилиндре.
Он перевел взгляд с моего провожатого на меня и с неподдельным ужасом всплеснул руками:
– Боже мой! Боже мой! Послушайте, господин… На одну минутку…
Он схватил меня за руку и отвел в темный угол.
– Извините, что я так… не будучи представленным… Вы, конечно, приезжий? Я это вижу. Скажите – не приглашал ли вас этот человек в его «гостиницу» и не сулил ли он вам разных благ?
– Да… А что?
– Мой долг, долг порядочного человека, предупредить вас: знаете ли вы, что вас хотели затащить в гнуснейший притон и, напоив, обобрать, избить и выбросить?
О, я такие сцены наблюдал неоднократно!.. И всегда при участии этого негодяя, который вас поджидает у ворот.
– Господи! – застонал я. – Какой ужас! Кому же после этого верить?..
– Совершенно верно. Для приезжего человека – здесь прямо гибель. Всякая гостиница – клоака…
– Ах! Но что же мне делать?
– Если бы мое предложение не показалось вам назойливым… я пригласил бы вас к себе. У меня се
Страница 64
ейная квартира… Правда, нет той роскоши, как в гостиницах, но моя жена хорошая хозяйка…– Я не знаю, – горячо воскликнул я, хватая его руку, – чем и отблагодарить вас за такую любезность к почти незнакомому человеку. Спасибо!
– О, не стоит благодарить, – полусмущенно-полусмеясь, покачал головой мой спаситель. – Интеллигентный человек должен помогать интеллигентному человеку. Это как масоны… Не правда ли?
Мы зашагали по улице, и я, чувствуя искреннюю признательность к этому господину, взял его под руку.
На углу двух улиц к нам приблизился молодой, бледный человек в жокейской шапочке, уперся руками в бока и сказал, обращаясь к моему спутнику:
– Здравствуй, карточный шулер Арефьев! Здравствуй, мерзавец Арефьев, обыгравший меня в своем притоне. Что я вижу? Ты поймал приезжего и тянешь его на буксире в свою шулерскую компанию, которую ты выдаешь за свое семейство… По-прежнему ли ты, Арефьев, торгуешь своей любовницей, выдавая ее за жену, и по-прежнему ли ловишь доверчивых простачков вроде этого? Ха-ха-ха!
И бледный человек разразился саркастическим хохотом. Мой спаситель выдернул свою руку из моей и принялся улепетывать вдоль по улице, сопровождаемый свистом и улюлюканьем бледного человека.
– Ах мерзавец… – прошептал он, когда господин в цилиндре скрылся из глаз. – Впрочем, этот город полон негодяями.
Потом бледный господин печально улыбнулся.
– Вероятно, – сказал он, – вы и меня считаете таким же? О, не протестуйте… Вероятно, около вокзала с вами уже пытались проделать фокус с помощью медных часов или подкидки бумажника? И вероятно, вас уже заманивали в какие-нибудь притоны? Я вас понимаю: это город мошенников и поэтому вы должны бы и ко мне отнестись недоверчиво.
III
Он сел на ступеньки подъезда и, опустив бледную голову, тяжело закашлялся.
– Конечно!.. – сказал он, откашлявшись. – Вы вовсе не обязаны верить незнакомому человеку. И у меня нет никаких доказательств в пользу моей порядочности. Но я доволен уж и тем, что вырвал вас из когтей этого негодяя Арефьева! Я не буду приглашать вас ни в гостиницу, ни к себе, но очень прошу вас – не доверяйте и мне! Вы не имеете права доверять мне, неизвестному вам, в городе, где все построено на обмане! Предположим, что я тоже жулик. Но, откровенно говоря, я хотел бы, чтобы вы скорее уехали из этого города!
– Почему? – спросил я.
– Три года тому назад я приехал сюда такой же наивный, доверчивый и простой. Через пять минут я уже был обобран, раздет и вот с тех пор не могу выбраться из этого города, перебиваясь с хлеба на квас. О, ради Бога не доверяйте мне! Но все-таки мой вам совет: проваливайте из этого города.
– Да я приехал, в сущности, по делам…
– Дела? В этом городе? Изумительно!
– Мне нужно устроить сделку с купцом Семипядевым по покупке оптом ста бочек масла и сговориться с адвокатом Бумажкиным по поводу одного взыскания.
– Что?!! Вы… без шуток? Скажу заранее, что они вам сделают: от Семипядева вы действительно получите сто бочек масла, но в бочках вместо масла будут кирпичи, а Бумажкин – взыскать-то он взыщет, но деньги эти немедленно растратит. Вы их и не понюхаете… Господи! Сколько с ними уже было этих примеров!
– Что же мне делать?
– В память того человека, каким я был три года тому назад, – хочу спасти вас. Кажется, ведь в моем предложении нет подвоха – идите сейчас же на вокзал и немедленно уезжайте.
Слова бледного молодого человека заставили меня призадуматься… Действительно, не лучше ли поскорее убраться из города, где все так входят в положение приезжего, хлопочут о нем – и так конкурируют в этом, что приезжий может через час остаться без сапог.
– Так Семипядев и Бумажкин действительно такие? – переспросил я.
– А то какие же! Такие. Что мне за расчет врать вам?
– А вы меня проводите до вокзала?
– Так и быть. Провожу. Если бы вы не подумали, что я способен сейчас же убежать с вашим саком, я попросил бы у вас его донести до вокзала, чтобы облегчить вас. Но вы, конечно, должны подумать, что я такой же, как и другие, что я убегу…
В словах бледного человека слышалась затаенная горечь…
Я вспыхнул, смутился, как школьник, пойманный учителем.
– О, что вы! Как можно говорить так… Чтобы доказать, что я этого не думаю, – нате, возьмите сак… Хотя мне и неловко затруднять вас…
Бледный человек взял сак, покачал печально головой и вдруг бросился опрометью бежать по пустынной улице, стараясь избежать как можно скорее моего растерянного взгляда…
* * *
Когда я брал на вокзале билет, кассир обсчитал меня на двугривенный.
Едучи обратно, я задумался о судьбах этого города, который только и можно встретить на святой Руси…
Как кончит этот город? Плохо кончит.
Будет, вероятно, так: чужестранцы перестанут туда ездить, а, туземцы украдут друг у друга все, что у них было, сдерут один у другого кожу взятками, поборами и обманом, а потом, когда проживут все это, – поумирают с голоду.
Неприятно говорить людям правду в глаза. И меня сначала смущало то, что жители этого города пол
Страница 65
чат книгу с моим рассказом, прочтут и будут чрезвычайно обижены.Но потом я успокоился. Наверное, ни одна книга с моим рассказом не дойдет до них, так как будет утащена почтовыми чиновниками на ихней же городской почте.
Костя Зиберов
I
В Одессе мне пришлось прожить недолго, и все-таки я успел составить об этом городе самое лестное для него мнение. Тамошняя жизнь мне очень понравилась, улицы, бульвары и море привели меня в восхищение, а об одесситах я увез самые лучшие, тихие, дружеские воспоминания.
Костя Зиберов навсегда останется в моей памяти как символ яркого, блещущего, переливающегося разными цветами пятна на тусклом фоне жизни, пятна – рассыпавшегося целым каскадом красивых золотых искр.
Впервые я увидел Костю Зиберова в Александровском парке. Я скромно сидел за столиком, допивая бутылку белого вина и меланхолично, со свойственным петербуржцу мелким скептицизмом посматривая на открытую сцену.
Когда показался Костя Зиберов, он сразу привлек мое внимание. Одет он был в синий пиджак, серые брюки, белый жилет и на груди имел прекрасный лиловый галстук – костюм немного пестрый с точки зрения чопорного франта, но чрезвычайно шедший к смуглому красивому лицу Кости Зиберова. Черные кудри Кости прикрывала элегантная панама, поля которой были спущены и бросали прозрачную темную тень на прекрасные Костины глаза.
Ботинки у него были желтые, с модными тупыми носками.
Костя, легко скользя между занятыми публикой столиками, приблизился к одному свободному, по соседству со мной, сел за него и громко постучал палкой с серебряным набалдашником.
Метрдотель подобострастно склонился над ним.
«Эге! – подумал я. – Этот господин пришел с серьезными намерениями… Я уверен, сейчас появится две-три этуали и веселый кутеж протянется до утра. Будет от него хозяину нажива».
Действительно, палкой он постучал так громко и заложил ногу за ногу так решительно – будто бы хотел потребовать все самое лучшее, что есть в погребе, в кухне и на сцене.
– Что позволите? – замотал невидимым хвостом метрдотель.
Костя поднял на него рассеянные, томные глаза.
– А? Дайте-ка мне… стакан чаю с лимоном. Только покрепче!
Нигде не умеют с таким толком тратить деньги, как в Одессе. Каждый гривенник тратится там ясно, наглядно, вкусно, с блеском и экстравагантностью, которых петербуржцу никогда не достичь, даже истратив сто рублей.
Бутылка дешевого белого вина, поданная одесситу в серебряном ведре со льдом, и пятиалтынный, врученный за это лакею на чай, произведет всегда более громкое, более потрясающее по своей шикарности впечатление, чем пара бутылок шампанского петербуржца… Потому что петербуржцу не важно, будет ли вино стоять на его столе или на стуле в двух шагах от него, прикрытое до неузнаваемости белой салфеткой, не важно – считают ли это вино принадлежащим ему или его соседу, и не важно – видел ли кто-нибудь, когда он сунул лакею в ладонь два рубля на чай.
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Примечания
1
В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, наиболее вероятен 1903 год.
2
Фокусник, развивший необыкновенную ловкость и быстроту пальцев рук.
3
Здесь: свидание наедине (фр.).
4
Железной дорогой (фр.).
5
Здесь: иначе (говоря) (лат.).
6
Шляпы и платья (фр.).


