Читать онлайн “Повести и рассказы” «Николай Успенский»
- 25.04
- 0
- 0
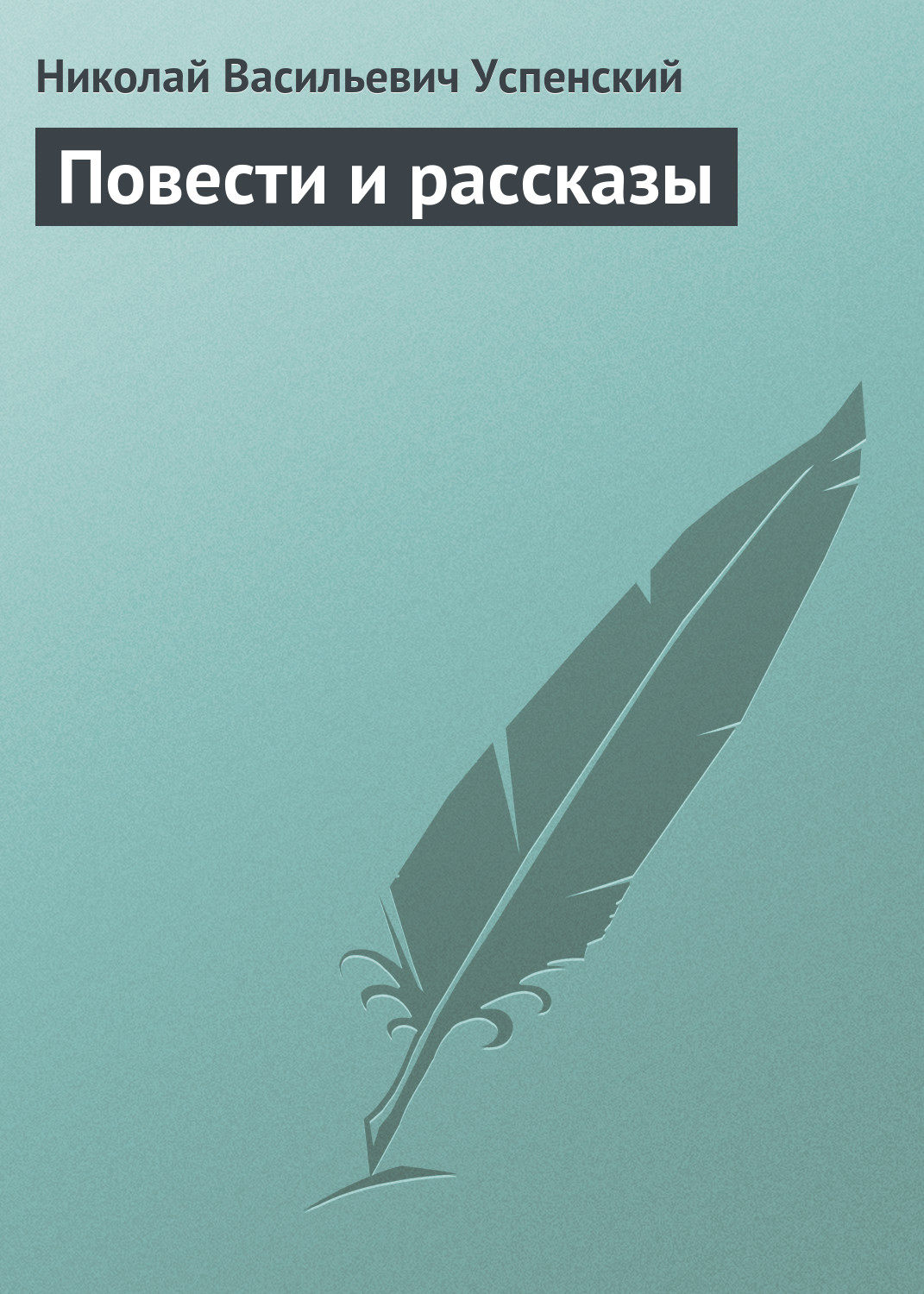
Страница 1
Повести и рассказыНиколай Васильевич Успенский
«…Был сентябрь в исходе; вечерело; шел дождик. В средине села Горемыкина, перед грязным мостиком с изломанными перилами, по ступицу в грязи стоял длинный обоз с рогожами. От усталых лошадей валил пар, некоторые из них встряхивались, громыхая уздами и бляхами на шлеях; иные вытягивались, перекашивали свои челюсти и заносили морду вверх, чтобы вытянуть из переднего воза торчавший клок сена…»
Николай Васильевич Успенский
Повести и рассказы
Старуха
Был сентябрь в исходе; вечерело; шел дождик. В средине села Горемыкина, перед грязным мостиком с изломанными перилами, по ступицу в грязи стоял длинный обоз с рогожами. От усталых лошадей валил пар, некоторые из них встряхивались, громыхая уздами и бляхами на шлеях; иные вытягивались, перекашивали свои челюсти и заносили морду вверх, чтобы вытянуть из переднего воза торчавший клок сена; а иные уныло посматривали на постоялые дворы, от которых неслись хриплые голоса дворников, сидевших на крылечках в нагольных тулупах: «Ночевать пора, ночевать!»
Извозчики, стоявшие по бокам обоза, молчали. Из дворников никто не двигался с места и не решался подойти к ним, понимая всю важность пропасти, утвердившейся на улице. Наконец, спустя немного времени, один из них, с рыженькой бородой, соскочил с своего крыльца и, хляская ногами, подбежал к извозчикам.
– Что же?.. Пожалуйте, – заговорил он, – просим милости; двор просторный, чистый, никого нет… изба теплая – с трубой.
И дворник показал на трубу.
– Овес почем? – спросил один извозчик.
– Лишнего не возьмем, – произнес дворник. – Поворачивайте.
– Да что поворачивать… ты скажи, овес-то почем?
– Экой чудак! думает, что его тут облупят. Ну, обыкновенно, семь гривен; поезжай куда хошь – везде равно.
– Нет, не равно: в Яшках небойсь мы платили по шести.
– То в Яшках, а то здесь, – продолжал дворник, – разя мы строим? чай, бог. Трогайте, ребята… любо будет.
– Да Яшки-то отсюда всего десять верст; в Камчатке они, что ли?
– Ну будет толковать: шесть гривен и я возьму; да уж овес какой, парень! истованное золото. Задвигайте.
– Задвигать-то задвигать, – произнес другой извозчик, снимая шляпу и почесывая виски, – да раненько.
– Какой раненько? ночь на дворе. Нешто дальше поедете?
– Неужли ж тут останемся? десять верст отъехали, да и ночевать? – подхватил третий извозчик.
– В гибель такую… – покачивая головою, говорил дворник, – разя не видишь, что это такое? каторга… давеча один купец бился, бился, – так и остался у меня ночевать.
– Ты нам не указывай, мы знаем без тебя…
– Как знаете… А куда, примерно, трафите?
– В Калугу.
– Подряду везете?
– Подряду.
– А то задвигайте, ребята: ночью прихватите, не совсем ладно; грязь, слякоть… упаси господи.
– Эй, Петруха, трогай! – раздался голос сзади обоза.
– Пехра, пропади вы совсем, – забормотал дворник, направляясь к двору. – Только знает, как бы поголдить, набить цену. Поезжай! Авось держать не стану… калянется, как ахремовский мужлан.
Обоз тронулся. Дворник, взошедши на свое крыльцо, увешанное лаптями, котелками и большими кусками сырой баранины, принялся обчищать лучинкой сапоги. На лавочке, облокотясь на резные перила крыльца, сидел купец в калмыцком тулупе, покрытом синим сукном, и курил сигару.
– Грязненько, – сказал купец, глядя на сапоги дворника.
– Есть… – помолчавши, произнес последний. – Народец, пропасти на вас нет… выбежишь – думаешь: будет прок; а он почешет с тобой зубы и завернет рыло на сторону.
– Русский мужик любит покаляниться, – проговорил купец и отплюнул в сторону.
– Еще как любит-то: иную пору ломается, ломается, из себя выйдешь. – «Фаддей Семеныч! хоть трыночку сбавь, хоть грошик…» А не знает, что тут грошика если не возьмешь, – разоришься, кругом разоришься; а для меня таперича он копейку, другой копейку… говорится пословица: «С миру по нитке…» Эко грязь, притка тебя возьми… никак не отскоблишь.
– Это справедливо, – сказал купец, закинув одну ногу на другую. – Вот теперь, куда ни поверни, наш брат то же самое…
– То-то и есть, – приподнявшись, заговорил дворник – эхти-хти… век жить – не орех грызть… что это зачерствел как ситник-от? надо отдать его распарить – работники съедят, – заключил он, снимая с полки хлеб.
Купец молчал.
– Вы где спать будете, Иван Осипыч? – спросил его дворник. – Если угодно, так на сеннике; там важно…
– Нет, признаться, я боюсь на сене спать: говорят, в нем бывают разные веретеницы и казюльки всякие. Оно, может статься, и впрямь: обыкновенно, сено, значит, привозят с лугов; а на лугах, бывало, ходишь, сколько их под ногами!.. кишмя кишат…
Купец отплюнул.
– А мы вот всё на сеннике бесперечь… и то сказать, как намаешься день-то, забудешь про веретениц и про все…
– Где-нибудь лягу, не беспокойтесь.
– Да у нас, слава богу, есть где лечь, окромя сенника: дом, кажись, не маленький… Чушь, куды, куды, гладкая, чу-ушь!.. – завопил вдруг дворник на свинью, которая из сене
Страница 2
заносила свою ногу на крыльцо. Чрез минуту свинья и дворник скрылись в сенях за дверью.Купец погладил свою бороду.
– Здравствуй, касатик, – всходя на крыльцо, произнесла какая-то старуха с мутными впалыми глазами, одетая в дырявый зипун и повязанная истертой, мокрой тряпицей.
– Здорово, бабка, – сказал купец.
Старуха молча вынула из-за пазухи красную деревянную чашку, поставила ее на лавку и, покряхтевши, села.
Дождик усилился; с повети потекли ручьи; загудела подставленная к крыльцу кадушка. На улице с мокрым платком на шляпе быстро проехал мужик в порожней телеге, от которой летели в разные стороны брызги; под крыльцом брехнула собака и с визгом заежилась от пробиравшегося к ней дождя.
Купец запахнулся полою тулупа.
– Эк, какой полил!.. – сказал он, глядя на дорогу.
– Да; так и хлещет, – заговорила старуха. – Теперь других мужичков застанет в поле… ишь, зги не видать… Как бы, избави господи, хлебушек не попрел. Старуха вздохнула.
– Ты чья? – спросил ее купец после небольшого молчания.
– Да я здешняя, кормилец, – горемыкинская; а живу за этой слободой, туда… назади, недалеко от этой церкви. Можа, когда проездом видел нашу слободу; барский дом там стоит… высокий, каменный; в нем никто не живет.
– Отчего ж так?
– Да барыня-то наша в Москве.
– А при вас, значит, управитель или староста?
– Управитель и староста – оба.
Купец и старуха помолчали.
Из сеней отворилась дверь, и на крыльцо вошла толстая высокая дворничиха, во всем ситцевом.
– У! какой… – глянув на дождь и сморщившись, произнесла она.
– Да, хорош; дробен дождик… – проговорил купец, доставая из пачки сигару.
– Здорово, Кузьминишна! – сказала дворничиха приподнимавшейся старухе. – Что ты?..
– Да все к тебе, родная моя; вот творожку пришла попросить ребятенкам: голодают ни на што не похоже… не откажи, матушка, – кланяясь, говорила старуха.
– Ладно. Я вот подою коров, кстати и молочка дам.
– О кормилица ты наша! дай бог тебе здоровье! Век буду молить.
– Не видали тут нашего малого? – перебила дворничиха, обращаясь к купцу.
– Он давеча лошадей вел на реку поить.
– Пропал, шельмец, – пробормотала она и, повернувшись, ушла в сени.
Купец закурил сигару.
– Ай у вас коров-то нет? – спросил он старуху.
– Да нетути, сударик, – третий год никак не обигорим коровенки; телочка одна… восьмой месяц пошел с сердохрестной недели.
– Не на что, видно, купить?
– Вестимо, не на што: живу в чужой семье, кормилец, с своей невесткой; бедность…
– В чужой семье?
– В чужой, родимый, – жалобно произнесла старуха.
– Отчего так?
– Да двух сыновей отдали в солдаты, касатик мой; старик помер, невестка вышла за другого, – осталась я одна; меня и перевели в их семью. Колочусь теперь с малыми ребятенками. Просилась было на птичный двор, – приказчик не позволяет, говорит: без тебя птичницы есть.
– Гм… А за что, примерно, сыновей отдали?
– Да кто знает, кормилец… отдали – и все тут. Одного, младшего-то, полагать надо, отдали за дело; а другого как есть ни за што, так-таки ни за што, родимый мой.
– Ну, верно, качества какие-нибудь строил?.. За какое дело младшего отдали?
– Вишь… как бы тебе сказать… да если бы старшего не отдали, и младший не пошел бы.
– Каким же манером?
– Да так, касатик.
– Ну, за что старшего отдали?
– Я тебе баяла, желанный мой, что ни за што, вот как есть ни за што: диви б мужик был плохой, а то работящий мужик-то; бывало, чего-чего он… – на все горазд: и плотничал и того… санки ли сделать, другое ли что… Без него мы были как без рук. Опосля он бросил все, ничем не стал займаться, это перед солдатчиною-то: ходит как помешанный; а то пропадает, уйдет куда ни на есть, неделю целую не показывается домой, – да что я? больше недели; вот словно чуял… вестимо, не перед добром…
Старуха понурила голову и вздохнула.
– Вишь ты, – снова начала она, – это было Михайловым днем: женили мы его; сыграли эту свадьбу; глядь-поглядь, примечаем: молодая, жена-то его, – красивая была, бог с нею, баба, – его недолюбливает и так совсем вот не ластится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гож: оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала. Да ведь и то сказать, кормилец, что не родись хорош-пригож, а родись счастлив. А он, голубчик мой, соколик ясный, родился непригож, да и несчастлив.
– Так, так, – вникая в слова старухи, сказал купец.
– Все ничего. Ну, она это, значит, его недолюбливает; уж видим все, что недолюбливает: за обедом ли сидит… хоть бы те одно слово промолвила. Он к ней там зачнет: «Что ты, Варвара Борнсьевна? – ее звали Варварой, – что ты невесела?..» – кусочек ей подложит. Он ее любил и уж н-и… вот как любил! перед богом… А она, касатик, все нет, да и на поди… такая мурогая завсягды. Вот как обжились они, Петруша, – его звали Петрушей – начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой – все нет… и виду никакого… на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончило
Страница 3
ь, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит… дело было летом… «Петр Семеныч, говорит, – это приказчик, – велел вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней». Думаем промежду себя: «Зачем это?» У нас о ту пору все были дома, и она и Петруша. Старик говорит: «Что ж? сходи, Петруша; за чем-нибудь понадобился; авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «Ну, говорит, Варвара Борисьевна, пойдем прогуляемся»; шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «Да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его… «Ступай один; без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на конике; обидно ему, стало быть, показалось; да как же не обидно? грубая… известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «Когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегды зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попадя…» – и побранил ее. Она невзлюбила: должно, не по нутру… накинула зипун, повязала платок писаный, – она все в писаных ходила, – и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головой – и только. «Жалко, говорит, Петрушу, – смерть жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу… качь да качь… Смотрим, приходит он один уж перед вечером.– Так. А вы всё поджидали?
– Да, а мы всё поджидали. «Ну, Петруша, зачем?» – спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково таково со мною обошелся: «Я, говорит, с твоего согласия… если не хочешь, как хочешь; у меня ей будет хорошо; я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы подумали… «Что же, говорим, отчего не так? Приказчик, знамо, если захочет, и так возьмет ее к себе – насилкой; а коли добрым словом молвил, так и быть по сему; хошь одна баба была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногды сердце изнывает, глядючи на ее грубости». – «Если ты, Петруша, – это говорит старик, – соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны. – «Отчего же, говорит, не согласиться! Я рад, что ей это по ндраву; почему что, когда мы выходили от приказчика, она на меня: «Живи, говорит, Петька, да не тужи», – это она-то ему, – и ухмыльнулась… Она его все Петькой называла. «Что ж ко мне, Варвара Борисьевна, часто будешь ходить?» – спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: «Разя на деревне баб мало, окромя меня?»
– Вор-баба, – произнес купец, разевая рот и осеняя его крестным знамением.
– Что и говорить, кормилец! – продолжала старуха, утирая нос рукавом, – какая вор-то; вот послухай. Ну, это она живет у приказчика; а я забыла сказать: старику моему не совсем хотелось отдавать ее; еще перед этим он говорил: «Не годится, мол, отпускать»; да и тут же баял, что поперечить приказчику не ладно: пожалуй, ссору заведешь с ним – и не приведи господи… Он же у нас был зелье такое… теперь его сменили. Ну, живет она у него месяц, другой, – глядим, баба переменилась, право! Словно вот тебе другая стала: разбитная такая… в кура-годах, в гульбищах бесперечь… поет, пляшет… просто совсем другая; а запреже с ней и этого не бывало. Только вот что сделалось… одна беда: Петрушу она совсем кинула.
Старуха замолкла.
– Вишь… это, изменила… Ну, ну, – проговорил купец, – скажи-ка ты мне: приказчик холостой был али женатый?
– То-то что нет, кормилец.
– Смекаю… – сказал купец, доставая третью сигару. – Ажио ль вор и приказчик; штука, я вижу…
– Известно, – продолжала старуха, – наше дело темное… кто знает?.. я уж тебе буду говорить по порядку, как было: знамо, судить – не наше дело; а что одно я знаю, желанный мой, Петруша пошел ни за что.
– Рассказывай, рассказывай!
– Вот ладно. Не забыть бы тебе: у меня был другой сын, меньшой, я тебе говорила; он был в то время парнюгой, – Григорьем звали. Важнейший был; только, как бы тебе сказать, угрюмый такой завсягды. Тот-то веселый; а этот, кормилец, нелюдим больше: николи он не причешется и умывался редко. Бывало, перед праздником говоришь ему: «Ты бы, Гриша, подрезал виски-то, вишь какие лохмы, да причесался»; тряхнет головой, бывалыча – и вся недолга. Не любил чисто ходить; а славный был сынок, соколик мой ясный: николи грубого словечка не скажет. И с тем-то братом, с Петрушей-то, жили они душа в душу – неразрывно: куда один, туда другой. Тот, старший, на задворке, бывалыча, сидит, санки строит да прибаутки читает, а этот супротив его… Придешь к ним, они как раз перестанут балясничать и оба примутся за работу; да я все видела, все знала, что они делают. Вестимо, сударик, мать: своему детищу не чужая. Голубчики мои, лебеди мои, оба спорхнули, улетели, бог ведае куда. Оставили мать-старуху мыкать горе… Господи, царь небесный!..
Рассказчица отерла свои глаза концами головной тряпицы.
– Вот как сейчас вижу их, – произнесла она и замолчала.
– Известно, дело материнское… жаль… – сказал купец. – Так
Страница 4
что же приказчик-то?– Сейчас, кормилец, – продолжала старуха. – Ну вот, что бишь?.. Варвара-то сначала ребенка у себя на барском дворе держала; а то однова, праздником, принесла его к нам в люльке и говорит: «Пускай он у вас будет; мне неколи за ним ходить: работищи пропасть, говорит, с утра до ночи ног не слышу». Мы взяли ребенка: худищий такой сделался, зачиврил вовсе. То ходить было начал, когда у нас был; а то поставишь его на ножонки, а он так и гнется, так и подгибается, как плетка, сердечный, – рубашка на нем закорюзла. Старик тут сказал невестке: «Ты, мол, наведывай ребенка-то, да не забывай, что у тебя и муж тут». А слухи, кормилец, пошли нехорошие: кто е знает… начали болтать на боярщине разные разности. О ком толк? Все, бывалыча, об нашей невестке: в приказчицы, говорят, попала, такая-сякая… кастят ее ни на что не пбхоже. Петруша приуныл; ходит повеся голову. Только однова старик и говорит ему: «Не сходить ли, Петруша, к приказчику, да не взять ли бабу-то?» А Петруша молвил: «Хорошо, как даст он ее теперича». Тут старик как гаркнет: «Как, говорит, не даст? Я ее насилкой вытащу оттуда». – Так и расходился старик-от мой. Это с ним бывало редко: знать, задело за живое… а уж ума… ума палата… перед господом… уж такой-то был ум, что и-и-и… я его смерть боялась; так-то…
– Дело известное, муж…
– Как же можно, сударик, знамо… Вот Петруша говорит: «Нет, батюшка, не тронь ее: почем знать? можа, она и ни в чем не повинна; мало что говорят… мужик дурак: соврет, и слухать нечего. А вот, говорит, я буду подсматривать за ней; уж во что ни станет, всю подноготную открою». Старик промолчал. – Опосля я узнала, что Гриша – меньшой-то – сделал вот что: я говорила тебе, что они с Петрушей жили душа в душу, ну, и стакнулись, должно, между собою: каким ни было побытом разведать все. Так Гриша, я узнала, сделал что же? Раз зимою, только что выпал второй, не то третий снежок, он пришел на барскую кухню к невестке, известно, проведать, – пришел, да и залег на печку; говорит, издрог до смерти, сем погреюсь. – Приказчик был дома; невестка сидела за столом, вышивала подзатыльник и потихоньку наигрывала песню. Вот Гриша лежит, да и высматривает: не придет ли в кухню приказчик, да не выйдет ли чего? А притворился, что спит, – уж он не раз так делал, да все не удавалось, что ли, не знаю, а тут случилась какая оказия: вдруг входит в кухню приказчик; высокий был такой; прямо осмотрелся кругом и подходит к невестке, а сам ухмыляется и ловит ее… хочет обнять; то-то грех, кормилец…
– Это приказчик-от?
– Да, он.
– Затейник ажио ль был; нечего сказать. Ну, что же?
– Только невестка вдруг заморгает ему… так, вишь, и встрепенулась – и указала рукой на печь. – Он, приказчик-то, повернулся, глянул на печь и вышел вон. Гриша как раз, не будь дурен, прибежал к Петруше, да и все рассказал. А мы эвтим делом с отцом ничего не знали. Слышу послышу, Петруша уж был у приказчика, отпрашивал Варвару. Дело было так: пришел он к нему и говорит: «Петр Семеныч! отпустите, говорит, жену, не терзайте моего сердечушка, что вот так и так…» Приказчик только послышал эвти речи, как затопает, как загорланит: «Как, говорит, что?.. пред кем ты?.. смеешь… зазнался, говорит, захрюкался…» – да так его в шею и прогнал, совсем прогнал.
– Ну, а что же старик-то?
– Дальше, больше, тут перед заговеньем старик мой захворал: горячка сделалась; одно к другому. Петруша мой совсем руки опустил, словно кто ворожбу навел на него: мрачный такой. Глядь-поглядь, – слышу он побил жену. А за что побил? Известно, как, разузнамши все ее шашни-то, стал говорить ей, чтобы она сама сошла от приказчика; а она и говорит: «Мне и тут хорошо»; он начал ее ругать, выпытывать у ней, правда ли, что она живет с приказчиком, аи нет?.. Согрешенье, сударик… увещать стал, это счунять; а она отвернулась от него, ругнула и пошла: «Харя твоя дурацкая, говорит, шут тебя с кудахтал, дурака этакого». Он, вишь, стоял, стоял, да как пустится за ней, истованный тот… догнал ее у барской конюшни и давай буздать… что сделаешь, касатик? И поколотил ее; поколотил, желанный ты мой, да и закаялся: уж как за это ответил-то, господи!.. Заутра приказчик призывает его к себе: «Ты как, говорит, смеешь бить жену? Знаешь, она тебе закон, то, другое…»
Вот… а старик все лежит; лопочет бог ведает что; горячка, вестимо дело, нешто она шутит; извелся, бедный, словно сухая былинка. Вот, кормилец мой, смотрю: наране Петруша пропал, сгинул совсем… ни дома, ни на боярщине – нигде нетути: пропал… Проходит день, все нетути; я спрашиваю у Гриши: «Не знаешь ли, куда подевался?» А он: «Сам, говорит, ума не приложу»; староста приходит, спрашивает: «Куда того…» – «Сами, говорим, не знаем».
Только однова, поздно вечером, сидели мы вдвоем: я старику давала пить, а Гриша шлею чинил. Откуда ни возьмись, входит Петруша, хмельный, расхмельный, – и так вот его и швыряет в стороны. «Здорово, говорит, матушка-кормилица, как живешь?» А сам все шатается по избе. Мы ему тут инды как обрадовались; Гриша вскочил это,
Страница 5
росил шлею и прямо к нему… Петруша говорит: «Давай, Гриша, поцалуемся». Стали цаловаться. Потом подошел ко мне и со мной поцаловался. Я ему говорю: «Где, мол, Петруша, пропадал?» А он махнул рукой и молвил: «Там гулял, говорит, матушка, куда ворон костей не заносил». Я вижу, что допытаться у хмельного трудно, не стала спрашивать, а только сказала: «Поесть не хошь ли, Петруша? Чай, проголодался?» – Мы о ту пору хочь и поужинали, а я тогда в залавке на всякий случай спрятала картох; да, признаться, и есть-то было некому. Он говорит: «Нет, матушка, картох я не хочу, а вот спать хочу». Мы: «Ну приляг, говорим, себе, приляг, касатик». Он брякнулся на хоры – это подле отца – и захрапел. А две недели пропадал. Приказчик про это знал; да как не знать? И раза два уж посылал старосту искать его; но, знамо, не нашли. Он все бродил по постоялым дворам, а то больше по заводам. Недалече от нас тут заводы: один винный, а другой сахарный.– Так он на винном больше? – сказал купец, заслоняя ладонью рот, чтоб унять зевоту.
– Право слово, не знаем, кормилец; может, больше и на винном.
– Так что же? ты говоришь, он пьяный пришел.
– Да, да, пьяный. Лег он это заснуть, уснул; немного годя и мы легли. Ребенок у нас о ту пору не кричал, здоровенький такой был: поправился, живучи у нас, и спал он со мною. Ну полеглись все, старик все лежит в забытьи: нет, нет – да и забормочет… Вот рано-ранешенько встаю я; слышу, вторые петухи… оделась это, засветила лучину, подхожу к хорам – хвать, Петруши нет. «Господи, батюшка, не ушел ли опять? – думаю себе. – Разя на задворке? да зачем? незачем бы ему туда: еще рань какая…» Одначе я не утерпела: взяла, накинула полушубчишко и пошла на задворок. Темно, никого не видать; я на задворке-то давай его кликать, это гаркнула разов пяток: мол, Петруша, а Петруша!.. нет, не откликается, и нигде ничего не шелохнет… только куры спросонья трюкают… как мне стало тошно! перед господом богом… скука одолела такая…
Рассвело. Петруши все нет; Гриша пошел его искать; искал долго – не нашел. Вот тут, кормилец, подступило к нам такое горе, такое горе, что и-и сказать нельзя… вишь ты: на другой день, это, значит, после второго побега моего Петруши-то, на барском дворе у скотницы пропали деньги, и диви бы маленькие… ажио триста рублев. Э-э… ну… того… скотница эта, старушка, бог с ней, была добрая такая и бережливая.
– Откуда же у ней такие деньги?
– Вестимо, касатик, копеечками собирала: то вытчет холсты кому, выбелит, то тальки прядет, бывалыча, па сторону, и что дадут ей за работу – она все в сундук да в сундук; в холсты завертывала. А все это она для своей дочери: дочь была лет уж, почитай, двадцати; только сватались за нее как-то плохо; не то чтобы она, как тебе сказать, была полуумная; а вот с дуринкой больше, но смирная и работящая, нечего таить. Ну, пропали деньги, сгибнули совсем и невесть куда. Скотница тут сейчас к приказчику жалиться… что так и так, сударик, пропали; а сама и-и плачет, и-и голосит. Как же можно, – жалко, родимый. Только приказчик выслушал ее и говорит: «Ступай, я знаю, кто это поддел…» Смотрим, он пишет к барыне в Москву, что вот мужик Петр, говорит (мой Петруша-то), блажит, распутничает, бьет жену, пьянствует, находится в побегах. В другой, говорит, побег, – в тот денек, когда он убежал это, – у скотницы пропали триста Рублев, ну и там… что окромя некому: все мужики, говорит, хорошие: только вот один напался блажной; его надыть в солдаты беспременно. Известно, сердит был, родимый ты мой; гнал, что ни на что не похоже. Сколько раз добирался до него, – говаривал старосте: «Найди, мол, ты мне его; пропасть ему некуда…»
– Однако того… – сказал купец, выгибая спину и заводя руки за затылок, – не пора ли на боковую…
– Чай, день-то нахмытался, касатик, – проговорила старуха с видом участия.
– Досталось. Пойдем, бабка, в избу; холодновато, кажись. Я вот в тулупе озяб, а тебя, чай, в кафтанишке пробирает напорядках. Пойдем погреемся.
– И то, родимый. Оно, вестимо, наше дело крестьянское: иногды бывает такая стыть… знамо, привычка… а студено и теперь: напуще вот ноги околели…
На улице совсем стемнело; дождик перестал; только слышались с крыши капели. На селе в разных местах мелькали огоньки. Старуха и купец пришли в избу; в ней у стола ярко горела лучина, воткнутая между зубцов длинного светца; на лавке у окон сидела дробненькая девочка лет тринадцати в запачканной рубашонке и держала на коленях беловолосого жирного мальчика в ситцевой рубашке: он ел из горшочка молочную кашу, кривлялся и поминутно съезжал с коленей своей няньки.
Старуха, поклонившись на все четыре угла широкой избы, медленно села на край коника.
Купец снял с себя тулуп, положил его на хоры и, оставшись в одном жилете, из-под которого выбегала в складках дикая ситцевая рубашка, проговорил: «Господи, благослови!» – и завалился на боковую.
У печи в это время хозяйский малый с широким лицом, обложенным пушистой бородой, в полушубке и с палкой в руке – вел разговор с бабою над лоханью с помо
Страница 6
ми.– Ну, чего ты гогочешь? – говорил он бабе, закрывавшей свои губы передником.
– О, провалиться тебе! – щуря глаза, бормотала баба. – Хи-хи-хи, ну, уж… ха-ха… бедовый, право слово.
– Так вот тебя и поддену палкой-то, – говорил малый. – Вишь, скалит зубы, как кобыла на овес… ну, что же ты?..
Баба закатилась со смеху.
– Бери, что ль, палку да поддевай, тебе говорят, лоханку-то. Понесем.
– Как я поддену? ишь ты, не даешь… О! да домовой те расшиби, – о-о-о… ха-ха-ха…
В это время вошла в избу хозяйка с подойником в руках. Баба с малым в одну минуту подхватили лоханку и понесли ее на двор.
– Посиди, Кузьминишна, – сказала хозяйка старухе, снимая с бруса ситцевый передник. – Вот иду доить; коровы только закусили.
– Хорошо, матушка, посижу, родная моя: мне спешить некуда.
– Кто это? – внимательно разглядывая купца на хорах, проговорила хозяйка.
– Я, – произнес он, выставив кверху одно колено и держа правую руку поперек лба.
– Это Иван Осипыч. Да что же вы тут легли? вы бы в горнице: там есть кровать.
– Ничего, все едино; да я еще не совсем размундирился; полежать вздумалось, не больше того… после, пожалуй, перейду в горницу.
– В горницу перейдите; вас тут прусаки поедом съедят… намедни как-то я легла на печке… все ноги изъели… пятнами, пятнами… особливо это место…
– Ваш хозяин куда это пошел? – спросил дворничиху купец.
– Да кума проведать, Ивана Орефьича, на ту сторону. – Чудачина, – произнес купец. – Сейчас он со мною встретился в сенях; значит – темь хоть глаз выколи… и не узнает меня: щупает руками и спрашивает: «Кто это такой?» – «Я». – «Кто ты?» – «Да узнай», – говорю. Он теперича и принялся перебирать: «Гаврил Сидорыч, там… Семен Захарыч». Я ему: «Эно куда полез, говорю, а еще арихметчик… своего постояльца не узнает».
– Гм… – произнесла хозяйка, – он у меня такой… тоже иную пору и меня не узнает, когда в сенях придется; обыкновенно, темнота…
Вскоре хозяйка вышла.
В избе настала тишина; у стола по временам шипели в ведре горячие секретки, падавшие в него с нагоревшей лучины. За печкой однообразно чирикал сверчок.
Купец зевнул во весь рот.
– Что ж, старуха, замолкла? – сказал он, наконец. – Досказывай, чем кончилось дело.
– А спать-то разя не будешь? можа, я тебе помешаю?
– Ничего; я не засну еще долго; рассказывай.
Старуха кряхнула и начала:
– Ну, слухай, касатик. Вот видишь ты это, я тебе сказывала, приказчик написал барыне письмо, как триста Рублев пропали.
– Да, да, ну?.. – произнес купец, поворачиваясь на бок и подкладывая руку под голову.
– Так вот дела какие: написал он. Петруши все нет, пропал, да и шабаш. Вот опосля крещения, слышим, снаряжают старосту, десятского, с ними мужиков – человек шесть – искать Петрушу. Мы думаем и дивуемся: что, мол, это значит? Вдруг заегозили, искать да искать. Ну, это поехали они; на дворе уж было голомя. Глядь, часа через два – везут его, голубчика, на санях, и прямо к барскому двору. Мы так и всполошились: скорей бежать туда… Гриша мой давно там; а я, известно, дело старое, ковыляю полегоньку; хоть и рада бы душенькой добежать поскорееча, да ничего не сделаешь. Подхожу к приказчикову дому: батюшки! народу целый полк; я это спрашиваю: «Где он, Петруша-то?» Говорят, у приказчика. А тут парни и мужики голдят мне: «Ну, бабка, прощайся теперь, Петрухе несдобровать: деньги украл. И диви бы, говорят, мужик блажной, а то смирный мужик: никто не чаял от него даже вот тебе дурного слова». Я… ах ты, господи… неужли это правда? а самое вот так и подмывает, так и подмывает; сердце вырваться хочет; тошно как, и-и… я спрашиваю: «Где его нашли?» Говорят: «Вот тут, за лесом идет по дороге».
– Куда ж это он шел?
– То-то я сама спрашиваю: «Куда ж он это шел?» – «А кто знает, говорят, можа шел и сюда, в село». Только промолвили это мужики, – вижу: он выходит из приказчикова дома, сходит с крыльца и вот худищий, прихудищий, узнать нельзя: голову повесил, смотрит в землю, а по бокам идут староста с десятским. Я сейчас бросилась к нему и так и заголосила на всю улицу. Он, Петруша-то, говорит: «Не плачь, матушка, не плачь!» – эхма!.. ну, того… а я знай голошу. Тут староста говорит: «Садись, Петруха, я тебя довезу до двора». Он сел и баял мне: «Садись, матушка, вместе». Я прилепилась на наклеске, а сама залилась… и поехали. А с нами, не забыть бы тебе, ехал еще мужик – Фролка, высокий такой, здоровый: говорят, дубы с корнем дергал, когда был навеселе. Сошли мы с саней, приехачи-то; староста говорит этому Фролке: «Останься, мол, здесь с Петрухой: приказчик велел его караулить». Фролка с нами идет в избу, я смотрю… а у самой рубашка так и дрожит. Пришли мы в избу. Петруша помолился образам, поклонился нам, а мы ему поклонились. Дальше он обернулся к хорам и говорит: «Батюшка не выздоравливал?» – «Нет, говорим, сударик»; а старик весь в жару, так и мечется; одежу всю скопал. Петруша посмотрел, посмотрел, глянул на ребенка, – ребеночек-то спал на загнетке, – сел на коник, облокотился на стол и, что ни есть моч
Страница 7
, залился слезами… так вот его и колышет; как река льется, сердечный, инды страсть глядеть… горя-то, горя что видели, кормилец, не приведи господи! Годя немного я спрашиваю у Фролки: «Что, дескать, родимый, зачем это Петрушу брали к приказчику, что он ему говорил? беспременно тут что-нибудь есть». – «Да аль не знаешь, говорит, его в солдаты везть приказано? от барыни пришел приказ». Батюшки! как услыхала я это, так и не помню… словно он меня дубиной шарахнул. Подбежала я как раз к Петруше, повисла ему на шею и закричала благим матом: «Петрушенька, родимый ты мой, золотой ты мой! что с тобой хотят делать?»Перед вечером, – о ту пору мы все были дома, – Петруша маленько остепенился, не плакал; а только все сидел, закручинившись, и бесперечь вздыхал. Я подхожу к нему, изобрала времечко, и говорю: «Петрушенька, касатик, не терзай ты моего сердечушка, скажи правду: ты взял деньги у скотницы аи нет? скажи, родной, я так и буду знать». Он, голубчик, поднял голову, глянул на меня, а слезы так и брызнули из его глазушек… «Эх, матушка, говорит, матушка! знает одна моя грудь да подоплека, что я вынес за напраслину… бог с ними», – говорит и махнул рукой. Ну, ничего… что бишь?.. вот в сумерках посылаю Гришу к Варваре на барский двор, чтобы она пришла сюда к нам, последний вечерок хоть провела с мужем да помогла мне замесить лепешек, курицу ощипать ему на дорогу. Теперича, стало быть, Гриша сходил на барский двор и говорит, что не застал ее. Маланья, старуха там проживала, – Маланьей звали, – говорит, что кажись, пошла в горницу к приказчику; «А я, – это Гриша-то, – ждал ее долго, да не дождался». Только Петруша на это и молвил: «Пускай уж, когда так, лучше не приходит, – не надыть». – она вечером так и не пришла. Вот перед тем, как зажигать лучину, Петруша говорит Фролке и Грише: «Ну, ребята, прощайте. Бог знает, коли увидимся. Знать, пришла неминучая, говорит… пойдемте, так и быть, ребята, напоследках к Акулине…» – и взял шапку; Акулина, солдатка, шинок в то время держала от нас через два двора. Я… «что ж, голубчики, сходите себе!» уж рада, что Петруша, можа, на время забудет юре; а деньжонки были: мы уж успели взять три целковых у десятского под жеребенка-стрыгуна. Я говорю: «Подите себе». Фролка молвил: «Как бы приказчик меня не увидал с вами в шинке-то?» – одначе ничего, пошел. Осталась я одна в избе: жуть после них такая… вот сем, думаю, потороплюсь, просею муку; хватилась – ночевок нет; поскорей надела чекмень Петрушин и пошла к соседке, чтобы кстати занять у ней яиц. Ну, там поговорила это с ней, поплакала и прихожу опять домой; скука такая, смерть… помню, отворила дверь, а мальчик-то проснулся, стоит подле двери, держится за притолоку и кричит, зовет меня, уж собирается плакать. Я взяла его на руки, и как мне его жалко было!.. дала ему яичко в руки забавиться и посадила его на лавку; а: сама стала вытирать чугуны. В избе глушь, никого нет; только сверчок за печкой жужжит да старик иногды залопочет… Припомнила я, вот так-то одна останусь, каждый день все так-то будет: все никого нет да нет. Старик не надежен, Петруша скоро сокроется с моих глаз – и замерещилось мне тут: как его повезут, покатит он невесть куда, в дальнюю сторонушку… давай я плакать; вытираю чугун и голошу, вытираю и голошу… Э-эх… а мальчик-то сидел, слухал, слухал, да как себе.
– Верно, смыслил, каналья, мальчик-от!
– И-и… где? еще несмыслечек был… вовсе махонький… ну, в это время вошел Петруша с мужиком и Гришей; увидал, что мальчик плачет, и говорит: «Чему ты, Федя? не плачь, братик». Вижу, хмельненек. Взял он его к себе на руки, да: «Ах затянем, говорит, ребята: «Сидит ворон на березе»? – любимая, бывалыча, его песня: вчастую все поет, как «пропадать тебе, мальчонка, в чужой дальней стороне; ты зачем это с своей родины бежал, ни у кого не спросился, окромя сердца своего, бросил мать свою…» – да и тут же раздумал: «Нет, говорит, что-то не по себе, лучше даром…» – и опять задумался. Фролка все у нас: известно, приставлен караулить; а Гриша около печки стоит, все смотрит… он о ту пору не пил ничего; а ходил с ними к Акулине так: все от Петруши-то отстать не хочется; вестимо, последний вечерок с ним проводит. Поужинали мы тут, тихо таково, скучно… сбираемся спать; Петруша стал раздеваться… «Ах, говорю, Петрушенька, забыла я тебе на ночь принести рубаху, кормилец ты мой. Что сделаешь? Из ума вон». Ну, эвтим делом полеглись спать; я, почитай, всю ночь глаз с глазом не сводила. Пропели первые петухи; это слышу все. Старик так и мечется, кричит, что не след: перед зарей ему всягды хуже было. Вот вдруг слышу, кто-то стучит в окно; глядь, Петруша слезает с печи; а он, сердечный, тоже не спал. Я говорю: «Куда ты, Петруша?» Он: «Да вишь, говорит, стучит кто-то, пойтить отворить» – и пошел. А это староста; и дает Петруше приказ, чтобы он на рассвете был совсем готов, что лошади под него будут. Петруша входит в избу и говорит: «Матушка, ты бы печку затопила», – а сама слышу, он плачет. Как мне подступило вдруг тошно: душа с телом расстается… Ну, ка
Страница 8
раз я затопила печь, все поднялись; я это суечусь как угорелая: принесла из пуньки рубах, трое чулок, говорю: «Переоденься, Петруша», – и поставила ему отцовские сапоги: они были покрепче. Он стал одеваться; Гриша ему помогает, а сам утирает глаза; потом они оба примутся говорить между собою полегоньку. Я смотрю на них, так-то рогачом подперевшись, а у самой слезы, слезы… перед господом богом… просто руки и ноги подкашиваются. Вестимо, кормилец, разя шутка?.. Соколы вы мои дорогие, голубчики сизые, где вы, касатики мои? По белу свету, на чужой сторонушке бродите… Оставили меня, горемычную, беззащитную… Старуха заплакала.– Так что же? – произнес купец.
– Сейчас, кормилец… Молчание.
– Вестимо, – продолжала старуха, – разя не больно: свое детище всякому того… что бишь я?.. ну, это Гриша себе стал сбираться, говорит: «Я провожу Петрушу до города». Я ему сказала: «Ты бы, касатик, у приказчика спросился, а то серчать станет, еще неравно побьет». Гриша пошел к приказчику, увидал там Варвару и наказал ей, чтобы она пришла проводить Петрушу. Немного годя они оба с Варварой приходят. А приказчик в то время еще не вставал: как быть? мы послали Гришу к старосте, хоть у него спроситься, староста говорит: «Не мое дело». Петруша и сказал: «Собирайся, не бойсь; брата да не проводить? Авось он едет не куда-нибудь на праздник; ступай, говорит, – запрягай свою лошадь, – поедем». Гриша взял и пошел. Ну, это к нам пришла невестка; пришла, помолилась образам, поздоровалась и стоит у двери, словно чужая; вестимо, уже одичала. Вот Петруша ей говорит: «Прощай, Варвара Борисьевна! не поминай лихом». Она молчит. «В солдаты разгуляться едем…» – это он-то ей. Она все молчит. «Так-то, говорит, теперь ты на слабоде… одна, погуливай…» Она знай молчит, голову повесила. «Эх, говорит, загубила ты меня! не миновал-таки неминучей дороженьки… оставайся, бог с тобою! верно, доля моя такая…» Глядь, она и прослезилась, – право слово! верно, в укор пришло. Дальше он ей говорит: «Поплакать у меня есть кому, вот что; да слезы, вишь, не помогают горю», – и замолчал. Тут вдруг старик опомнился; просит пить; опомнился и того… это с ним бывало редко: Почитай, все лежал в забытье. Правда, он приходил в себя и запрежа, вот когда Петруша бегал, да все ненадолго. В то время, бывалыча, я ему толковала: «Петруша, мол, бегает невесть где»; а он скажет: «А?..» – и смотрит… «Петруша бегает, слышишь?» – «Кто это?» – спросил он. «Петруша». – «А-а-а…» – и опять в забытье, опять забормочет. Вот и тут тоже: опомнился он, я подаю ему пить и говорю: «Простись с Петрушей-то!.. едет в чужую сторону, – благослови его, простись», – говорю. Петруша подошел к нему и баял: «Прощай, кормилец батюшка! должно, николи тебя не увижу, – прощай!..» – обнял отца-то и зарыдал. Старик только проохал и залепетал, как ребенок, по-прежнему. Петруша стоит, плачет над ним, совсем убравшись. «Вот, говорит, и благословить некому». – «Поди, говорю, поди, касатик мой, – сама тоже голошу, – поди я тебя благословлю, все равно, и за отца и за себя». Сняла с божничка два образа и благословила его. Тут слез было, желанный мой, тут слез, что и-и… плачу сколько было… только входит вдруг староста и говорит: «Что, совсем?» – «Совсем, сударик». – «Ну, с богом!.. Лошади приехали… помолись, говорит, Петруша, да и ступай». Эх, пришла, родной ты мой, последняя минута. Петруша как обхватил меня, так и замер… «Прощай, говорит, матушка, родная моя! не оставляй в молитвах». Я уж тут ничего не помню. Помню только: вышла я на улицу – на дворе метель такая была; Петруша сел это; санки покатились, заехали за плотину. Он сидит да машет мне, машет шапкой-то, все машет, дескать… ну! все машет… Гляжу, и совсем скрылись. Грохнулась я наземь и долго годя очнулась, когда меня принесли в избу.
Соколик ты мой! Вот другой год и весточки не шлет, – заключила старуха, потупилась, крепко зажала рукой глаза и зарыдала.
Долго раздавался в пустой избе ее глухой, бессильный плач. Длилось молчание; купец продолжал лежать навзничь; сидя на лавке под окнами, в которые равномерно барабанил крупно дождик, спала девочка, запрокинув к стене свою голову.
Лучина начинала гаснуть; старуха, как будто очнувшись, наскоро отерла полой зипуна свои глаза, поправила светец и села на прежнее место, поддерживая концы головной тряпки у своего подбородка.
– Охма-хма… Я тебе говорила, что если бы старшего не отдали – и младший не пошел бы. Оно так вот и прилучилось. На другой день, после отправки Петруши, старику сделалось так плохо, так плохо, что и сказать нельзя: охает, мечется в разные стороны, то туда бросится, то сюда. Вижу, дело не ладно; пошла за священником. А Гриша еще не оборачивал из города. Не то чтобы было далече, а он там дожидался, пока Петруше забреют лоб. Ну, ничего; сходила за священником. Пришел причт. Исповедовали старика, дали глухую исповедь, причастили, особоровали. Перед обедом он богу душу отдал – царство ему небесное! Какой был старик-то… Ума сколько, право слово… я его смерть боялась.
Что ж? мы жили с
Страница 9
им хорошо. Ну, вот мы похоронили его. Гриши все нет, и помочь было некому. Невестка как проводила мужа, так ни разу и не пришла ко мне. Я к ней тоже не ходила. Позвала я тут родных: все больше кумушки у меня, куманьки там… сватьюшки. Аграфена Федоровна Ухабовская была, это Егор Петрович, Анна Егоровна – дьяконица. Много было народу, всех не пересчитаешь.Вечером, опосля похорон-то, гляжу это, приезжает Гриша. А ему уж сказали там на селе, что, мол, отец твой помер. Вот он не отпряг еще лошадей, летит в избу, сердечный. «Матушка, говорит, батюшка помер?..» – «Помер, говорю, голубчик мой, соколик ясный, помер. Видно, на то воля божия…» Он посидел, посидел за столом, потом как махнет рукой: «Эх!» – говорит, – и ушел из избы. Закручинился малый, – беда, закручинился как…
Проходит месяц, другой. Мой Гриша в избу, почитай, отвык ходить; только ночевать придет. А то сидит на огородах али в овин забьется – и кто его знает, что он там делает? Вестимо, должно, все плачет. И Петрушу-то жалко, ведь, бывалыча, шагу без него не сделает, и отец-то помер – поневоле запечалишься да загорюешь.
Дальше-больше, проходит весна, лето, Гриша в одном положении. Бывалыча, станешь его уговаривать: «Что ты, Гришенька, того… горем не поможешь…» – куды!.. малый как раз возьмет и уйдет. Вот наступила осень; свозили, убрали рожь, овес. Только слышим – что ж слышим? – скотницы деньги нашлись. И не то чтобы нашлись совсем, а разведали, что их украл конторщик. И каким побытом?.. Тут-то мы вспомнили Петрушу… Ах, мол, Петруша, Петруша! сгиб понапрасну. Ну… дело было вот как: повадился конторщик ходить к скотпицыной дочери. А она, я тебе баяла, с дуринкой; была такая нескладная, бог с нею, девка; окромя там, известно, работы, чего другого… Вот повадился. Ходит раз, другой к ней и прочухал, что у ее матери есть деньги. Можа, сама дочь же проболтнулась ему про них. Он стал ее замасливать, уговаривать, что я тебя замуж возьму, пятое, десятое… Девка поверила и, должно, тут как-нибудь проболтнулась, что деньги в холстах. Он, не будь дурен, и схапал их. Обыкновенно, не наше дело осуждать, – бог с ним; да вот Петруша-то пошел ни за что, как есть. Враг ажио ль силен. Тут все мужики так и ахнули; все вот наповал толкуют про Петрушу, перед господом богом. «Ах, Петруша, Петруша!» Бывалыча, придут ко мне, говорят: «Срезали твою головушку ни за что ни про что». А больше озлобились все на приказчика. Известно, дело прошлое; а ведь и вправду он всему виной.
Только что после этого прилунилось, родимый ты мой? – такая беда, такая сокруха, что и на поди… Гриша… то-то молодость, обыкновенно, неопытность – незнайка… что бы так, того… а то… видишь ли – он, Гриша-то, горевал, горевал по брату да по отцу-то, – ну, вдруг, Как узнал, что деньги нашлись, что Петруша изведал напраслину, думать, думать, да и задумал… о, ихма, ихма… Ну, я тебе баяла, что он почитай со мной не сидел дома, а бродил невесть где. Вот однова сижу я долго вечером, – пряла; сижу и думаю: «Где ж, мол, это Гриша? бывалыча, он приходил ужинать, а теперича давно ночь на дворе – его нет. Да сем, думаю, закушу одна; ему оставлю». Только я и поужинала без него, убралась, стало быть: потушила лучину, а сама легла спать. Признаться, мне тогда вовсе не спалось: дума одолела, и тут же зубы болели; так, бывалыча, и ноют… Вот лежу я, не сплю; уж за полночь дело, слышу: кто-то колотит в дверь, так колотит, что вся изба трясется; поднимаю голову: пуще, пуще… Сейчас вскочила я, вынула из горнушки лаптенки; пока обулась, пока что… никак ничего не сыщу. Выбегаю в сени, отворяю: что ни есть мочи кричит какой-то мужик: «Бабка! твоего сына поймали!..» – «Где поймали, как?» – «На барских скирдах… поджигать хотел. – Ну!..»
– Что это ты такое рассказываешь, Кузьминишна, – входя в избу, сказала дворничиха. – Вот тебе творожку и молочка. Возилась, возилась, тряс ё расшиби…
– И-и, желанная ты моя! дай бог тебе здоровье, касатка моя, – воскликнула старуха, с неизъяснимым выражением благодарности глядя на горшок с чашкою в руках хозяйки.
– В закутах грязь какая ужастенная… проходу совсем нетути. Как ты пойдешь, Кузьминишна? дождик полил словно из ведра.
– О-о… – произнесла старуха, покачивая головой. – Небойсь сильный?
– Да, силен. Что ж это Иван Осипыч так и не пошел в горницу; ишь растянулся. Иван Осипыч, Иван Осипыч! – толкая купца, твердила дворничиха. – Прусаки вас тут поедом съедят.
– Аль он заснул? – спросила старуха.
– Да, вишь, как заснул, и не растолкаешь. Иван Осипыч, Иван Осипыч, эй, Иван Осипыч!
Дворничиха дотолкалась-таки до того, что купец забормотал: «Рассказывай, рассказывай! я слышу», – и повернулся к ней спиной.
– Вестимо, намаялся, сердечный, – проговорила старуха. – Чай, все в дороге да в дороге, нешто она шутит?
Через минуту старуха, попрощавшись с дворничихой, вышла из постоялого двора.
1858
Поросенок
– Вот к слову пришлось, Аксинья Тихоновна, про воров-то… дом-от яма, гляди прямо… У одного мужика была лошаденка, лядащая такая: все, быв
Страница 10
ло, на огородах и днюет и ночует. Приходит к ней вор ночью. Видит, нечего взять, живот плетень плетнем, ног не волочет. Подумал маленечко, да и говорит: «Сем, штуку выкину», – и зажег ей хвост. Как ты думаешь?.. известно, лошадь со всех ног бросилась куда глаза глядят. Вор за ней, кричит: «Берегись!..» – а огонь так и развевается.– Царь небесный!..
– Да-а-а!.. вот что делают озорники. Говорит пословица: «Кошке игрушки, а мышке слезки».
– Точно-с… точно-с… Что же, Федосья Николавна, лошадь-то жива осталась аль уж где?..
– Жива… поди! на другой день ноги протянула.
– Грех какой!..
– А вечор она убежала на большую дорогу. Там ее и нашли. Говорят, ехали о ту пору чьи-то господа, глядят: что за полымя такое?.. Верно, салом каким намазал, разбойник: долго горело… Это лошади господские как увидали, что мчится огонь навстречу, так и бросились в сторону, насилу кучер сдержал.
– Насилу сдержал… чего не бывает, Федосья Николавна, на белом свете! Я думаю, это все по злобе… Вот тоже, говорят, в Осинках, когда еще покойник был жив, мерина удавили…
– Воры?..
– Полагают, что воры. А вестимо, дело божие… под самый перемет подпихнули-с… вон как!..
– Э! не скалозубят ли, Анисья Тихоновна? вор скореича сведет животину долой со двора, чем того…
– Думают, так точно сделалось… одначе кто знает? А вот, Федосья Николавна, я вам расскажу сущую правду про вора… Со мной случилось… Только никакой особенности не было… украл, и вся недолга… про поросенка-с… Ей-богу! Сказать?..
– Ну-ко, ну-ко… я послушаю.
– Извольте послушать. Знаете, у меня прежде, при покойнике, существовали свиньи, то есть как снег белые, – господь с ими, – таких завсегда поросят жаловали, что ни на есть самых лучших: с дивушки дашься; провалиться, не вру…
– Я помню…
– Право-с. Теперь, стало быть, поехала я, осенью, поросят продавать в город В… я, и Агап мужичок со мной… поросятенок пяток всего взяли. Вот, мать моя, приехатчи в город, сейчас остановились на хлебной площади. А народу там, знаете, в базарный день бесчисленное множество-с… додору нет. Вы, чай, бывали там?..
– Как же, бывала.
– Хлебушек продавали-с?
– И хлебушек продавала, и по разным оказиям всяческим…
– Так изволите видеть: остановились мы на площади, отпрягли лошадь. Агап мне говорит: «Анисья Тихоновна! я пойду ведерочек купить». – «Поди, говорю, поди купи». Он и ушел. – Слышите? осталась я одна: села на телеге с плетушкой и сижу с поросятами. Вокруг меня эвто торговки всякие с пирогами, с грушей горячей, мужики, купечество разное, с посудой, кто с чем. Я взяла подтыкала платье-с и села, ожидаю покупателей. – Вскоре, сударыня ты моя, подходит ко мне купчик молоденький такой, щеголек, подходит и спрашивает: «С какими товарами?» – «С поросятами», говорю. «Покажи». Я открыла плетушку. Он вынул одного и осведомляется касательно цен. «Как цена?» – «Без лишку: полтора рубля». – «Таких, говорит, цен нонеча не бывает, а ты скажи настоящее». Я говорю: «Уж для почину, так и быть, рубль с четвертью». Он вынимает кисетик и выкладывает мне. Пересчитала я, «так точно-с», говорю, и перекрестилась. Подходит другой покупатель, также полюбопытствовал товар, спросил цену и отдал денежки. Гляжу-с, идет третий, Федосья Николавна. Идет в синей поддевке, худощавенький, на лице у него шов. А глядеть; честный. Право-с. Как раз подходит и осведомляется: «Почем поросята?» – «Рубль с четвертью». Знакомых же, сударыня моя, вокруг меня никого нет. Засим говорит такие речи (прасол он, что ли, какой): «Держи гривенник задатку, остальное сейчас принесу». И пошел. Я сижу. Годя немного, друг ты мой, вижу, он идет обратно. – «Что, цел, говорит, поросенок, которого я торговал?» – «Цел, милый человек; как давича двоих продала, только и есть, опричь никто не брал». – «А цел гривенник?» – «Цел-с», – и показала ему в горсти гривенник. – «Дай его сюда, отвечает он мне, я тебе огулом все деньги отдам». Я отдала. Полез он после того в плетушку, выбрал поросенка, вытащил его за заднюю ножку и несет… сам удаляется от меня… Я кричу: «Сударь! почтенный человек! куда вы?.. деньги пожалуйте!..» Он издали вопиет: «За мной иди, за мной, дома отдам». В одну минуту нырнул в народ и исчез, аки прах какой. Что делать, Федосья Николавна? как быть?.. поросят бросить не на кого; бежать вслед ему не приходится: товар весь растаскают. Я кричу: «Ах, батюшки, заступитесь за вдову: поросенка унес один человек». Подвернулся тут какой-то мещанин, спрашивает меня: «Чего ты, говорит, тетушка?» Я: «Так и так, поросенка унес один человек, я его совсем не знаю». Он говорит: «И я не знаю», – и отошел. Потом подходят ко мне, сударыня ты моя, два молодых юношей, обнявшись промежду собою, и спрашивают: «Что ты кричишь, тетенька?» Я ответствую: «Покража, голубчики мои, сотворилась; не знаете ли сего человека? в синей поддевке?» – «Э! говорят, у него рубец на щеке?» – «Так, так, рубец…» – «Нет, говорят, не знаем», – засмеялись и ушли.
– Бедовые!.. тут держи ухо востро да востро: с ног смотают, – женское дело…
– Имен
Страница 11
о с ног смотают, мать ты моя родная…– Ты бы жаловаться скорее… чего ж смотреть?
– Вот-с извольте дослушивать, Федосья Николавна. Я, конечно-с, намеревалась жаловаться. Ведь вы сами посудите: мое дело вдовье, – кто мне что припасет?.. Следственно, сами рассудите, по-божьему… Приходит Агапушка с ведерками. Я ему сказываю: «Как нам, Агапушка, быть? – рассказываю ему все, – примета, дескать, такая-то, в синей поддевке…» Только что вы думаете? А Агап его знает… «Эвто, говорит, Анисья Тихоновна, прощалыга надменный, ибо всем известный; я его и дом знаю». Как раз, значит, уложил ведерки, перепоясался и пошел к нему на дом. «Одначе вряд ли мы, Анисья Тихоновна, разыщем», – объяснял он мне таким манером. «Почему?..» – «Так как он есть вор, по этой причине вора изловить трудно». – Но я доказала ему: «Ты хоть посмотри сходи, поросенок с приметой: правое ушко сечено и хвостик в дегтю…» Затем Агап приходит туда, всходит в горницу, сидит хозяйка, что-то работает; а поросеночек по полу ходит… Слышите? дай бог исчезнуть, не лгу… ходит, вот как есть ходит, похрюкивает себе полегонечку… Примерно, Агап ведет такие речи с хозяйкой:
– Здравствуйте, матушка. Где ваш супруг?..
– Тебе на что?
– Да дельце есть.
– Мой супруг на торгу…
– На торгу… А я у вас поросенка возьму. Почему возьму?.. потому что он наш собственный…
– Не смеешь брать, его мой супруг купил.
– Нет, не супруг; а в спасов день его нам законная свинья пожаловала. Следственно, я должен взять.
– Ступай вон, – говорит, – мужик. Ты, – говорит, – сам свинья, рыло нечесаное.
Агап приходит и докладывает: не дает поросенка. Вот тут, Федосья Николавна, я встала и говорю: «Агапушка! покарауль, голубчик, поросят, видно, сидемши-то, ничего не высидишь; что будет, то будет, иду к купеческому голове». А сейчас помереть, ни за тысячи рублев не пошла бы жалиться, если бы голова не был мне знаком; то есть я, сударыня ты моя, теперича порешусь на какое другое дело, опричи жалобы. Истинно справедливо говорю. Всегда дрожмя-дрожу, как злодейка какая, ежели придется что касательно начальства. Такой характер. – У Агапа же я не забыла спросить дом того человека… недалеко от площади он… такой низенький…
А купеческий голова знаком мне по тому случаю, что я брала у них в лавке, что требовалось; покупала, значит, харчи всякие, ни у кого больше, только у них. Прихожу. Он собирается куда-то идти и встретил меня уже на лесенке.
– Здравствуй, Анисья Тихоновна, – говорит он мне.
– Здравствуйте, батюшка Прохор Антипыч.
– Что ты?..
– Заступись, отец родной: поросенка украли.
– У тебя украли?
– У меня, Прохор Антипыч.
– Как так?
– Сижу я на торгу с плетушкой; подходит человек. «Почем поросята?»… – и все подробно описала.
– Давно? – спрашивает он меня.
– Недавно-с…
– А как недавно?..
– Не могу вам подлинно рассудить, только оченно недавно.
– Посиди, – говорит, – здесь. Я собрался по одному делу к его высокородию тутошнему городничему, потолковать с ним о важной материи, так намекну ему и про твою покражу. Поди сядь, – говорит. Я вошла в лавку и присела там. Городничий же как есть, мать моя, жил насупротив Головина дома – рукой подать… Пошел он, а у меня сердце так и замерло… Ну, да потребуют к городничему?.. что я могу сказать ему с своим бабьим толком?.. трясусь, точно самодерга какая. Глядь, вижу, Федосья Николавна, действительно входит в лавку солдат, возглашает:
– Кто здесь женщина?..
– Я, милый человек.
– Вы просительница? – Я просительница.
– Пожалуйте к городничему.
– Ну! иду, голубушка ты моя, иду… ногами совсем не обладаю… ступить не могу… Дорогой служивый меня спрашивает:
– Относительно поросенка дело затеваете?
– Относительно поросенка-с… После этого я ему:
– Научи ты меня, господин служивенький, как, примерно, объясняются супротив городничего? как его величают?
Он сказал:
– Говори: ваше высокородие, да смотри в ноги не забудь шаркнуть.
Всхожу в палаты, стою у двери, жду, а сама, родная ты моя, перед господом богом щепчу про себя: «Помяни, мол, царя Давыда и его кротость; помяни царя Давыда и его кротость…» Вдруг из дальних покоев грядет он ко мне в шелковом, матерчатом таком балахоне, с трубкой; эвтак из-за пазушки крестик виднеется. А за ним, мать моя, голова, почтительно сложимши руки за спину. Подходит.
– Ты просительница?
– Я, ваше высокородие… Сама в ноги.
– Встань, – говорит. Я встала.
– У тебя поросенка украли? – Каким манером?..
– Так и так, ваше высокородие… сижу с плетушкой на хлебной площади, жду покупателей, – и все расписала… а у самой в глазах такие нешто огоньки, беда-с… Что с моей натурой делать, Федосья Николавна? Намесь, ей-же-ей не лгу, старшины в церкви испугалась: «Передай, говорит, свечку Смоленской», – и толкает меня; всполошилась ужасть как… Даже он заприметил; опосле выговаривает: «Чего ты, говорит, взбеленилась, дурища этакая!»
Дальше-с, городничий, выслушавши меня, подумал и пошел в комнаты. Я стою у двери. Выносит мне, государыня моя, куп
Страница 12
ческий голова писулечку и гласит: «Ступай к хвартальному во вторую часть на Пощечинскую улицу». Потом сам городничий кричит мне: «Сходи, тетенька, с моим солдатом, он тебе укажет дом». Я и побрела. Солдат со мной. Идем да поговариваем, беседуем, дорогой-то. Разговорились. Слово за слово, мать моя, он и держит такие словеса: «Не тужи, сердечная! поросенок теперича отыщется, ежели милость твоя будет пожаловать мне на полштоф…» Конечно-с, совестно было отказать. Деньги я, Федосья Николавна, завсегда при себе находила; ибо, знаете, дело мое вдовье, неравен всякий случай может случиться… дала ему. Он то есть зашел, выпил; скоро управился. В это самое время зазвонили к вечерне. Дом у хвартального такой особенный, деревянный; отдельно стоит на пустыре; на воротах лежат хищные звери, зеленой краской выкрашенные. Недалече будка-с. Ну-с, вот мы входим в хоромы самые. У двери стоит солдат, вычищает платье. Он обращается к нам:– Что вам угодно?
– Доложите, – говорю, – вашему барину, – и подаю записку.
– Касательно чего потребствие имеете?
– Касательно поросенка-с… так и так.
Он пошел и доложил про нас. Квартальный выходит с стаканом чаю в руке и с моей записочкой. Читает. Прочитал и говорит:
– Ты просительница?
– Я-с, ваше высокоблагородие.
– У тебя поросенка украли?
– У меня-с.
– Что же, ты хочешь найти его?.. Поди-ко сюда в комнатку, потолкуем о твоем деле.
Поставил стакан на прилавочек в прихожей и ведет, голубушка ты моя, меня в махонькую каморочку, тут и есть направо. Запер за мною дверку и вопиет:
– Ты как смеешь беспокоить городничего? а?
Я так с испуга и раскисла. В глазах, верите богу, вот как замутошилось, что квартального из виду потеряла.
– Да говори: почему ты беспокоила городничего? почему не обратилась ко мне?
– Ваше высокоблагородие, – говорю, – я и не ведала даже, где городничий жительствует, и не думала к нему ходить. Первоначально я осмелилась утруждать купеческого голову.
И слышать не хочет; шумит:
– В часть тебя, дрянь такую… в часть запру… эй! солдаты!..
– Батюшка! помилосердствуйте… что хотите с меня извольте взять, только избавьте муки… все возьмите…
– Да что с тебя взять-то, с пасквили?
– Вот целковый…
Он протянул руку… и отворил дверь.
– Смотри, – говорит, – ежели ты теперича когда вторично будешь жаловаться городничему, я с тобой не расстанусь так.
– Не буду, – говорю, – никогда… Слава богу, отлегло от сердца.
– Как же, – спрашиваю, – ваше высокоблагородие, относительно поросенка, прикажете уйти мне?..
– Сейчас, – говорит, – со мной пойдешь вместе.
Ну, думаю, Федосья Николавна, не чаяла вживе остаться… такой характер заноза у меня…
– А знаешь, – спрашивает он, – дом того человека, что унес у тебя поросенка?
– Знаю-с. Недалече от площади.
В скором времени мы пошли с хвартальным; вдобавок с нами два солдата идут. Только что мы, сударыня моя, приходим к тому домику, крохотный такой, и идем прямо в покои; хвартальный упереди. Видим: на лавочке сидит женщина, вяжет чулок; вокруг ее никого нет. Сейчас хвартальный вскинул взорами и спрашивает:
– Где твой муж?
Она поднялась, обдернула фартук и гласит:
– Мой муж на работе-с.
– На какой работе?
– Канаты сучит.
– В котором месте?
Она маленько подумала и доложила:
– В Грязной улице, у своего хозяина.
– Ты врешь? – сказал квартальный.
– Никак нет-с. С мальства не училась эвтому делу, чтобы врать…
Хвартальный обернулся и повелел солдату сходить в Грязную улицу и разведать все. Мы стоим, ожидаем. Хвартальный сел, закурил пипочку такую, а сам ни слова. Солдат приходит уж долго годя.
– Что?..
– Да что, хозяин говорит, у меня его нет. Я не знаю, что за человек такой есть.
Хвартальный как разозлится, милая ты моя, только нешто зубами поскрыпел.
– Я тебя попотчую, – говорит он ей на прощанье, как совсем выходил.
Вся причина, поросенка не отыщем никак.
– За мной идите, – говорит хвартальный.
Мы пошли. А уж, Федосья Николавна, становилось поздно. Куда ведет, в толк никак не возьму. Сердце у меня не на месте. Думаю: «Как Агап на площади? чего доброго, не растаскали бы последних…» Вот-с идем из одной улицы в другую, как повернем за угол, так хвартальный обращается:
– За мной идите. – И все дальше да дальше.
Очутились мы перед чистеньким домиком. Хвартальный остановился у калиточки и начал дергать за веревку… зазвенел колокольчик… Калиточка отворилась, и показался кто-то с надворья. Он спросил: «Дома?» – и ушел туда. Слышите? Ждем, сударыня ты моя, после этого; проходит с час времени, ничего нет, проходит другой, мы разговариваем: «Что, мол, такое значит?»
Солдаты мне объясняют:
– Он еще долго не воротится. Ежели уж засиделся на месте, то скончания не будет сиденью…
– Как же, служивенькие, так?
– Да так. Не будет ли вашей милости пожаловать нам на полштоф, а то нам пора отправляться…
– А я-то, господа квалеры, с кем останусь? Теперича я и дороги не найду.
– А с нами же, – говорят, – и останешься, ежели п
Страница 13
жертвуешь опохмелиться… Мы даже проводим вас после таких делов…Размышляю в своем разуме: «Надо дать!.. что, как взаправду они уйдут?..» Дала. Вторая причина, отказать не приходится, взяла и дала. Недалече, сударыня моя, тут был кабачок… Я осталась у калитки, стою. Солдаты вышли скоро. Глядим, выходит с надворья хвартальный, смотрю – за ним другой, тоже хвартальный, стало двое их. Теперь, Федосья Николавна, милая ты моя, тот, что с нами был прежде, сделался хмелен, а другой нет: не совсем чтобы хмелен. Хмельной идет да покачивается и называет другого своим приятелем. Другой отвечает только: «Спасибо», – говорит… Захмелявший шумит: «За нами идите!» – и все шатается… А тот глаголет ему. «Нехорошо, говорит, не качайся!..» Таким манером, сударыня моя, мы идем. Солдаты ведут речи промеж себя, что хмельной хвартальный, когда тверезов, дока бывает… на все дела мастер… Только что как выпьет, нехорош делается… Приходим, мать моя, к прежнему дому, где вор-то жительствовал; всходим. Опять его хозяйка сидит, чулок вяжет. Сию минуту тверезой хвартальный обращается не к ней, а ко мне:
– У тебя поросенка украли?..
– У меня, ваше высокоблагородие.
– Кто, – говорит, – видел твоего поросенка в эвтом самом доме?..
– Мой Агапушка, – говорю…
– Позвать!..
Я как раз отправляюсь с одним солдатом за Агапом на площадь и больно уж рада, что по крайности узнаю, как он там, сердечный, справляется? Дорогой, Федосья Николавна, – что вы станете делать? – солдат опять просит опохмелиться. Ну, уж тут я ему прямо сказала: «Ты, мол, голубчик служивенький, посмотри, сколько у меня деньжонок осталось? на, пожалуйста, посмотри: всего, вишь, навсего три четвертака». Он отвечает: «Ну не надо!.. главное дело, говорит, я так спрашиваю: дескать, нет ли опохмелиться?» Ну приходим мы на площадь; стало темненько; вижу – вдалеке сидит, Агапушка, ждет… никого нет на площади. Подхожу, смотрю, поросят всех раскупили… ну, слава богу!.. «Пойдем, говорю, Агапушка, к хвартальному»; сели на телегу и подъехали к тому дому.
Спрашивает хвартальный Агапа:
– Ты тут видел поросенка?
– Тут-с, как же не тут, когда наш поросенок меченый, хвостик в дегтю и прочее…
Потом говорит хвартальный супротив хозяйки:
– Ты что ж говоришь, анафема, что у тебя не было поросенка?
А хмельной хвартальный себе:
– Ты что ж, анафема, разговариваешь, будто у тебя нет поросенка?.. В часть ее! эй!..
Но тверезой отвечает ему: «Не кричи, говорит, нехорошо!..»
Хозяйка же только твердит: «Знать не знаю, что есть за поросенок такой на свете». Бились, бились! вдруг хмельной хвартальный подходит ко мне и спрашивает:
– Да ты что ж, говорит, дурища, молчишь? а? Я за тебя стараюсь, шумлю здесь от души сердца, а ты не разговариваешь?..
А тверезой на Агапа:
– Ты врешь, дурья порода! ты здесь и не был.
– Как не был?..
– Я тебе говорю, что ты не был… ты послушай меня, что я говорю: ты не был!..
– Нет, я был…
– Врешь!..
Да как пошли, как пошли… батюшки!..
– В полицию вас всех, – кричат.
А хмельной хвартальный объясняет мне:
– За водкой надо посылать!.. Ты у меня не размышляй, а дело делай. Я тебе сказываю так точно… чтоб в акурате водка явилась…
Только после таких разговоров, голубушка моя, окончилось тем, что поросенка так-таки не разыскали (вор – бедовый). Хвартальные же между тем сказали друг другу:
– Пойдем в трахтир, их сам шут не разберет!.. И пошли. Мы постояли маленько и себе пошли. Жалко поросеночка-то… право слово… как налитой, господь с ним!.. сама три недели кормила…
1858
Хорошее житье
Целовальник с подстриженной бородкой, одетый в синюю суконную чуйку, распахнувшись и упершись левой рукой в свое колено, сидел за столом против своего приятеля, низенького мещанина, который пристально смотрел ему в лицо и курил трубку. Дело происходило за двумя бутылками пива.
– Да, братец ты мой, такой жисти, кажись, не будет супротив той, как я служил целовальником в Покровском… Нет!..
– Ты ведь перва был приказчиком у какого-то купца?
– Как же, как же… три года выслужил в Ливнах.
– Ну, а как торгашом-то сделался?
– Попросту: стало быть, сказать тебе по секрету, у хозяина поддели на Егорьев день пудов шесть сахару, чистого рефинаду.
– Вот как! и сделался торгашом?
– И сделался торгашом. Да что! должность самая пустая эта, Иван Иваныч. И какой случай, сударь мой: прихожу опосле к одному купцу пайматься, в сидельцы, – «нет, говорит, мне таких не надо». А хозяин, тресни его бока, все расписал про меня; вся причина, толстобрюхой вникнуть не мог, как было дело: воровал-то не я, значит, а товарищи; я только принимал. Прихожу к другому, тот говорит: «Не надо!» Бился, бился, так приписался в торгаши. Что сделаешь! Близко локоть, да не укусишь.
– Эвто точно…
– Бывало, едешь, едешь с горшками али с дегтем, смехота, ей-богу!.. орешь, хочь бы те на грош кто купил. К примеру, в рабочую пору: в целом селе ни души. Горланишь: «Соли, дегтю, табаку, мол, лежит баба на боку». Хоть что хочешь де
Страница 14
ан! ей-же-ей… индо горло распухнет кричамши. На твое зеванье только собаки вякают.– А никак, Андрей Фадеич, тут прибаутки какие-то читают! Мне их не приходилось знавать.
– Есть и прибаутки, там: «Ей тетки, молодки – охотницы до водки, старые старухи – охотницы до сивухи…» Мало ли! Да все пустое, Иван Иваныч. Я б, кажется, теперича не взял тысячи рублев ездить опять по деревням да распевать эти прибаутки. Вот целовальничья жизнь! аи лгали!.. надо прямо говорить.
– За что тебя сменили?
– Вспоминать не хотца! (целовальник шепчет на ухо мещанину): то есть в моем кабаке убийство приключилось… ну и…
– М-м…
– Да я не роблю; разве я роблю? У меня опять будет место, целовальничье же, и скорехонько.
– В Запиваловке?
– В Запиваловке. Говорят, кабак не плоше нашего Покровского… пьяниц довольное множество.
– А видно, хорош был кабак в Покровском? Расскажи-ка мне что-нибудь про него.
– Одолжи-ко мне своей трубочки… что-то в горле першит. Год назад я хам сидел. Слободка порядочная; народ все однодворцы, такие забубённые головы… люди важные! Вся причина, Покровский народ пить здоров. – Уж как пойдет пьянствовать – держись шапка. Оттыкай бочки!.. жену пропить готов совсем с утварью. И житье, Иван Иваныч, было расчудесно: благоприятели, мужики-то… Вот сказывают целовальники, что на больших дорогах, говорят, на хлеб не добудешь… а тут знай разевай пошире рот… Оно хоть и сменили меня, не замай! лучше авось не сыщут. Ноне кто живет по чести? бают: «Своя рубашка к телу ближе». Так ли?
– Подлинно, Андрей Фадеич.
– Как же можно? Да ты, братец мой, рассуди: теперича идет мужик в кабак, несет он, положим, полушубок али везет телегу, телега новая, колеса шинованные, недавно обтянул, просит: «Дай ведерку!..» Ну с чего же не дать? и-их! По мне, вещия ли хорошая, деньги ли, статья одна: что в лоб, что по лбу, все едино! Перва-наперво я, как только поступил в кабак, тоже почеремонился, не хотел брать… Приводит мужик теленка, – говорю: «Ты отвяжись от меня лучше… здесь кабак, не скотный двор». Он вдруг на меня: «Да ты что ж куражишься? первый ты у нас, что ли? законодатель, вишь, пришел; до тебя небойсь жил целовальник, не токмо телят, лошадей принимал». Точно, принимал лошадей. Думаю: «Что же?..» – и пошел с того времени, да как пошел… хе, хе, хе… благодарствуют мужики… кланяются, кричат: «Отец!», – примутся иную пору обнимать, ей-богу! «Вот так боготворитель, вот защититель! отцов таких мало…» Смотрю на них, смеюсь…
Сидишь иногда эвтак, помышляешь: что значит поставить кабачок-то родной в селе, что твой улей с медком; ишь льнут!.. со всех сторон; отбою нет… завсягды народу злей, чем па ярмарке. Поди же в поле, на большой дороге… разя уж стыдь загонит какого проезжего, и тот – выпил шкалку, косушку много, закусил крендельком и марш вон: ты жди.
И такое диво, Иван Иваныч: наш священник раз до трех пытался снесть кабак в сторону, подальше от села: говорит, на церковной земле стоит, помнишь, истребить задумал пьянство и подавал куда-то прошение – нет! о сю пору стоит себе, дескать, мне и тут хорошо… Как следует быть, приезжали судьи, мерили землю (в акурате у меня попили). Говорят священнику, Лександром его звали, Погожев прозывался: «Дело твое, бачка, маленько с хвостиком; кабак на пол-аршина стоит от церковной земли; законное он место занимает». Бачка и остался, кабысь несолоно хлебал. Опосле почал в церкви гласить проповеди, увещает мужиков: «Что вам, православные, кабак-то, сласть какая, что ли?» Мужики слушают…
Вспомнил я про одного мужичонка, пьяница был, оторви голова! и плутина… бесперечь сидит на своем крыльце, выжидает: как бы где ломануть?.. с кабака глаз не сводит. Кабак же, надобно тебе сказать, стоял на самом на юру, ровно среди улицы. В тихую погоду я возьму нарочно выдвину из сеней бочки, что были с вином, всполосну их, да с боку на бок переворачиваю, и-и-и запах идет… а мужик сидит…
Однова в воскресенье заблаговестили к обедни, тронулся народ, эвтот мужик тоже: честь честью вышел из двора, снял шляпу, перекрестился и бредет, словно к обедни. Отошел чудок, да как вдарится к кабаку и прилетел, говорит: «Давай скорей!» – вынимает подпояску. Смотрю, дверь отворилась, бежит его жена, цап его за виски, кричит: «Вор, мошенник, куда те родимец занес?». Схватила его, давай куделить… Сама ведет вон. Меня смех так и разбирает. Что же? убежал-таки. Ну мы с мим тут посмеялись порядком; говорит: «Баба дура, нешто она понимает!..»
Главная вещь, доложу тебе, кабачок был самою что ни на есть благостынею, истинно тихая пристань. По этому случаю он не токмо что для выпивки находился, а как палата какая. Там и суд, и питра, и все: уж ежели задумали порешать какое дело, сейчас все гурьбой идут к кабаку, почему что нет места тоже; чуствия такого нет в другом месте. У них, знаешь, всеми вещами орудует ихняя сходка. Сходку собирает староста: с прутиком, понимаешь, расхаживает; за ним дела больше никакого нет. По правде сказать, пустая башка. А повыше там есть еще начальство: писарь, старшина, гол
Страница 15
ва. Эвти жили не в нашем селе, а верст за пять, в деревне Анишине: в Анишине опять есть кабак и гульба такая же, как у нас: вчастую сам голова сберет мужиков к кабаку, на ихний счет нарежется и растянется; а мужики над ним песни поют; голова только бормочет: «Хорошенько, ребята!» Наша сходка почесть никогда не обращалась к начальству, кроме как ежели убийство, пожар сотворится где; сами все обделывали. Да ведь, поди, к примеру, покража учинилась, поди проси голову: сперва надо его небойсь упоштовать, – упоштвуй; а там он пошлет к старшине; эвтого тоже падыть уботворить; а там привяжется писарь – ему… Да неизвестно, пойдет ли дело в ход; а то правого и виноватого отхолят, и ступай, почесывай спину: «Ты, дескать, не воруй, а ты не разевай рот, не беспокой начальство». Что и толковать! А вот сами миром, собором… лучше!..Расскажу, братец ты мой, я тебе оказию, как, стало быть, наш мужик пить-то охоч, да здоров. Пьянствует так, не роди мать на площади!.. ахти!.. Знамо, для меня эвто лучше требовать нельзя! мне какое дело! По мне хочь (в рассуждении чего избави боже, защити мать пресвятая богородица всякого православного христианина), хочь на месте опейся… мне все равно; что я, матка али дядька их, что ли?
Первым делом Покровский мужик замешан вот на чем: как значит, утро забрезжилось, заря еще не занималась, ни росинки во рту нет, глаз путем не прочистил, а уж чухает: как бы дерябнуть где да как бы объегорить кого! Ежели надуть некого, тащит что-нибудь свое; а если есть – прижидает времечка. Одно слово, один под другим подкапывает, один другого поддевает. Так расскажу… историй, сударь мой, не оберешься… Хочь, к примеру, возьмем такого сорта материю: весенней порой нашей сходке нужно было решать, когда выезжать в поле, – запахивать землю? с которого дня? с легкого али еще с какого? У мужиков делалось все собща: косить ли, жать ли, колодезь ли чистить, обманывать ли кого, всегда собиралась сходка. И прежде, как станут толковать, сложатся перва на четверть, ведерку, как какое дело потребует, и почнут судить. Тут тоже, касательно запахиванья. Выпили они четверти с полторы, давай судить: «Как? что? когда?» Ну порешили таким манером: запахивать чтобы беспременно в четверг, не в среду. «Смотри, мол, ребята, в четверг!» Так. После все разошлись по домам. Вот проходит понедельник, вторник. В середу, батюшка мой, и выезжает один мужик в поле (по чести сказать, бедный); помолился, занес соху и пошел пахать свою землю, сам озирается: не видит ли кто его; знает, что в середу не положено. Пашет. Прошел ряд, другой, глядит: идет мужик; за плечами несет мешок с мукой.
– Здорово, кум.
– Здорово.
– Бог помочь.
– Спасибо.
– Что, рыхла земля-то?
– Рыхла… ничего… Земля добро… Знатная. Прохожий мужик поглядел на небо:
– А что, небось теперя давно журавли прилетели? Ишь парит как!
– Таперь прилетели. Мишутка сказывал, недели две, как прилетели.
– Гм… Ну, прощавай.
– Прощавай.
И пошел мужик, идет дорогой да говорит:
– Постой ты у меня, я те журавлями такими попоштвую, другу-недругу закажешь по середам запахивать.
Приходит на село – прямо к старосте. Староста взял тросточку и ну ходить по дворам, постукивать под окнами:
– Эй! православные! ко цареву кабачку!..
Живо все собрались.
– Что?
– Да что? Федька запахивает землю.
– Как?
– Да так.
– Ребята! беги туда, к нему.
Человек шесть бросились в поле, подхватили у Федьки соху – и к кабаку. Я сижу под окошком, щелкаю подсолнышки, сам ухмыляюсь: «Мол, дружки!.. к чему прицепились».
– Ну-ко, – говорят, – Фадеич, отпусти две четвертки. Бог послал поживу: соху в поле нашли; вишь, до четверга забралась туда.
Я говорю: «Подите возьмите» (вижу, соха добрая). Две четверти невелика важность. Да смеюсь им: «Когда вы, бояре честные, перестанете кабак-от набивать всякою упряжью?»
– А все тогда же, – говорят, – когда нас на свете не будет.
Хорошо. Федька же, братец ты мой, стоит, смотрит на соху, так и дрожит: умолять не может сходку, а дрожит. Ну, ладно! Взяли мужики вино, выносят из кабака, а в сенцы ко мне волокут соху. Федька глянул на ее, да как бросится всем в ноги, кричит:
– Братцы! сошник хочь отдайте!.. Мужики ему бают:
– Одначе ты, Федор Зобов, ловок; словно набитых дураков нашел; кабысь мы не знаем, что в сошнике все и дело-то!.. Ловок, нечего сказать!
Потом обращаются к нему:
– А вот, Федор Зобов, не хочешь ли с нами выпить? Ладней будет.
Мужик совсем отказался; стоит, не знает, что делать, растерялся. Опосле, выпивши, ему толкуют: «Э! Зобов… Соха куда ни шла! вещия нажитая… живы будем, сыты будем!» И то дело! А староста успел назюзиться переж всех: тычет палочкой в землю, себе бормочет: «Живы будем, сыты будем…» (Зобов Федька все молчит). Комиссия, Иван Иваныч, с эвтим народцем! Главная сила, любопытно смотреть на них, как расчагокаются, как расчагокаются, берись за бока да покачивайся. Так-то иное время долгонько не видишь никого, может не поверишь, ей-же-ей! скука берет… право! а показалась эвт
Страница 16
сходка, чуешь, гвардия-то идет, размахивает руками… Ге, думаешь, вот они, голубчики!.. и ничего…– Как же, Андрей Фадеич, а начальство ежели?.. Ничего, что принимаете рухлядь всякую?.. чай, не показано…
– Знамо, не показано. Ты, Иван Иваныч, гляди сюда: все эвти вещи разя держишь в кабаке? и-и!.. Кто же себе враг, живьем так-таки, и отправляешь куда след: имеешь на стороне ботворителя такого… Да ко мне хичь за полночь приезжай, хочь чиновник какой – ни крохи не найдет: все спущено! Тоже ведь надо налицо иметь деньги, как же быть? и раболепствуешь»…
– Вот что…
– А ты полагал, у меня в кабаке-то лавка? шалишь!.. кажинную тряпку живьем на базар. Так-то, сударь мой. Ты бы лучше спросил вот о чем: что было бы нашему брату делать, ежели бы не было кабаков в селах? Что тогда?.. какая жизнь целовальнику была?.. Нешто понес бы тогда мужик за десять верст соху или женину поняву? Нет!.. А это милость божия, что несут: неси, пожалуйста!.. душа наша кривая, все примая, и мед и тот прет.
– Расскажи-ко, Андрей Фадеич, еще какую историю; право, занятно.
– Как занятно-то, слушай!.. Выпьем-ко… Эй, Карпуша! дай нам другую парочку… Например, такого рода случай: в запрошлом году требовалось из нашего села выбрать ратника. Ну, здесь мужикам много не удалось попить; не на того напали. Сходка должна была выбрать ратника из своей братии, кого, значит, заблагорассудит. И сошлись они к кабаку. Староста похаживает посередке, понукивает:
– Что же? как? кого, ребята? надыть что ни на есть лядащего, понимая, вора какого али лошевода.
– Да знамо, – говорят, – кого ж больше, как не Петрушку Носа, что два раза в остроге сидел за покражу.
– Его!
– Ну его, так его! туда ему дорога… поделом, незымь его разгуляется… незымь!
Все согласились – и пошли было; только отошли шагов десять от кабака, один и кричит: «Стой, малый!» – сам думает. Мужики остановились: «Что?» – «Да вот что: оно Петрушку-то мы сдадим, да как бы не было худо; ведь ратников скоро обещались распустить по домам; а Петрушка ежели воротится назад, так подпустит красного петуха – шабаш!.. вот что сделает!» Мужики так, знаешь, и разинули рты: «Э, малый, заговорили, и впрямь так; не надыть: вор захочет, все сделает, – он своей головой не дорожит. Коли так, пускай идет Ахрем, он же на очереди». А Ахрем, Иван Иваныч, точно был на очереди; но заирежде его совсем не думали отдавать, потому что одинокий был: никак человек шесть детей имел, мал мала вес меньше, жену (она в то время была брюхата), больше никого; а сам был хвор, нездоров. Иные из мужиков тут упирались, не хотели его сдавать; мол, на кого оросись семью? на что лучше – воры есть: одначе нет! Все порешили таким обычаем: ежели Ахрем не напоит допьяна всю слободу, и толковать много не след: в ратники! Я тебе докладывал, что так и чухают, с кого бы сорвать выпивку? Сам себе говорю: «Да! напоить всю слободу махина порядочная… кабы согласился!» Призывают Ахрема, сбились к кабаку.
– Ну, Ахрем, как полагаешь?
– Да что, – говорит, – ребята: у меня не токма что напоить всю деревню, – кажись, дома жрать нечего! поди вон, ноне зиму последняя коровенка издохла; а на гумне ни былинки, ни травинки.
– Неужели уже на четыре ведра не достанет?
– Я ж вам баю, у меня вот до чего дошло: хлеба скоро не будет!
Мужики думают, соображают, как ухитриться?
– Это, – говорит один, – того… балы, чтобы, к примеру, на четыре ведра не достало. Врет! вишь, гнет экося околесицу: трескать нечего! Одно калянство, упрямость одна. Не хотца попоштовать…
– И то, малый, – заговорили все. – Ежели бы боялся ратников, последние колеса заложил да поднес бы. Верно, не боится, а не боится – не трожь, идет!
Тем и покончили. Меж тем пошли они к Петрушке Носу, к вору, говорят ему: «Пожертвуй, Петр Анисимыч, на ведерку: остаешься, голубчик… мы тебя пожалели; малый-то ты добрый. Ахрем за тебя идет». И сдернули с Носа, только не ведерку (ведерки не дал, собачий сын), а всего пол-осьмухи.
Опосле, братец ты мой, как повезли Ахрема, смех!.. окружили его телегу, шумят: «Прощавай, Ахрем! вся причина, не помышляй много… не отчаявайся!.. Слышь, царь-батюшка обещал ратников скоро воротить».
Ахрем сидит, сам утирает слезы… Жена его шибко убивалась! от телеги-то никак не отволокут…
Он не воротился назад. До Ливен почитай дошел, идучи из Севастополи; передовым будучи, песни играл и говорил своему земляку: «Микит! придем в свой город, надену красную рубаху, пойдем песни заиграем». (Что на уме-то подержал!) А Микита говорит: «Хорошо, Ахрем, как велит бог дойти до своего города, я заприметил, что ты пить воду бестолков». Он, глядь, под Ливнами попил воды и скочурился.
Я панахвидку об нем отслужил в Туле; ездил упряжь разную продавать…
Мужики наши услыхали про смерть его, рассуждают, стоят у кабака: «Верно, на роду ему напечатано, что не воротится: другие вон воротились». Хе, хе, хе, хе… Обращаюсь к ним из окошка: «Что ж, ребята, товарищ-то ваш воротился?» Стоят, почесывают виски: «Нет, не воротился…» – «Соломатники! говор
Страница 17
им, что бы вам тогда урезонить его? и сами бы населезенились, и товарищ был бы цел». – «Такой, говорят, каменный попался…»Одно слово, день-деньской шляются, то и норовят, как бы попьянствовать, взогреть кого. Смотрю на них: ну корову за рога! али имущество какое; чего дремать? Однова, что ты думаешь? вот чудо! Сидят они супротив кабака на срубленном дубу и говорят о чем-то; смекают, должно, дерябнуть… сидят, думают. Думали, думали да взяли пропили дуб, на котором сидели, – бог свидетель! вот, дивись, колено какое сотворили… Что значит замысловатый народ-от. Мне же и невдомек об дубе: где целый валялся, общий – ихний, его и колыхнули! Отпущаю вино, говорю:
– Ишь дерево-то!.. Я об нем словно и забыл; без призору совсем валялось.
– Мы, – бают мужики, – думали, что ты не примешь.
– Какой? подавай знай!.. толковать там!
Опосле облапили меня, кричат: «Заступитель! отец!» ха, ха, ха… Стало быть, уважение им делаю. А за дуб-от я в тот же день дал пятачок свезть в город и получил билетиками три целковых. У меня будь знаком, ходи дальше!
Да, Иван Иваныч, житье было хорошее, хорошее… знатное житье… Кажинный раз продовольствие чувствовал: пей, ешь сколько влезет; и карман никогда засухи не видывал.
А вот, доложу тебе, ежели у кабака не приходится иметь дела, положим дождь ежели идет али сиверка, ненастье, так мужики собирались в» ригу, недалече стоит она, пустая: громадища такая, на каменном фундаменте построена. Над воротами же у ней содержится надпись такого происшествия, написано: «Вход в сарай… для, теперича, угощения и поштванья крестьян покровских вином из питейного кабака с продажею пива». Как то есть важно выведено! грамотей какой-то постарался.
Раз летом, во время дождика, мужики заключались в эвтой самой риге, сидели, запивали наемные луга; десятин пятнадцать купили, и попойка была богатая: три ведра взяли. Народу собралось много; был там с ними тоже вкладчик, отставной дьячок, он находился для потехи больше: веселил компанию. Еще некий мужик Еремка. Он слыл запевалой; мухортный такой мужичонка: на вид две денежки, грош сдачи. Но пел ловко; как зальется: «Сидит ворон на березе», – унеси ты мое горе! аки певчий какой, и руку приложит к виску. Дьячок же петь вовсе не умел; за то, говорят, и отставили его, что уши в церкви драл до самой до болятки… А игрец был лихой: захочет откачать вприсядку, откачает! сдествует миловидно: смотри! и больше – прибаутки сочинял. Мой кабак он все звал «капернаум… пойдем в капернаум». Вча-стую мужиков учил, чтобы как можно пошибче пьянствовать: «Я, говорит, однова ехал из Тулы, когда на шест садились куры (дьячок стихами бесперечь говорил). Пришло мне на ум заехать в капернаум. Хорошо. Тогда я заехал в харчевню, лошадь женнюю пропил: потом телегу с хомутом, седелку с кнутом, узду с махрами, дугу с вожжами, чулки с сапогами, хе, хе, хе… мешки с пирогами, трубку с чубуком, кисет с табаком». Подлинно, Иван Иваныч, оно было так: он дочиста пропился, маленько только жаль, что не у меня, а в Анишином кабаке; но вот что случилось с ним в нашем селе: некогда Руднев «принял на себя труд гонять лошадей своих на пруд; он с пруда домой пошел, на пути в кабак зашел». И пропил, батюшка ты мой, как бы тебе сказать, не солгать, что бишь… дай бог память… забыл… нет; да что же я? я-то что? Гнедую кобылу пропил… Он было хотел саврасую; но я не взял, почему что жеребая лошадь: где мне с ней возжаться? Он, сударь мой, и пропил гнедую. Ну, таким манером гуляли мужики в своей риге; я тебе хочу рассказать про одно воровство. Ворой мужики больно презирали: попался вор, аминь! лучше улепетывай куда подальше: всего оберут, последние сапожонки снимут. Про дьяка будет речь впереди, мы порасскажем про Еремку-запевалу. Когда все в риге шумели, кричали, смеялись на Руднева, иные боролись, иные плясали, хозяин той риги вдруг как заорет во все горло:
– Ребята! стой! несчастие приключилось. Все в одну минуту притихли.
– Что?
– Пропажа сделалась.
– Где? кто? где?
– Здесь. От ворот замок пропал.
– Обыскивать!
– Обыскивать! Обыскивать!
– В кружок!
– Становитесь в кружок!
Пошла работа: давай обыскивать всех дочиста. Сейчас ворота приперли, стали в кружок: «Раздевайся!» Старосту первого… посмотрели – нет! другого – тоже нет. Третьего, четвертого… С кажинного снимали чекмени, сапоги, у дьячка за галстуком осведомились. Вот Еремка-запевало видит, что до него очередь доходит – шмыг замок в сторону… отбросил. Сам, ни в чем будто не бывало, стоит, кричит: «Обыскивай кругом!» ан дело-то и сметили.
– Ты что бросил?
– Ничего.
– Врешь! ты бросил вот замок.
– Я не бросал.
– Васька, ты видел? бери, держи, вяжи!..
И уж как все обрадовались вору-то, как батюшке родному.
– Веди к кабаку!
Грязь на улице, – ничего! прут гурьбой. Доскреблись до кабака. Крепко держат вора.
– Ну, малка, как?
– Да много разговаривать нечего: бегите к нему домой, везите телегу.
Вор бросился бухать в ноги то тому, то другому. Нет, поздно. Староста дал ему в спину, чтоб п
Страница 18
пусту не вякал. Привезли телегу: телега, Иван Иваныч, новая и такая, знаешь, всё с резьбой. На Миколу я продал ее веневскому ямщику за четырнадцать рублев. Важная посудина!– Ну, сколько же вам? – говорю.
– Три ведра!
– Ведро, больше не дам; поверенный бранится, спрашивает: «Куда так много вина выходит, слышь?»
– Давай хоть ведро, – кричат.
Я отпустил; телегу живо отправил на постоялый двор к куманьку. Вот они у меня в сенях принялись пить; сажают с собою Еремку-вора. Он не отказывается; присуседился к ним. Дьячок за прибаутки взялся; поднялось веселье, куда что!.. Некоторые спрашивают у Еремки:
– Ну, что? таперь не будешь воровать?
– Я, ребята, право слово пошутил, – говорит. Мужики отвечают:
– Да и мы шутим с тобой. Коли ж не шутим? Ведь тебя бы следовало драть, домового; а мы, вишь, что делаем? угощаем твою милость. За эвто, мотри, чтобы ты нам спел песню.
– Нет, братцы, сил не хватает.
– Врешь, споешь, чертов сын. У нас благим матом затянешь.
Точно; как нализался Еремка, все позабыл: играл пески напропалую. Когда мужики распили вино, начали они придумывать, чинить совет, что бы еще пропить у вора. Народец эвтот чем больше пьет, то больше ожесточается, входит в настоящую силу: норовит натесаться до самого нельзя… Кричит:
– Ребята! иди опять к Еремке: бери, что на дворе увидишь.
А вор Еремка захмелел: кабыть ополоумил совсем, орет:
– Там, – говорит, – у меня передки от водовозки стоять, цопай их сюда; смотри овцу не вздумай прнвесть али живота какого.
– Ладно, – говорят мужики.
Гляжу в окно: один везет передки, другой ведет овцу. Помираю со смеху:
– Сколько? – спрашиваю.
– Ведро!
– Полведра!
– Давай!
И пошли гулять; дождик тут перестал маленько; вышли на улицу; вино поставили на траву, и кто во что!.. Еремку заставили песню играть: он подбоченился, разинул пасть, задрал, закатился в вышину (голос звонкий), подхватили-трогай! Только по всему селу раздается. Горланили, горланили, – перестали. Обратились к дьячку.
– Ну-кася, Руднев, следствуй трепака! кажи нам, где раки зимуют.
Дьячок подобрал полы, невзирая на грязь, ударил трепака. «В обмочку, кричат, в обмочку». Согнул колена, зачал в обмочку[1 - Вприсядку. (Примеч. Н. В. Успенского.)] ногами вывертывать; сам прибирает: «Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь…» Веселье поднялось такое!.. На селе бабы, девки выступили из домов, смотрят… истинно праздник! А тут же промеж сходки кто цалуется, кто лезет к рылу с кулаками; известно, пьяному чего не взбредет на ум!
Между эвтим вино опять вышло все; спохватились они, сбились в кучу, шумят: «А что, малый, почто вор-то не поштвует нас? Забыл? мы не токма пропьем догола весь дом его, в острог упрячем: воров не приказано держать в деревне!»
Послали в третий раз к Еремке на дом. Он же ничего не слышит, не чует и знать не хочет: топчется в грязи ногами, покручивает платком на воздухе.
Через четверть часа, смотрю, ведут жеребенка (стригунок чаленький, – славная скотинка). И какая, Иван Иваныч, история: здесь мужики берут у меня вино, а Еремка, еле жив, увидал своего жеребенка, подошел к нему, заломил шапку набок и кричит: «Ты зачем сюда? а? вон пошел отсюда! Вина захотел? Ты у меня не смей… Чтобы эвтого не было… Ни, ни… Хозяин будет пьянствовать и лошади тоже?.. прочь пошел!» Потом: «Коняш, коняш!..» – комедия!
А как разведал, что его жеребенка пропивают, облапил его за шею и говорит: «Вот оно что!.. прощавай же, коняшка! Родимая моя!.. Верно, судьба твоя такая… плохая… пропьют тебя мужики – черти… Вишь, жеребятины, дьяволы, захотели».
Как взяли мужики еще ведро – ну гулять! Я тебе говорю, праздника веселей.
К вечеру все так натискались, нарезались, ног не волокут: растянулись у кабака на грязи и хрюкают… Один бормочет, насилу язык поворачивает: «А! говорит, попался… Не воруй! поделом вору мука…» Еремка же, братец мой, то-то разбойник!.. лег носом в грязь и тоже кричит: «Не воруй!» Ха, ха, ха… Чудеса!..
Вот так-то пьянствуют, – коси малина! Кажинный почесть день гульба, кажинный день: подрался кто – выпивка! Скотина на чужой огород зашла – выпивка! Чья собака взбесилась – опять выпивка! К примеру, вечером пьют, наране идут опохмеляться; таким обычаем зарядят недели на три! От кабака совсем не отходят; при нем и днюют. Один мужик, слышь, до того пропился, что приходит однова ко мне в кабак с мешком в руках и говорит:
– Фадеич! дай полштофик. Я тебе штуку принес.
– Какую?
– Да вот… (и развязывает мешок). Боюсь, что ты не возьмешь.
– Ну-ко, покажи.
Гляжу, в мешке собака. Залился я со смеху.
– Ах ты, – говорю, – молодец, молодец!.. С чем привалил… Нет, под эвти сбруи мы не даем…
Через никак день он сговорился, с дьячком Рудневым меня обокрасть, выкачать вино из бочек. Действительно, в полночь в самую они подступили к кабаку, проломали в крыше щель, залезли в сени, где стояли бочки, выкачали семь ведер и только было стали отправляться, как в то время нагрянула на них сходка. Она подкараулила дружков. (Я сплю; н
Страница 19
чего не слышу.)– Что несешь?
Воры смешались. Говорят сходке:
– Ребята! вот вам три ведра, отвяжитесь.
– Давай!
Сходка взяла три ведра и идет к кабаку. Воры как раз останавливают мужиков, говорят: «Куда вы? Ступайте дальше от кабака; целовальник неравно узнает: он все скрось брюхо-то у тебя видит». Сходка говорит: «Небойсь не увидит. Мы тихо разопьем». (Я все сплю.) Подсели мужики к кабаку и принялись за питру. Перва тихо шло, а как напились, давай шуметь, потом засучили рукава да драться. Слушаю: что за крик? Выбегаю в одной рубахе; такое несказанное пьянство!
– Ребята, – говорю, – вы воровать!..
– Кой черт, воровать!.. – И рассказали мне все как следует, докладывают только: «Мы с тем уговором, Фадеич, тебе открыли, чтобы ведро нам за работу».
– За ведром не постоим; а где теперь они?
– У дьячка.
Народом нахлынули мы на дьячков дом и слаудили воров. Мужик, что собаку-то приносил, вывернулся, оправдался перед начальством, а обвинил одного дьячка. Его представили в острог.
Перед отъездом он как нешто отзванивал трепака! приговаривал: «Эх, прощай, голубчик Ваня, скоро будет тебе баня!..» Его Иваном звали.
Так-то, сударь ты мой, Иван Иваныч; такие-то дела! Да, хорошо, оченно хорошо было жить в Покровском. Вспомнить любо!
Молчание.
– А что, Андрей Фадеич? Слушал я тебя, слушал, знаешь ли, что пришло мне в голову? Брошу я кошатничать! наймусь-ко я себе в целовальники! такой жизни я, признаться, нигде не слыхивал…
– И отменно сделаешь. Один тебе совет от меня, выбирай кабак не тот, что в поле стоит, а в селе: как в бывшем моем Покровском; да спуску ничему не давай!..
1858
Грушка
Жив еще старичок-то – мой тятенька… ни единого волоска на голове, а тоже иное время пустится в присядку! чуден родитель!.. Когда же захмеляет, то всегда запевает: «Аи ты, молодость… буйная!» разинет рот, а там ни одного зуба нет!
– Потап Егорыч! а вы знавали Ипполита Иваныча?
– Нет-с. А что?
– Ничего. У него все, знаете, пословица: болван!
– Г-мм…
– Потап Егорыч!
– Чего-с?
– А я, значит, вот что: мне теперича хотелось то есть знать от вас: почему вы не женитесь?
– Да я, Сидор Семеныч, уже был женат. Разве в другой раз?..
– Ну в другой.
– И то ведь думаю посвататься; но боюсь, Сидор Семеныч: моему-то тятеньке до меня дела нет; я кажинную материю должен сам сообразить. Жениться, говорит пословица, не напасть, да чтоб женившись – не пропасть…
– Я понимаю. Но поискать девку-то можно.
– Обвенчался я, Сидор Семеныч, с одной купеческой дочерью, – истинно закаялся; подхватил, можно сказать, такую скотину, – сам не рад… Грушкой дразнили…
– Что ж так?
– Так-с…
– А как вы, Потап Егорыч, мыслите насчет супружества?
– Я так мыслю, что жена должна быть супружницей своему мужу… одно слово жена… она обязана чувствовать все, понимать всякие мужнины добродетели; так как чрез эвто самое может произойти глупость…
– Справедливо. Я знавал некоего купца, так он свою жену в гроб вогнал.
– Известно; мы знаем доподлинно, что жену во гроб вогнать – ничего не стоит, потому что жена для своего мужа – все равно – плюнуть да растереть…
– Вот! я сейчас тоже доказать хотел. А ваша жена плоха была?
– Так плоха, Сидор Семеныч, что прямо одёр была супруга… и первое дело – обманщица… Значит, не судьба моя! хорошо, что убралась она, царство ей небесное!..
– Позвольте, Потап Егорыч, табачку понюхать… Вы мне опишите поподробней… Готово!..
– Я с ней познакомился еще оченно далеко до свадьбы. В ту пору я был приказчиком, сидельцем.
– Да, да, приказчиком.
– Вот и да! Однова гулял я летним вечером… Сначала-то, Сидор Семеныч, пойдет весело… ничего… занятная история. Ну, и гулял. Вот эвтак в одной руке держу тросточку, а в другой пеньковые перчатки и помахиваю ими на все четыре стороны. Стало темнеть. Я начал теперь размышлять: «Не пора ли, дескать, домой?» Думаю: «Пора!» – и пошел. Смотрю – на тротуаре идут две девушки: одна то есть горничная, а другая самая моя супружница, примерно, покуда девушка Аграфена. Хорошо; глаза у ней черные, брови черные… «Сем, говорю, подлабынюсь, попытаю счастие…» В случае, какова ни мера, можно тягу дать. Захожу сбоку и веду речь…
– Позвольте, Потап Егорыч, к кому это вы подходите?
– Да то-то к Грушке: купца Мурашкина дочь.
– Ну?
– И говорю: «Куда, сударыня, гуляете?» Она отвечает: «А вам на что, мон шер?»[2 - Мой милый? (от фр. mon cher).].
– Нам, значит, особенной важности мало… осведомиться желательно – не больше того.
– В эвтот раз иду, – говорит, – с гулянья.
– А нельзя ли полюбопытствовать, как ваше имечко?
– Аграфена Власьевна Мурашкина.
– Так-с. Что же вы, Аграфена Власьевна Мурашкина, стало быть, теперича домой отправляетесь?
– Домой, – говорит.
– Ну, а ежели внезапно смеркнется?.. Не опасно одним вам, примерно, идти?
– Нисколько: наш дом-то вот он!
– Где?
– Вот он.
– Гм… так, следовательно, до свиданья!
– Прощайте-с… А как вас зовут, мусьё? – спрашивает он
Страница 20
.– Меня, стало быть, зовут Потап Егорыч Свиньин.
Комедь эвта тем и кончилась. Одначе я дела не бросил. Зачал я с того времени прогуливаться у ее дома, все, знаете, по вечерам. Попробовать не мешает. Дом у них каменный; мезонин слишком здоровый выведен. Разгуливаю себе. Она сидит у окошечка, вяжет чулок али колбает что, – сама, понимаете, романсы поет. И пела она, скажу вам, Сидор Семеныч, ладно; пела, как бы доказать – чисто певчая какая… голос манерный и такой, что, к примеру, нашей мещанке тягаться далеко, куда! Грудью она не брала, а, значит, визгом больше… одно слово – важно!
Прохожу раз, Сидор Семеныч, мимо окошечка, в другой прохожу, говорю: «Дай поклонюсь, сделаю почтение». В третий иду, сымаю шляпу: «Вот, мол, вам… изволите, видеть?..» Она увидала, себе кланяется. Я усмехнулся – она ничего, только глаза под лоб подкатила. Тут я смекнул, что надо работать дальше…
На другой день иду опять. Гляжу – сверху из окна вылетает записочка, порхает по воздуху. Мигом схватил я ее, бегу в ресторацию, потребовал пару чаю и читаю. Пишет, стало быть: «Душанчик… ангел мой (девка горячая была). Ежели бы вы знали, как теперича у меня стремление к вам… от души всего сердца пылаю к вам девушка Аграфена… Сладострастию же моему, говорит, не имею границ – ибо свидание наше в Гречихином переулке должно беспременно быть завтра в 9 часов ночи: всячески ожидаю вашего согласия…»
Формально, Сидор Семеныч, свидания я желал. Ведь девчонка она была добротная, румянец во всю щеку. Карахтером ажио ль дрянь вышла. Наране, как следует, я приоделся, подвязал желтый шелковый платок под шею, запер лавку и отправился в Гречихин переулок. Прихожу; она там, с девкой стоит. Скидаваю шляпу.
– Здравствуйте, Аграфена Власьевна.
– Здравствуйте, – говорит, – Потап Егорыч. – Вижу, совестится.
– Здоровы ли?
– Слава богу-с. – Молчит. Потом обращается ко мне: – Что, Потап Егорыч, вы вчерась получили цидулочку? – а сама перебирает пальчиками и смотрит мне на сапоги.
– Так точно-с. Имел даже оказию прочитать… Вот ахнул, ей-богу!..
– Так вы, – говорит, – прочитали?
– Прочитал-с.
Опять молчит да вдруг как цапнет:
– Желаете вы, говорит, быть моим предметом? Меня эвто вскуражило. Докладываю:
– Аграфена Власьевна! неужели ж эвтого не желать? надо мною всякая то есть бессловесная скотина содрогнется, ежели я не пожелаю…
Прошла неделя.
В некий день является ко мне ее девка и дает мне от Груши наказ такого качества, чтобы я по средам и пятницам ходил к ней в четыре или пять часов утра, как лишь только заблаговестят к заутрени. «Ее отец и мать, говорит, стало, уезжают тем временем к заутрени, так, слышь, извольте, говорит, пожаловать для, значит, препровождения скуки ради… в ее комнату… я, девка, вас провожу туда».
– С моим одолжением, – говорю. – Только вот что: как бы теперича шкандалу не было? Ведь, – говорю, – меня там должны оглоухами накормить за мои посещения.
– Не сумлевайтесь. Ничего.
– Ничего так ничего. – Принялся я похаживать к ней. Хожу благополучно день, другой. Бывало, Сидор Семеныч, не поверите, – ночь не спишь: все боишься, как бы не прозевать. Слышу, благовесть в соборе: «До-он!» – сейчас луплю к ней, в чем ни на есть: в халате, в чуйке ли. Приближаюсь, – ворота отворяются, выезжает купец с купчихой, сидят и крестятся, – на рыжем мерину; ужастенный был мерин, домовым, Сидор Семеныч, всё звали. Эвто так-с. Затем ворота затворяются, а на место их отворяется калиточка, выглядывает девка и дает мне знак, чтобы я шел за ней. Вступаю в комнату… а не забудьте, на дороге, перед крыльцом, у входа-то я завсегда снимал сапоги, сбрасывал их долой, приходил в Грущкину комнату в одних чулках, понимаете, – дабы шуму не было. Так иду тихо, скромно, с ноги на ногу. – Грушка сидит на кровати, я помещаюсь подле нее, она хватает меня за руку.
– Знаете ли, – говорит, – я вас оченно обожаю… Я отвечаю:
– Помилуйте, напрасно беспокоиться изволите, не стоит-с…
Она:
– Мерси, Потап Егорыч…
– Ну, а если нас захватят? – говорю.
– Нет, эвтому никогда не бывать…
Таким манером проводим время. Особенностей же между нами ровно никаких не было. Путешествовал я к ней не раз и не два. Время, можно сказать, проводил в пустяках; окроме ласк да пересыпки из пустого в порожнее ничего не было.
Осенью, Сидор Семеныч, не помню в какой-то праздник, встретил я ее на углу Подъяческой, шел было к кажуховым лавкам. Увидал ее, остановился. Она чуть не бросилась ко мне на шею. Кричит: «Жисть моя!.. шагай ко мне ноне ночью, сделай такую милость… У нас будут гости, станут гулять до зари до самой. В моей комнате никого не будет».
– Пожалуй, – говорю. – В котором часу?
– В таком-то.
Наступила пора. Являюсь. Комната ее девствителыю пустая, и даже огня нет. Только слышу, в соседней зале идут пляски, крик. А Груша тотчас обращается ко мне и говорит:
– Потап Егорыч, слышите: давайте играть. Я смотрю.
– Да как же? не взошел бы кто. Чего доброго, в шею накладут, недорого возьмут.
– Нет, – шепчет. – Вы р
Страница 21
зденьтесь, скиньте сюртук, становитесь промеж банками.– Дальше что же-с?
– Да вы, – говорит, – разденьтесь: Амур и Винера будут представляться.
Мудрит мною, и на! Думал, думал, хочу раздеваться и нет. Что станешь делать? Взял разделся. Стал за цветами. Стою. Вдруг, голубчик мой, растворилась дверь, бежит из соседней комнаты ее брат, за ним целая куча девок. Хохот несется: «Ха-ха-ха…» – девки за ним, он от них, балуются между собою. Я ни жив ни мертв. Как вспомнишь, алии страм, Сидор Семеныч, берет, что эвта Грушка со мной делала… Брат увидал ее и говорит:
– Что ж ты, Грушенька, тут одна? А меня не видно за банками.
– Да так, – говорит, – скучно что-то стало. Мне эвти гости тоску наводят. – И так важно притворилась… «Ну, думаю, вздувать умеет». Брат приласкал ее и повел с собою в залу. Теперича на эвтом еще дело не остановилось. Вскорости я опять-таки забрался к своей любезной. Как услыхал колокол… то-то грех! чем бы бежать в церковь, а я к Грушке. Избаловался ловко. Вся причина, глуп был… можно сказать – сволочь! А всему виною Грушка… она, она вовлекла меня в свои сети, да! Прихожу. Сбросил у крыльца сапоги, и к ней… Пошли цалования, милования. Ее девка тут же. Скалит стоит зубы на нас. Вдруг что же? Слышу, скрыл дверь… я живо в угол к лежанке. Девка ко мне и заслонила меня. Я присел. Входит ее мать. К ней:
– Ты что тут? с кем разговариваешь?
– С Анютой, – говорит.
– А ты что здесь стоишь? (Эвто к девке).
– Да так, – говорит, – постоять вздумалось. А я за ней сижу; держу ее за хвост.
– Ну-ко посторонись…
Анюта посторонилась… как я шаркну! почал стрекать, Сидор Семеныч, как почал… ай-ай-ай… слетел с лестницы, выбежал на улицу в одних чулках. Продрал две улицы без оглядки, прибежал домой – хвать, ни одного чулка нет… все растерял… разожгли!..
Больше туда я ни ногой. Кончен бал. Говорю себе: «Нет, Потап Егорыч, отгулялся, будет! Дождешься, что тебе на спине горбов наделают». Ну, и не ходил. Бросил Грушку совсем. Теперича, Сидор Семеныч, насчет же моих походов к ним, кроме Грушки и девки, так никто и не узнал. Кто таков был, что за персона, но сие время неизвестно.
– Одначе вы, Потап Егорыч, повеселились на своем веку.
– Сидор Семеныч! Где же я повеселился? Ежели бы, к примеру, вы побыли на моем месте, ан не то… ведь сколько одних лихорадок переносил я за эвтими слоиюшками…
– А как же вы женились-то?
– Слушайте-с про сватовство. Вещия любопытная. Тут, глядите, какие зачнут строиться гогули. Грушка здесь пойдет уж гадить: такую скверность учинит! Можно сказать, натянет мне нос вот какой, ахтительный. Раз сижу я в своей лавке, всходит ко мне товарищ.
– Здорово!
– Здорово!
– Не хочешь ли, – говорит, – жениться? девка есть.
– Какая?
– Мурашкина купца, Аграфенка. Две тысячи приданого.
– А не врешь, что две тысячи? – Так точно.
Порассудил я: аи посвататься? две тысячи не маковое зерно. По крайности была не была, – повидался. Пойду. Наряжаться я много не стал; надел бекешку, теплый картуз, – рубль с пятаком дал у Гусевых. Ни в чем словно не бывало, иду. Перва-наперво, как можно чиннее, тихеньким прикинулся. Картуз сейчас скидываю, вступаю в переднюю; в ней никого нет, а стоит на столе умывальник посеребренный, мыло, полотенце тут. Мыло раскрашенное такое, я даже изумился, подумал: «Аль попробовать, что за товар?» Взял в руки, нюхнул, так и хватило амбрем настоящим, издохнуть – не вру!..
– Благородство, должно быть!
– Ка-ак же… то есть человек, Сидор Семеныч, я вам скажу, хоть бы пятьсот душ… да пока до эвтого дела нисколько. Вижу, выходит ихний молодец (заместо лакея он) и хотел было сымать с меня бекешку; я ему докладываю: «Пожалуйте ручку, будьте завсегда знакомы… лапочку сюда… я об вас думаю и полагаю… А что, хозяин дома?»
– Уехачи-с.
Там же в залах шум раздается: «Жених, жених пришел!» Шествуя в покои, сам помышляю: жалко, не надел сюртука-то… развернулся бы! ишь старика нет дома. Помнишь, золы-то напустил бы… Купец, прочим, эвтого не любил. Вот, Сидор Семеныч, навстречь мне, значит, выходит мать с невестой. Невеста Грушка разодета так, – ходи прочь! юбки, с позволения, фу!.. так и трещат. Одно слово, нет барыша, да штука хороша. И не усмехнется на меня, словно первой видит. Поразговорились, сели на диваны, слово за слово… Мать мигом и ответст вует:
– Потап Егорыч!
– Чего изволите-с?
– Дочка моя, – говорит, – всякие танцы и умеет рассматривать… на гуслях… кадрели разные… на портуфьянах, фруктами голову улащает…
Думаю: «Все эвто немудрено, может быть; только что тепереча скажет сама невеста?» Мне хотца проникнуть про приданое. Обманывать наш брат мастер. Невеста здесь подходит ко мне, очи свои воздвигает на потолок и говорит:
– Желаю пондравиться… (кабысь между нами ничего не было).
Я:
– Покорно вас благодарим-с. Желательно, чем вы докажете любовь?
Она:
– Здоровы ли вы?
– Помаленьку.
– Слава богу, лучше всего…
Я:
– Эвто, – говорю, – справедливо.
Ну, тут подали чай; попили чайку, попотели мален
Страница 22
ко. Я, примерно, избрал времечко, говорю девке, – Грушке:– Что, между тем, Аграфена Власьевна, позвольте понять: какой вокруг вас интерес есть?
– Найдется, – говорит.
– А как то есть?
– Да найдется. Чего сумлеваетесь? А помните, – говорит, – как вы ко мне ходили?..
– Да-с… именно… помнить кажинную малость помню; касательно же интереса любопытно спросить?..
Она:
– За интересом дело не станет. А вы, Потап Егорыч, сообразите, что предмет главная сила: он прежде всего обращает на себя внимание…
– Точно, – говорю, – предмет многое означает.
Тем делом, Сидор Семеныч, приводят меня в спальнию. Осмотр идет. Спальния богатейшая: подушек до потолка до самого. Говорят мне:
– Эвто наша почивальня, Потап Егорыч.
Я говорю:
– Для отдохновения-с?
– Для отдохновения.
Иду обратно, гляжу, возносят мне на показ салфетки и скатерти. Как подали на руки – подоби вот писчей бумаге, ах ты боже! Я подивился. Дальше, наступила пора обедать. Обед значительный был: ветчина… заливное там… вина разных сортов… и попойка была порядочная. Я пил мало. Но бабы, случились за обедом, качали крепко: под конец стола настегались так, – заду не подымают.
Вот хожу к ним почесть кажинный день. Про приданое пока молчим… Проходит полгода, проходит страшная… четверг, – ничего. В пятницу на святой мы снюхались совсем, порешили. Через никак неделю, что вы думаете? Слышу-послышу, за Аграфенку присватыется офицер. Только узнал об эвтом, тотчас бегу туда, к ним; зло взяло меня.
Вхожу в дом, являюсь в залы, вижу, девствительно стоит офицер, усы расправляет, держится за саблю рукой. Аграфенка сидит на стуле разодетая, разукрашенная: тут ли ты!.. юбки оттопырились на полкомнаты. Говорили ребята, что она к подолу-то пришивала обруч; конечно, подлинно проведать об эвтом женихам нельзя. А в замужестве она нет, обручей не носила. Да и не пригоже; теперича ежели она с обручами взняхоется на кровать, – ведь эвто что выйдет?..
Ну сидит она, сама чванится, знаете; шею вытянула, губы сжала… ни полслова, – великатная такая. Подле нее стоит ее бабка, поправляет на ней ленточки и шепчет ей сплошь: «Не шевелись, мать моя, не шевелись; а то его благородию не понравятся такие дела…» Меня, Сидор Семеныч, рассердило; как? то за того, а то за другого?.. Теперича рассудите по правилу: хорошо она поступила? а? Я вам говорю, одер девка, царство ей небесное… такая продувняга, – поискать на редкость: сейчас в одно тебе ухо влезет, в другое вылезет. А тятенька-то мой был тут в стороне. Нет, чтобы так-то присмотреть за мной: дескать, как сын женится? Просто, Сидор Семеныч, кажинный шаг я должен был сам обдумывать, чтобы впросак не попасть.
Гляжу, мать Грушкина опять зачала расхваливать офицеру свою дочку, как мне прежде, что и танцы и всякие… гримасы ногами выкидывает, и пятое-десятое… Отец тоже себе указывает офицеру на девку, говорит:
– Вот, стало быть, ваше благородие-с, товар лицом: извольте заключить, – говорит, – белизна-с какая… одни ручки – что твоя мука пшеничная; первый сорт… манность!..
И шепчет офицеру, сам ухмыляется… «Как, ежели бог даст, женитесь, ваше благородие-с, таких поросяток препожалует, – любо-дорого смотреть…»
«Ну, думаю, провела… не замай же!..»
А она, Сидор Семеныч, Грушка-то, запрежде как услыхала, что офицер свататься хочет на ней, кричит: «Я благородная… Я благородная», – говорит. Видите? что значит необузданность-то.
– Так как же-с? какая будет крайняя цена?
– Пять тысяч, – говорит. (Куда ляпнул!)
– Нет, таких цен ноне не бывает. Вы посходней просите. А не можно ли, ваше благородие, взять две тысячки?
– Нельзя-с, – говорит, – убыток будет.
– А то по рукам?.. Грушка смотрит на них.
Я не стал слушать их разговоров, взял подсел к ней. Завожу речь такого калиберу:
– Что же, Аграфена Власьевна, вы теперича мне изменяете?
Она ни слова. А бабка подгвазживает ей на ухо: «Не шевелись…» Постой же, думаю себе, ты у меня зашевелишься. Пересел на другое место. В самую эвту минуту, Сидор Семеныч, Аграфенка уронила что-то на пол. Офицер бросился, подхватил и подает ей. Она говорит: «Бонжур[3 - Неправильное употребление французского слова bonjour – добрый день.] за внимание…»
Я сижу. Никто со мной и разговаривать не хочет: притча какая! Встал, нимало не медля, беру картуз и доношу: «Мое почтение-с».
Отец обернулся.
– А! Потап Егорыч… ну, прощайте!
Как мне было тошно, Сидор Семеныч; право… много муки зазнал я с эвтой Грушкой. Пришедши домой, говорю себе: какая она мне будет жена, – верность, ежели и к одному и другому вешается на шею. Пропади ты совсем, Дурища!
Офицер женился на ней, слышите? да и голова же был! вот так искусник: в самую первую же ночь хватились, а его след простыл. Шарили, все углы, трещины высмотрели в дому, нет офицера. А он, говорят, заехал в какой-то трахтир, там богу душу отдал. Болтали, что ему кием голову проломили; одначе кто знает? может, и другое что случилось, только Грушка овдовела. Вот тебе и благородная!
Сказываю своим ребятам: «Как,
Страница 23
ол, полагаете? что бы мне сделать с Грушкой? Злыдни такие учинила…» Положим, я не женился на ней, а она за меня не вышла, – все же таки попамятовать ей надобно. Зол был я на нее. Сначала объявил ее девке: «Скажи своей Грушке: как встретится где, так угощу, язык высунет…» По городу, Сидор Семеныч, уже пошли ходить разные разности, всё про Грушку… Слушайте, что дальше. На вешнего Миколу приходит вдруг ко мне ее отец.– Егорыч!
– Что?
– Так и так… прости меня… я тебя обидел.
– Чем, Влас Гаврилыч?
– Да как же: дал тебе тогда честное слово, а сделал пошлость…
– Ну, эвтого не воротишь, – говорю.
– Нет, – говорит, – оно можно воротить.
– Как?
– А вот как: я офицеру-то покойнику дал две тысячи, а тебе, ежели хочешь, дам три.
«Ишь как, думаю, куда полезло!»
– Вот что, – говорю, – Влас Гаврилыч: деньги ничего, их можно, пожалуй… я не прочь. Одна статья меня в сумленье приводит.
– Какая?..
– Боязно мне… то есть касательно Аграфены Власьевны: ведь она, будь меж нами сказано, уж женщина. Следовательно, цена теперича ей не та.
– Вот тебе, провались я на сем месте, – говорит, – девка неповинна. Слышь, офицер после ужина удрал…
– Так ли?
– Лопни мои глаза.
– А ежели нет, тогда что?»
– Будь я анафема, коли лгу. Будь друг, избавь девку. По городу такие шкандалы ходят – смерть!..
– Изволь, изволь. Но чтобы, смотри, – говорю, – насчет того…
– Я тебе сказываю, убей меня бог, ежели…
– Ладно.
Сладились. Через месяц, Сидор Семеныч, мы обвенчались. Но дивитесь теперича, как, значит, наш брат купец, как он обдувать-то ловок. Вместо всего, что мне сулили… обманули меня во всех частях… какова скверность…
1858
Змей
В ветхой избенке, стоявшей на краю одного уездного города, в ненастный осенний вечер, при свете ночника, сидели за ужином два молодых парня. Они только что пришли с бочарной работы и, как видно, сильно проголодались, потому что ели с большим усердием, хотя ужин их состоял из одной тюри, которую приготовляла грязная баба, сидевшая в углу избы с поникшей головою. Один из работников был худ, бледен, однакож не угрюм, и имел на вид не больше восемнадцати лет; другой несколько постарше, с открытым, полным лицом и слегка смеющимися глазами. Они рассказывали друг другу, сколько выручили за день капиталу, в какие заходили дома, какую сбивали посуду и проч.
Между тем под окном шумел проливной дождь, в трубе завывал и посвистывал ветер, на всю избу звенели дрожавшие стекла. Работники порою замолкали и прислушивались к дождю.
– Как хлещет! – говорил один из них.
– Да, малый, – задумчиво отвечал другой.
Затем снова начинались разговоры. А сидевшая в углу баба продолжала дремать, покачиваясь взад и вперед.
– Тетка Арина! – обращаясь к бабе, проговорил старший малый, – не знаешь, хозяин дома?
– Чего?
– Хозяин дома?
Баба зевнула, потянулась и пробормотала:
– Господи Иисусе Христе… не знаю… Кажись, ушел куда-то. А-а-а… – опять зазевала она и почесала у себя правый висок, запустив пальцы под головную тряпицу.
– А что, тетка Арина, нет ли у тебя другого какого хлёбова? тюрю-то, слышь, ели, ели, ажно вспотели.
– Какого там тебе хлёбова! Ишь что выдумал: дай ему хлёбова… Где я возьму?
– Ну, так нечего, верно, попусту сидеть. Ступай, собирай со стола.
Работники вышли из-за стола, помолились образам и поблагодарили за хлеб за соль бабу, которая, поправляя на своем затылке съехавшую повязку, медленно подошла к столу, позевала немножко и начала сбирать посуду.
– Тетка Арина! ты бы нам когда-нибудь теста наварила, – сказал старший малый, стоя позади бабы и застегивая ворот своей рубашки.
– Чуден ты, Иван, право слово. Ты какой-то неразумный: теста, вишь, ему навари. Хозяйка я, что ли? Кабы я хозяйка была? их! я сама жру не лучше вашего: часом с квасом, порой с водой.
Иван проворно повернулся и пошел к печи, чуть-чуть напевая, как бы про себя: «Тетушка Арина, ты б нам тестица сварила».
– Семен! пойдем на печь, – сказал он товарищу, – ноне я тебе расскажу сказку, волос дыбом станет; такая занятная, пропади она. Давеча, братец ты мой, иду по Воронежской улице и кричу: «Обручи набив-а-а-ать». А сам думаю: «Эх, забыл сказать Сеньке одну сказку; беспременно, мол, вечером скажу».
– Ну, рассказывай, рассказывай, – проговорил Семен, почесывая обеими руками свой живот, – да смотри, хорошенько.
– Уж отзвоню такую лихорадку – любо! Полезай на печку.
– Погоди маленько, дай напиться, сейчас…
В углу избы зазвенел жестяной ковшик. Через минуту работники забрались на печку и приготовлялись к рассказам.
Работница вытерла мочалкой стол, поправила ночник, перекрестила свой рот и отправилась к загнети.
– Ребята, тушить ночник-от? – сказала она разуваясь.
– Погоди, может хозяин призойдет.
– Не замай же его, погорит. А-а-а-а-их-ну! Господи отец небесный… Христос милосливый…
– Ну вот, это мне рассказывал верный человек. У некого купца была дочка, самая что ни на есть красавица и любимая его. Звали Машенькой
Страница 24
Такая распрекрасная красота, что все купчики стадами бегали… Случились ее именины. Отец, пришедши от обедни, зачал ее поздравлять со днем ангела: «дескать, честь имею поздравить тебя, дочка милая». – «Благодарим покорно, папенька». Потом отец пошел в другую комнату и вдруг выносит на серебряном блюде кольцо золотое.– Погоди, да я эту историю знаю, – прервал Семен.
– Как знаешь?
– Именинница получит кольцо и ненароком подавится им, так?
– От кого ты слышал?
– Не помню. А дальше там ее схоронят и за кольцом полезут к ней ночью воры, то есть в могилу. Вытащат из горла кольцо, она и воскреснет.
– Так, так. Ну, коли эту знаешь, надо другую говорить.
В это время в избу вошел с черной бородой, в длинной чуйке, хозяин. Он двумя пальцами сучил край своей бороды и глядел на печь, прислушиваясь к разговору работников. Но работники скоро замолчали.
– Что, ребята, вы не спите?
Иван бросился было слезать с печи.
– Лежи, лежи; я так пришел. Ну, как вы ноне день поработали, хорошо?
– Не совсем хорошо, Григорий Петрович. Я-то сорок копеек принес, а вон Семен тридцати не выработал.
– Да, плоховато. Выше бога не будешь.
– Прикажете теперь деньги отдавать?
– Нет, завтра отдашь, лежи себе. Я так, на минутку зашел. Плоховато, плоховато! А я ходил к Еремею Иванычу; жена у сердечного померла.
– Померла? – спросил Иван.
– Померла.
Не переставая сучить пальцами бороды, хозяин задумчиво пошел вон из избы; на пути ногою подсунул под лавку ведро с помоями и скрылся за дверью.
– Ребята! – вдруг спросонья забормотала баба, – кто это приходил? Ребята!
– Воры, тетка, воры!.. ха-ха-ха-ха.
– Провалиться вам, жеребцы стоялые, – с сердцем сказала баба и завернула голову в дырявый армяк, из-под которого слышалось: «Чего хохочут? Насмешники, прости меня господи…»
Впрочем, двух минут не прошло, как она успела уже захрапеть на всю избу.
– Что бы тебе рассказать? – начал Иван, почесывая макушку.
– Про мертвецов знаешь? Вот расскажи.
– А ты веришь в мертвецов?
– А ты?
– Я не верю, – сказал Иван.
– А я верю.
– Ну, напрасно. Да ты размысли, разве может мертвец вставать?
– Может завсегда. У нас в слободе каждую осень мертвецы бродили, потому отчего же им не бродить?
– Глупо, братец мой, ты рассуждаешь.
– А в писании сказано, говорят: мертвые восстают из гробов, – так ты должен поверить.
– Знамо, должен. Я должен поверить, ежели в писании сказано. Только про мертвецов рассказывать тебе не стану. Потому я про них ничего не знаю. Но вот… Сенька… погоди, брат.
– Что?
– Вспомнил. Сейчас расскажу. Такая история…
– Про мертвецов?
– Нет, про змея.
– Хороша?
– Эту, брат, только слушай; смотри не засни. Дли-и-инная… пойдет за полночь.
– Правда это?
– Истинная правда, вот увидишь.
По обычаю всех рассказчиков, приготовляющихся угостить слушателя занимательной историей, Иван несколько раз кашлянул, плюнул, немного помолчал и начал:
– Слушай. В нашем селе некогда жил молодой огородник, по имени Антошка, человек безобразный собою и высоченного роста. Рост у него был так велик, что когда Антошка стоял на пустыре у нашей версты, то издали казалось, будто два столба торчали, ровные между собою. Одной слеги недоставало на верх, чтобы вышли качели. Такой удивительный рост. Ходил он всегда почесть в соломенной шляпе, с палкой или балалайкой в руке. При нем еще находилась белая собака, «Секрет» прозывалась. Мужики ее звали курятницей, ибо она кур ела. Этот Антошка, слышишь ты, был человек необнаковенный. Он имел у реки, на своем огороде, избушку и жил один; занимался такими делами: шил сапоги, вязал сети, строил клетки с западнями и обучал всякую скотину разным артикулам. Что то есть ему ни попадись – кошка ли, дятел ли, свинья ли… нет бишь, свиней он ничему не учил, так как свинья глупа. Но примерно вот цапля; эту он обучал. Одна у него, помню, под дудочку плясала на Фоминой недели. Кроме того, Антошка был отчаянный бабник… Что, спит Арина-то? – вдруг спросил рассказчик, подняв голову.
– Спит, спит, – рассказывай.
– Так, понимаешь? Главное, умел подделаться под баб: прибауток знал гибель. Любил он припевать такое стихотворение: «Как под мельницей, под вертельницей, там и старчики (нищие) дерутся, только сумочки трясутся». Во время пения строчит на балалайке и ногами маленько семенит.
Я его знал вот словно тебя и ходил к нему частенько за подсолнухами, за огурцами, а то просто какую-нибудь книжку спросить. У него были «Сухарева башня», «Змей Горыныч», «Правда о мужчине и женщине». Еще, как ее… от запоя что-то… кажется, «Польза от пьянства».
Прежде всего я тебе буду говорить, каков у него дом. Сейчас ты входишь в избу (изба чистая и светлая), видишь: в углу направо разбросаны сапожные струменты, на стене картины наклеены, и висит под шляпою балалайка. По полу ходит аглицкий петух и куцая галка бегает; галка у него предназначена для прусаков, имя ей Матренка. Перед окнами висят две клетки с синицами; по жердям порхает чиж. На лавке под об
Страница 25
азами привязана к гвоздю крыса, а под столом лежат две собаки: одна белая – курятница-то, другая – щенок, Кубариком прозывалася.– Зачем же у него крыса?
– А все же для выучки служился. Он, видишь ты, крысу учил на задние лапы становиться, держать трость через плечо и плясать. Да у Антошки не токмо крыса, даже мерин был ученый, лошадь лет пяти, рыжей шерсти: он умел носить в зубах плетушки, ведра с водою, воровать корм. Воровать выучил его Антошка таким образом. В сумерках водил его в чужие скирды и приставлял прямо мордой к сену, а сам из-за валу выбегал и пугал его; да так настроил животину, что она чуть заслышит шорох, так и пустится бежать, только копыта засверкают. Мужики сколько раз дорывались поймать его, – нет, погоди: лошадь не та, чтобы далась тебе. Этот мерин вот какого разума достиг, что знал, каким манером обойтись с мужиком и бабой, в случае, ежели нападут на него: от бабы он никогда не бегал, а заложит уши назад и напустится на нее; баба закричит благим матом, не знает, сердечная, куда деваться. Но от мужика мерин бегал без всяких то есть отговорок; потому смыслит, что мужик – не баба: пожалуй, по ребрам съездит. Одно слово, лошадь четыре целковых стоила прежде, а после выучки сделалась без цены. В наше село приезжал один казак, – так он заподлинно сказал, что этаких мереньев на Дону мало. А ведь на вид, братец мой, войлок просто: пять лет от роду, шея длинная, вся в орепьях, да еще выдерганный хвост; ноги косматые. Опричи всех этих забав, у Антошки находились на чердаке голуби турманы; штук до двадцати было. Как он за ними ухаживал! бывало, схватит помело, встряхнет волосами и начнет пугать, сам присвистывает: фю, фю, фю… Иногда зарядит, с утра до ночи охотится. Ежели же нечаянно налетит на стадо ястреб, то Антошка сам не свой бывает: и помелом тычет вверх, и кричит, и бегает – весь народ взбаламутит. Однова он в одной рубахе гнался за ястребом верст пять по деревням. Народ в изумление пришел, глядя на него; руками махает, горланит изо всех сил. А то как-то улетела у него молодая голубка; Антошка живо схватил себе в подол кормочку овсеца и поскакал за голубкой. Она пролетела версты три, в селе Пестрове села на дом благочинного. Антошка второпях стал прямехонько перед окнами и принялся шептать: «Ксь, ксь, ксь…» Сам одной рукой держится за подол рубахи, а другой выхватывает оттуда овес, рассыпает его по земле и не замечает, что у окна сидит благочинного дочь, орехи щелкает. Право! голова был этот Антошка.
Расскажу тебе, как он жил дома, как обращался с своими птицами и собаками. Собирается, например, он обедать. Ну, вестимо, сам накрывает на стол, режет хлеб, выставляет из печи горшки. Вся скотина, которая у него в хате, собирается к столу. Антошка садится среди ее, берет в подол к себе щенка и сидит, словно отец в семействе, и со всеми разговаривает. А синицы и чиж в это время заливаются песнями. Чиж летал повсюду: то на вербы порхнет, то на блюдо сядет. Подле хозяина на лавке стоял обнаковенно петух. Он все присматривался к щенку: чуть щенок зашевелится в коленах, тотчас он его в голову стук, стук и пойдет долбить. Тогда Антошка говорил: «Смотри, смотри, Петька, – я те клевну!.. Глупец».
У нас на селе у парня Илюшки были тоже аглицкие петухи, так Антошка часто говаривал своему за обедом:
– Ты у меня, Петр Петрович, ныне скочетаешься с Плюшкиным петухом: если выручишь, я тебя тогда этак по головке поглажу… да ты не дерись… я тебе черто-плешину закачу; хозяин говорит, а ты должен слушать. Потом, когда видел, что галка, назобавшись, скакала по избе, обращался к ней:
– Галка, галка, Матренушка, куда ты? сыта? Галка, известно, ничего не ответит, а юркнет под печку и оттуда уж что-нибудь прокричит на ответ.
Как должно понаевшись, Антошка вылезал из-за стола, поддергивал штаны и читал вслух молитву: «Благодарю тя, яко насытил мя».
Животные разбредались по избе. Петух садился на перекладину, собака искала зубами что-то в своем хвосту. Хозяин, подошедши к окну, набивал в трубку корешки – жилку. После отправлялся голубей гонять.
– Да кто был прежде этот Антошка?
– А вот кто. Антошка – сын одного земского. Сначала он учился в городе в училище, потом года четыре шлялся без должности: шалаем был. Отец приказал ему искать место. Антошка нашел себе место у некоей барыни, на конюшне. Должность заключалась в присмотре за лошадьми. Но только ему там не посчастливилось; раз, в жаркий летний день, случилась оказия: барыне вздумалось съездить на пруд искупаться. Кучера не было дома, приказано сбираться Антошке. Он заложил самую что ни есть лучшую пару в дроги, посадил барыню и покатил с нею на пруд, версты за полторы от села. Дорогой с ней разговорился. Барыня словоохотной была. Зашла речь об женитьбе:
– Что ты не женишься? – говорила барыня Антошке.
– А почему вы желаете, чтобы я женился?
– Да, – говорит, – лучше, как женишься: покойней…
– Это действительно, – говорит Антошка, – что покойней: по крайности нет этих тревог, – говорит…
Барыня доложила ему, что он не туд
Страница 26
заехал, и приказала замолчать. Антошка только кнутиком замахал на лошадей.По приезде на пруд Антошка высадил барыню на берег, сам отъехал подальше к кустам и стал там.
Барыня любила купаться вдоволь. Рассказывают про нее, истинная белуга плавает: то на спину повернется, то боком. Наконец, выкупалась она, вышла на берег, прыгнула к платью, да как ахнет и чуть не упала. А из ближнего-то куста выскочил Антошка. На другой же день формально приказано было прогнать его, чтобы и духу не пахло.
Ну, снова здорово, Антошка начал придумывать, где бы отыскать себе место. Пока думал, а в ту пору он по воскресеньям ходил в нашу церковь; пел тенором на крылосе, читал Апостол и тушил свечи у икон.
Апостол читал он здорово: ух, заберет, бывало, всех галок из-под крыши выгонит. И как прочтет, то всегда мужикам подмигивает: «Дескать, каково?» И хлопнет крышками. Тоже звонил он на колокольне нередко – мастерски: на светлой неделе начнет отхватывать, так все; прохожие подплясывают, идучи по выгону. В прошлом году на святой у церкви собрались бабы лен барской стлать; десятской был хмелен. Антошка мигом вскочил на колокольню и тронул в колокола; бабы крепились долго: всё слушали да посмеивались, но как Антошка хватил «барыню», все бросили работу, подобрали юбки и пустились плясать. Пьяный десятский поднял руки вверх, шлепает ногами и кричит: «Наша матушка Росея всему свету голова!»
А то Антошка имел обычай на колокольне галок ловить: страсть его. Раз, во время тоже светлой недели, когда попы были в приходе, он награбастал целый мешок галчат с старыми галками и пришел к молодой дьяконице; дьяконица лежала на своем крыльце; над ее головой сидела старуха с гребенкой в руках. Антошка снял шляпу и говорит дьяконице:
– Здорово живете, матушка. Вот супруг ваш из приходу прислал кур христославных.
– Ну, спасибо, – отвечает дьяконица, – поди снеси их в курятник.
Антошка снес в курятник.
Веришь ли, как разозлился на это дьякон, приехавши из прихода: «Как он смел!» На другое утро сел и написал, прошение благочинному с жалобою: «Ваше высокоблагословение, такого-то и такого-то числа Антошка огородник в мою закуту высыпал целый мешок галок с птенцами; сказал моей жене на крыльце, что это христославные куры. Помилуйте меня: я человек семейный; во-вторых, мы на пасху кур не сбираем, а больше рождеством, следовательно в самое во время собираем…» Благочинный даже бородой потряс от гнева; вон что наделал Антошка! Я тебе рассказываю все про те штуки, которые Антошка творил, живучи у отца. Отец ненавидел его шибко. «Хоть бы уж в острог поскорее его взяли», – говорил он.
Да и Антошке с отцом не всласть было жить. Однова как-то, осенью, что ли, отец Александр объявил в церкви энифест: «То и то, православные христиане, на нас восстает англичанин; просим покорно в солдаты». Антошка, выслушав энифест, возрадовался. Вскорости пошел в город и там нанялся за мещанского сына в солдаты. Уговорился, получил вперед денежки триста рублев. Прогулявши их, он подступил к мещанину и говорит:
– Вот что, почтенный, ты должен сообразить: что можно ли меня нанимать в солдаты? Ты сперва должен спросить у моей родимой матушки. Что она скажет? А так-то, ни уха ни рыла не смысля, не делают.
Мещанин посмотрел на Антошку и воскликнул (простачок он такой был):
– Да что ж значит? что это такое? Значит, грабеж? Значит, примерно, по-свинячьи поступаешь со мной? Стало быть, на тебе суду нет?
Однако пришел с ним вместе к его матери; мать – сердитая баба. Она в то же время страдала родами. Мещанин начал объяснять ей:
– Вот, значит, матушка Анна Ивановна, теперича благословите вашего сына; значит, удалиться он хочет от вас.
– Куда?
– В солдаты.
– В какие солдаты? Да ты у кого же спросился? Ты не видишь, сын болван? не видишь, он дурак?
Вскочила баба и давай полосовать мещанина за виски. Мещанин как вскрикнет: «Караул, значит, – убили! виски все повыдергали!» Дошла очередь до Антошки.
– Поди-ко ты сюда, – сказала ему мать. Антошка подошел и с покорностию наклонил голову.
Она его за волосы. Только мещанин отвечает:
– За что же вы, сударыня, деретесь? Значит, ваш сын триста рублев прогулял, а я виноват?
– А ты знаешь, лошавод этакой, у него порок на спине, шрам? (порока не было). Куда его возьмут? А без моего-то благословения материнского разве возьмут?
Мещанин поговорил крошечку, видит – с бабой не столкуешь, махнул рукой и вышел вон. Антошка себе за ним. На улице говорит взад мещанину:
– В ус не вдунулось, как я тебя надул.
– Да, – отвечает мещанин.
Вечером, с балалайкой под мышкой, Антошка забрался в заречную слободу в хоровод, всем рассказывал эту историю и угощал баб прибаутками. «Ишь те леший поддернул наняться, – говорили бабы ему, – да что это ты? право слово».
Не хуже мещанина он обманул бабу солдатку. Потребовался ей пашпорт; она пришла к Антошке и сказала: «Иду, Антон Митрич, для проживания в город Пензу, как мне быть?»
Антошка отвечает: «Сейчас напишу тебе пашпорт». Написал ей грамотку и
Страница 27
одает: «Ступай, матушка, на все четыре стороны». Баба с этой грамоткой пошла да в первом же городе и застряла. Ее остановили. А там в пашпорте написано. «Очистим чувствия и узрим…» – целая песня праздничная. Печать приложена; под печатью подписано: «Сликатарь Мерзавцев». Одно меня в сомнение приводит: как он не попался? Чего, чего не делал? Главная причина: счастлив был. Он, вот ты увидишь, еще не то сработает: он в дураках все наше село оставит.Надо тебе сказать, что в ту пору, как солдатке он написал пашпорт, отец совсем выгнал его из дому. Тут Антошка нанялся к нашему огороднику. Огородник был человек старый, вдовый. Году не прошло после поступления к нему Антошки, как он умер. Антошка заступил его место. Огородником он стал жить поживать так, как я тебе описывал, то есть: занимался сапожным мастерством, обучал животных, продавал огурцы и увеселял баб. Бабы, нечего таить греха, любили его, хоть и безобразным считался. Иногда завидят его где-нибудь, закричат: «Антон, Антон Митрич!» – и махнут к себе рукой. Он подойдет, снимет шляпу, а ногу отшвырнет назад и хватит на струменте с припевом: «Кости болят, все суставы говорят». Сам то и дело подмигивает. Домовой был насчет этих делов! Но вот, слышь, жениться он ни за что не хотел. «Э, скажет, то ли дело – свобода: одно слово, Акулька, вздохни!»
Слушай, теперь пойдет история такого рода. Сейчас Антошка примется ворочать делами как следует. Ты, Сенька, спишь или нет?
– Где же? посмотри.
– Полюбилась Антошке одна девка на селе, по имени Апроська. Девка красивая, толстая, но маленько с придурью, так немножечко. Тем больше понравилась она ему, что толста была. Подбрюдок висел у ней, словно у кормной свиньи; а ходила разваливалась: ступень давала ровно по рублю. Привычка у ней была такая: станет, бывало, у своих ворот, возьмется за брюхо руками и басит: «Чу-ух, чух, чух…» И такая незамайка. Подойдешь к ней, скажешь:
– Апроська!
– Чего?
– Ну, ничего. Завернется, пойдет.
Я, братец ты мой, был сердит на нее за то: как-то зимой мы с ней молотили рожь; я по колосу, она по поясам. Молотили, молотили, она как ожгет меня по лбу цепиикой. Месяцев шесть шишку носил! Вся в матушку свою родимую. Мать ослопина изрядная была. Я тебе расскажу, каковы эти люди дочка с матушкой: обе разини такие, что сказать не хочется. Года с два назад в нашем селе случился пожар. В Апроськином доме сидела одна ее мать, качала ребенка. Когда пожар начался, Апроська пришла с пруда домой, вправо, влево поклонилась (любимая ее ухватка), поздоровалась с матерью и затягивает не спеша:
– Матушка.
– Чего?
– Горят.
– Где, дочка милая, горят?
– Да Миколаевские горят. (А Апроськино село и есть Николаевское.)
– Ну, господь с ними, дочка любезная. Апроська и ушла на двор рубахи вешать.
На селе крик раздается, все гамят: слышно, пожар недалеко от Апроськина дома. А ее мать сидит и шепчет: «Шум какой… поди ты!..» Опять дочь приходит в избу. Мать на прежнем месте шепчет по-прежнему: «Дела какие… Оборони господи…» Апроська говорит:
– Матушка, горят.
– Чего?
– Горят.
– Да где, дочка милая, горят?
– Да Миколаевские горят.
– Да чего Миколаевские горят?
– Да как чего?
Насилу встала мать; пока обрывок снимала с ноги, пока иглу в голову втыкала, Апроська успела куда-то пропасть. Выходит в сени, дочь ей навстречу. Стали они в сенях друг против друга, смотрят одна на другую и начинают. Сперва дочь (на селе голоса раздаются):
– Матушка!
– Чего?
– Горят.
– Да где, дочка милая, горят?
– Да Миколаевские горят.
– Да чего ж они горят?
– Как чего? Не видишь, дым в сенях?
Вдруг над ними обрушилась поветь и на голову огонь посыпался. Вот тебе горят! до чего дотолковались. Мать маленько еще поглупей будет дочери. Ты заметь, что Апроськи теперича вживе нет; она скончалась давно; потому осуждать ее я не хочу, бог с ней! Но что глупенька была! Насчет же красоты девка добро. Вот и полюбилась она Антошке. Сама, впрочем, Апроська не думала его любить. Антошка, невзирая на то, принялся ухаживать. Лишь где увидит ее, подскочит и начнет ублаготворять балалайкой, песенкой, рассказами разными. Девка в это время, известно, смотрит куда-нибудь в сторону или наземь. Потом слушает, слушает его и брякнет: «Не дури; бачке скажу…» И отвернется. «Что за диво такое? – думает Антошка. – Я к ней всей душой, жить не могу, а она, как дерево; может, подарков хочет?» Приносит ей подарков: ленту, пуговицу там – нет! Замечает, девка пуще дичится, даже встречаться боится, наконец вовсе не показывается. Иногда выйдет на крыльцо и опять скроется. Антошка будто призадумался.
Наступила весна. Сельские девки показались на лугах, на пустырях: явились хороводы. У нас хороводы бедовые бывают. Апроська с девками гуляет, Антошка тоже. Пошли игрища всякие. Антошка своего дела не бросает. По-прежнему прибаутками потчует Апроську. Иной раз среди игры, словно не нарочно, насунется на нее. Смотрит, девка снова заартачилась. «Что за оказия такая?» – рассуждает Антошка.
Дальше
Страница 28
проська и в хоровод бросила ходить. Зарею сядет у своего дома на завалинке с шитьем в руках, штопает и поет про себя басом: «В той кузне молодые кузнецы куют, дуют да наваривают». Долго ли, коротко, Антошка порешился вот на что: он принялся подсиживать ее. Где ни на есть в канаву заляжет или возьмет под скирдами притулится. Больно, стало быть, в любови захотелось изъясниться. Уж он вчастую отзывался о ней: «Эх, девка-то прелесть!» Подсиживал день; другой – не показывается Апроська. Что ты будешь делать? «Погоди же, думает Антошка, я тебя подкараулю в другом месте; у тебя же на дворе. Ах ты дерево проклятое!»Дом Апроськин стоял на горе с краю слободы. Той же весною, поздно ночью, Антошка забрался к ней на двор. Перешагнул через плетень, обошел закуты, высмотрел кругом и стал под навес в угол, где лошадиная сбруя вешалась. Темь была, глаз выколи. Антошка, одначе, поместился так, что мог видеть избенную дверь. Он надеялся, что в нее выйдет как-нибудь Апроська за каким ни есть делом. Стоял он долго: не видать ничего, не показывается девка. Вдруг около двора что-то затрещало, заскрыпели ворота, и на двор въехал на телеге мужик. Антошка про себя говорит: «Ну, кого-то привалило». Это был Апроськин отец. Он слез с телеги, отпряг лошадь, снял хомут, взвалил его на плечи и идет к тому месту, где стоял Антошка. Антошка видит эту церемонию, только не знает, куда скрыться. Мужик поднял над ним хомут и пялит на голову, думает, что на крюк вешает. Антошка как ударится бежать мимо мужика, мимо плетня, да в ворота и исчез. Вот тебе премудрость.
Мужик хомут уронил, разинул рот, растопырил руки, не понимает. Постоял, покачал головою, сотворил крестное знамение, плюнул и стал размышлять: «Кто, мол, это такой? Нечистая сила? Нет, господи спаси. Вор? Нечистая сила? Кто же это?»
Хомут лежал на земли, лошадь шлялась по двору. Пришедши в избу, мужик долго сидел под иконами повеся голову. Все домашние с изумлением смотрели на него: бледный сидит; шепчет про себя. «Не помешался ли?» – думали они.
Жена подошла к нему, дернула за рукав и сказала:
– Захарыч, а Захарыч, опомнись!
Он вздохнул и объявил:
– Так и так. На дворе у нас невесть что завелось.
– Что ж такое завелось?
Призадумались домашние. И так и этак прикладывали умы свои – ничего не выходит. Апроська лежала на печи, себе прикладывая ум – тоже ничего не выходило.
Немало мужики растабарывали промеж себя касательно, что на дворе не чисто. Заключили же тем: вор приходил – кобылу свесть. Однако у образа свечу поставили и помолились на сон грядущий крепко.
Наутрево, после своей прогулки-то, Антошка, как ни в чем не было, сажал на своем огороде капусту, бегал с ведрами на реку. А после обеда поехал с дьячками на крестины в приход. Дьячков он любил: часто обнимался с ними, цаловался, хоть заочно и называл их долгогривыми жеребцами. Когда Антошка ехал с дьячками в приход (у нас пятеро дьячков), то на телеге трясся пуще всех и выдвигался, будто каланча; обычай они все имели дорогой кнутиком собак дразнить. Ежели теперь слышишь на улице особенный брех, то знаешь, что это едут дьячки с Антошкой. Легонько на крестинах подвыпивши, Антошка ручался перед компанией, что он может комаринского пробежать, в случае, как позволит ему отец Александр, – то есть даст свое, примерно, благословение. Но мужичок-хозяин отклонил его намерение, объяснивши, что новорожденный чуть жив, не до комаринских… «Ты пляши, говорит, да разум помни, Антошка. Тутось не девки тебе попались». И озадачил его. Антошка притих. После с сердцов говорит себе: «Уж ежели так, – значит, девками попрекать стали, затешусь же опять к Апроське, я ей дам».
Пришел май месяц. Мужики выбрались на дворы спать. Антошка знал это и, наверное, рассудил, что пора поспешить Апроську посетить; потому надо проведать, где она спит? Апроськины домашние спали кто где попало.
Теплою, погожею ночью Антошка при первом куро-глашении появился на Апроськином дворе. По обычаю, выглядевши все вокруг себя, зашагал он под навес, как словно дворной, что лошадям косы заплетает. Ночь была ни светла, ни темна: звезды горели, месяц не всходил, – знаешь, майские ночи. Перевел Антошка дух, недалеко, слышит, храпенье распространяется. В соседней закуте едят лошади корм, едят, едят да вздохнут. Антошка стоит себе, вздохнет: «Дескать, эхма! шутка ли, забрался куда, в какую погибель! Ну, вдруг проснется кто, увидит? На месте уколотят». Мужик относительно сего безмилосерд. У нас в селе, знаешь, случай был: столяр увидел в сарае свою жену с холопом. Холоп и жена стояли спиной к столяру и не видали, как он подкрался к ним и посадил обоих их на вилы. «Ну, ежели совершится то же событие? – думает Антошка, – была не была, начну. В главности, подсмотреть должно, где спит дерево Апроська?» А дерево знать не хочет рассуждений Антошки, почивает под навесом. Подошел Антошка к соломе, кто-то лежит; пощупал – борода чья-то. Антошка пошевелил бороду, борода вздохнула и повернулась к нему спиной. Догадался Антошка, что это отец. Приступил к саня
Страница 29
: лежит Апроськин брат. Подошел к телеге, запустил руку, пощупал – что бы такое значило? Тронул в другом месте, – ничего. Тронул в третьем – как крикнет Апроська. Антошка драло. Вскричали мужики. Антошка в ворота. «Что за диво?»– Апрось!
– Чего?
– Что ты кричишь, матка?
– Чево?
– Что ты кричишь?
– Да кто-то приходил.
– Кто же это приходил… Господи помилуй. Кому приходить в такую пору? кому приходить? Феноген, а Феноген, – говорил своему сыну отец.
– Что, бачка?
– Слышь ты, что скажу: мякаю я, словно то есть у нас на дворе-то не чисто, а?
– Не знаю, бачка.
– Право слово, не чисто. Не чисто, говорю я. Собирайте-ка зипуны свои. Право, что-то… Пойдемте в избу. Господи! за что такая немилость? чем прогневили тебя, создателя?
Как встрепанные, все встали, собрали зипуны, кафтаны, сбились вместе и побрели боязливо по двору. Идут, прижимаются друг к другу, творят крестное знамение. Гроза будто на небе зашла и разыгралася. Испугались сердечные мужики. «В грозу, дескать, страшно спать на дворе… пойдем в избу… помолимся иконам… Авось пройдут тучи-то… Ишь как молния-то сверкает! Господи защити!..»
Да, братец мой Сенька, жуть была в ту пору во всем нашем селе. Всем ведь втемяшилось, что к Апроське летает змей, не кто иной. О-о-хма! бывают на свете дела, тяжкие дела, Семен. Может, такие люди свыше насылаются, как Антошка, почем знать? На белом свете много чудес и таинствов совершается. Иногда мне жалко становится Апроську, и оченно: пострадала она, бедная, на своем веку.
Прошла ночь. Мужики, только солнце взошло, явились к нашему священнику, рассказали ему все, что случилось ночью. Апроськин отец как плакал! Говорит: «Батюшка! за что такая невзгода?»
Антошка забыл думать о своих путешествиях. Рано-ранешенько он с бабами прогонял в стадо скотину. А когда мужики пошли к священнику, в это время он сидел на солнышке у своей хаты, поглядывал на поповский дом и зубами колок на балалайке вправлял: стало быть, приготовлялся разыграть что-то.
Пред обедом дьячки с стихарями, с книгами, с кадилами тронулись в Апроськин дом. Шуму довольно было: на улице барщинские мужики остановили лошадей с возами, поснимали шляпы. Антошка, не будь дурен, оделся, схватил палку в руки и с дьячками побрел. Дорогой Лузину дьячку, у которого он купил щенка, рассказывал в смех, как некоего села дьячки подрались меж собой и как одному из них вырвали бороду. Эту бороду обиженный словно представил в консисторию при своем прошении и надписал внизу: «В удостоверение бесчинства прикладывается борода. Сию бороду выщипал пьяница, который обесчестил меня на крестинах».
– Ну, – говорил Антошка хозяину, – теперь у вас будет все благополучно. Помолились знатно!
Мужик зарыдал, послушавши эти речи.
Антошка сказал: «Не плачь. Видишь ли: помолились мы… следовательно, что ж тут? И разговаривать нечего: ведь заступница-то, она, брат, того… спасает; а твое дело, вестимо, правое».
За обедом Антошка советовал двум дьячкам затянуть погрустней, как можно: «Зряща мя безгласна».
На пиршество смотрел народ, стоял у дверей избы.
Пообедавши, причт поблагодарил хозяина, пожелал Апроське благополучия и вместе с Антошкой отправился домой.
Неделя миновала. Змей, кажись, призатих. Домашние Апроськины долго не ходили спать на двор, кругом запирались, но с Ильи-пророка начали спать и на дворе. К Апроське на селе боялись приступить. Ежели же кто приступал, то обходом, стороной, вглядывался в нее и отходил прочь. Посмелей человек заводил с ней разговор: «Что, мол, змей-то обширен?» Апроська стояла и косилась.
Однова перед вечером приходят к Апроськину отцу два мужика: один мельник, другой простой мужик. Говорят: «Что, Петрей, как поживаешь?»
– Плохо, братцы, плохо. Наказал меня бог: ни одной ноченьки покойно не засну.
– Знамо, житье такое скверно; хотя, конечно, всякий может согрешить. Только мы, видишь, пришли к тебе по делу. Поставь-ко нам сивухи на стол, мы с тобой потолкуем.
Апроськин отец достал водки. Мельник слыл у нас за знахаря.
– Вот дело какое, – заговорил мельник. – Рассуждали мы немало о тебе. Можем мы тебе сказать одно: ты подлинно наказан есть от бога; ты согрешил перед ним здорово!.. В хате у тебя кто-нибудь есть?
– Как же.
– Гони вон.
Апроська с матерью вышли из избы.
– Слушай, Петрей, – заблаговестил мельник. – Сказать, кто к тебе ходил?
– Ума, батюшка, не приложу. Полагать нужно, нечистота какая-нибудь. Известно, люди мы безграмотные: может, еще что шлялось.
– Нет, ты скажи мне: как зовут твою дочь? Апроськой?
– Апроськой.
– Так я тебе говорю: к твоей Апроське ходит не змей, а домовой… Слушай дальше: ежели же не домовой, то беспременно дворной…
– Так, батюшка…
– Ну-ко, давай водки-то, не жалей. Объясню тебе еще притчу: девки существуют различные, какова натура: натуры тоже бывают различные. Поэтому Апроська Апроське рознь и девка на девку не находит…
Охолостивши водку, мельник поднялся с места и сказал Петрею:
– Мотри же, не забудь, что я тебе толковал…
Страница 30
Мужик простой-то, что приходил с мельником, при выходе говорит Апроськину отцу:
– Ты понял, что тебе говорили? К твоей дочери приходил не змей, а домовой… Видишь?
– Вижу.
На пятую никак ночь, после Ильи-пророка, Антошка появился снова на Апроськином дворе. Забава эта была не широка. Он много не стал думать, раздумывать: прямехонько-таки подлетел к телеге, в которой спала Апроська, охватил ее за оглобли и повез домой со двора – в конопляник. В эту минуту встрепенулся Апроськин брат.
– Бачка, бачка, – крикнул он. – Девку увезли.
– Увезли?
– Увезли.
– Пошел!
Подбежали к воротам, телега на боку стоит, завязла между кольев. А Апроська в ней дрыхнет.
С надворья же, поодаль от конопляника, в анбарчике такой стук раздается, словно барабан гудет. Подступили мужики, глядят: дверь приперта колом (это Антошка припер Апроськину мать). За дверью баба кричит: «Отоприте, Христа ради». Думают мужики: «Вон как! стало быть, значит, заточил бабу наглухо!» Сам Антошка, как заслышал гомозню, пробрался через конопляник и был таков.
Пришли мужики в избу. Начался суд.
Что, мол, теперь делать? Как быть? Просто издыхать остается, боле ничего. Откуда такая пропасть?
– Бяда, – говорил сын. – Пропадешь, как червь капустная.
– Сгибнули совсем. Что ты станешь делать? Ах ты, тварь оглашенная! Ни единого часу нет спокойствия: то есть на волос забыться не дает. – Что теперь делать?
– Послушай, бачка, – объявил сын. – Надо безотмен-но ехать к ворожее: не замай ее осмотрит девку. Докуда мучиться?
– К ворожее, – крикнул отец. – Запрягай лошадь! Апроська с матерью в ту пору входили с надворья в избу, глаза прочищали.
Почесть немедля мужики собрались и поехали к ворожее. Утро покуда не наступало. В Апроськиной хате горел огонь; в ней сидели дочь с матерью. Они молча смотрели друг на дружку; мать зевала и почесывала в голове. Только Апроська запевает:
– Матушка!
– Чего?
– Куда эта бачка поехал?
– Не знаю, милая моя. О-ох!
– Змея искать?
– Кажись, что так: змея искать…
– Вота!
Поглазели маленько и завалились спать. До солнца дрыхнули.
Как скоро мужики стали упрашивать ворожею лечить девку, она, братец мой, не на шутку запировала, – вскричала на них: «Вы, говорит, крещеные или нет? Зачем я пойду к вам? Да меня змей тогда закатает до смерти!» – «Не оставь, родимая, – твердили мужики, – не дай погибнуть». Вечером, набравши с собою горшков, трав, ладану росного, она приехала в Николаевское.
Апроськин отец приказал домашним своим по двору разостлать соломы и холст протянуть, чтобы по нем пройти ворожее. Ворожея повидалась с Апроськиной матерью и принялась по столу припасы раскладывать. У образов, как водится, зажгли свечу; Апроську вывели на средину избы. Тут собралось сельское начальство: бурмистр, староста, приказчик. Тоже ребятишки нахлынули со старухами и девками. Апроська осматривает всех. Ее посадили на лавку и под лавкой затопили в горшке ладан; пошло лечение. Народ наблюдает, как ворожея орудует. Приказчик в картузе стоял и поплевывал назад, нередко попадая в бороду бурмистра. Он полюбопытствовал спросить у мужиков: видела ли Апроська змея и кто он такой? Ворожея ему сказала, что, ваше благородие, видеть змея человеку нельзя, ибо он есть дух. Приказчик с носом и остался, закурил трубочку. – К Апроське ворожея подбегала то с пойлом каким-то, сама все губами нашептывала, то с куреньем. Чад в избе подняли. Мать стоит у притолоки, спрашивает Апроську:
– Ну что, дочка милая моя, каково?
– Теперича легче, – отвечает Апроська.
– Как же можно, – прибавляет ворожея, – много помощи приносит…
Мать подойдет, погладит девку по голове.
Одним словом, через полторы недели Антошка опять забрался к Апроське. Ровно в полночь настежь растворил ворота, впрягся в сани (девка в санях спала) и повез их по двору. Так развадился путешествовать.
– Бачка! – гаркнул сын.
– Что? что?
– Вставай! Увезли.
– Увезли?
– Так точно.
Сани очутились уж близ конопляника. Мужики прибежали, глядят: в санях сидит Апроська, глаза кулаком чешет, – прислушались кругом – ничего нет.
– Апрось! кто тебя увез? – спрашивают.
– Змей, бачка.
– Так, бачка, – сказал сын, – это его работа; кому ж больше?
Отец, будто полоумный, смотрел на сына с дочерью. Пришедши в избу, он сел на коник, схватил себя за волосы и заголосил:
– Господи! когда ж будет конец всем этим мукам? Жизни сейчас лишусь я; подайте мне оружие. Спать мне не дают; потому глаз сомкнуть нельзя!
– Бачка, остепенись; послушай меня, – заговорил сын. – Коли на то пошло, сию минуту надо ехать к начальству, прямо к становому.
– Ей-же-ей, к становому! – сказал отец. – То есть к становому! Скорей седлай поди лошадей.
Еще первых петухов не было, как мужики, снарядившись в путь, отправились в деревню Быковку к становому. Апроська с матерью заперли за ними двери и легли спать.
Становой любил уголовные дела: так и возрадуется, бывало, как скажут ему, что там-то один другого зарезал или кнутом засек. Звали его Ф
Страница 31
дор Федорыч; низенького роста, руки длинные, толстая шея.Но касательно указов, предписаний становой за лихача слыл. Наваляет и ловко и бойко: «По моему, дескать, мнению, то и то надобно, да чтобы про это дело никто не знал; иначе мне в тюрьме сопреть немудрено…» Привычки у него были такие: ежели, например, сбирался к какому-нибудь мужику на следствие, то обходился с ним ласково, трепал его по плечу и спрашивал:
– А что у тебя в дому, старичок, имущества много? Я, ты знаешь, леший: мне ничего на глаза не вешай.
Когда случай выходил, что в его передней мужичок доставал из кармана деньжонок (известно, мужик копается долго, когда достает деньги; будто о чем-то раздумье его берет), тогда становой обнаковенно курил перед ним трубку, водил себя рукой по макушке и говорил:
– Да ты, любезный, шляпу-то с рукавицами положи на пол: тебе ловчее будет.
Наших николаевских мужиков он принял хорошо: расспросил подробно все и справился, точно ли труды его не останутся без награды? И присовокупил: «Я, братцы, не поеду к вам сам; случай-то пустяшный. Ежели бы убийство…» Однако снабдил их, чем следует: рассказал, каким родом поймать змея, и строго запретил говорить про это на селе.
В обед мужики возвратилцсь. Антошка, гонявши голубей на огороде, видел, как они ехали по улице, и издали снял им шляпу. Становой дал приказание: каждую ночь напролет караулить змея тридцати человекам, да так, чтобы его поймать и на месте уничтожить. «Я, говорит, его впрах расшибу». Затем, никому не болтать про стражу. Вдобавок мужики от него привезли писаный указ нашему приказчику об отпуске на караул мужиков.
Народ, хоть становой и заказывал не болтать, живо пронюхал его указ. Да как не пронюхать? Вечером Антошка первый пришел к дьячкам и говорит:
– Господа! не угодно ли кому со мной на караул отправиться? Становой дал приказание змеев уничтожать.
Один из дьячков согласился. В сумерках, после скотинного вгона, они вместе с толпами крестьян двинулись к Апроськину дому. А туда набежало народу – ужасть. На дороге по селу девки, бабы шныряют. Кричат:
– Акулька!
– Ау-у-у!
– Погоди меня, погоди.
– Матрюшка, куда бежишь?
– Ох, матка; чудеса бегу смотреть. Говорят, становой змеев наловил.
Антошка с дьячком пришли к Апроськину дому. Народу видимо-невидимо вокруг двора; пушкой не прошибешь. Кто просто глазеет, а кто уж посылает за водкой.
– Что, касатка, – тараторят бабы, – говорят, змей-то шестиглавый?
Стража началась поздно сумерками. Караульные, выслушав указ станового, устроили дело так: они воздвигнули по дубине на плечи, приказали народу расступиться, потом с божией помощию вывезли телегу на улицу на средину дороги между конопляником и стали класть в нее девку – для приманки. Становой дал на это особое приказание: «Положите вы девку на ночь с тою целию, чтобы змея приманить, и не болтать никому про мое распоряжение, не то, говорит, я вас!» Апроська видит, обступили ее мужики с дубинами, возмечтала, что ее убить хотят. Шум подняла. Ее кладут в телегу, а она кричит: «Батюшка, заступись!» Мужики над ней стоят и говорят: «Лежи, девка, становой велел…»
Около полуночи мужики говорят: «А что? чай, не ладно торчать с дубинами среди дороги? Змей-то не с ума спятил, чтобы полетел тебе прямо навстречу». Один за другим, разбрелись по сторонам; человек пятнадцать затесались в коноплю и всю ее переломали. Остальные разместились обапол двора под навесом. Антошка также в числе караульных был. Он с дубиной гулял по двору: от нечего делать забежит в избу бражки попить, закурить трубку, а то подступит к Апроськину отцу и скажет: «Вот так-то, братец ты мой, вдревле оной змей свирепствовал в пустыне!» Мужик вздохнет крепко-прекрепко, индо слезы навернутся. Антошка выйдет наружу, постучит дубиной по воротам и грянет: «Слу-ша-а-а-а-ай!» А там вдалеке ему отвечают: «Подсматрива-а-а-ай!»
– Да цела ли девка-то? – крикнет Антошка.
Пойдет смотреть. Запустит в телегу руку, словно в огурцы, и скажет: «Цела!» Потом запятит снова: «Слушай!»
Так минула ночь.
Утром мужики едут к становому с отчетом.
– Ну что, как? – спрашивает он.
– Все благополучно, ваше высокоблагородие.
– Молодцы! А змея не видать?
– Нет, ваше высокоблагородие, не видать.
– Отчего же?
– Да не можем знать. Кто его знает?
– А приманку кладете?
– Как же, ваше высокоблагородие, кладем. Уж и бог его ведает… Мы и «слушай» кричим изо всей мочи, и «подсматривай».
– Ну вот и вышли невежи. Разве можно такую птицу пугать своим зевом: «слушай» да «подсматривай»?
В следующую ночь «слушай» и «подсматривай» не кричали, тихо было.
Таким образом, стража продолжалась аккурат месяц. Апроська не на шутку исхудала, сердечная.
Вдруг от станового приезжает верховой с объявлением: «Приманку не класть в телегу… Глупо класть приманку в телегу, тогда как… змею все равно: с приманкой ли телега, или без приманки, сиречь пустая она или с приманкой, значит с Апроськой. Не разберет ночью».
Приманку отменили. А Антошка бросил ходить. «Дурак, гов
Страница 32
рит, я, что ли: стану без приманки шляться?»Тем дело и кончилось.
1858
Ночь под светлый день
По заведенному исстари обычаю во всех селах ночь под светлый день проходит без сна, в сборах к празднику. С вечера в каждом доме затапливаются печи и вплоть до заутрени идет стряпня. Так как заутреня начинается очень рано, то с вечера же народ одевается в праздничное платье. Всякий мужик долгом считает обуть хотя старые, но во всяком случае вымазанные дегтем сапоги; бабы надевали расписные понявы; парни – красные рубахи. Старушки принаряжаются для светлого Христова воскресенья в темные растегаи, купленные на ярмарке, в новые лапотки и снежной белизны платочки, драгоценные для них тем, что они же самими старушками предназначены препроводить их на тот свет.
С закатом солнца окрестные деревни и слободы пустеют. Народ с куличами, пасхами отправляется на ночь в приходское село. В церкви, до благовеста колокола, обыкновенно читают жития святых и чудеса разные; туда стекаются богомольные и желающие провести время в благочестивых размышлениях. Большая часть людей идет в дома своих знакомых.
Часов в восемь вечера сельская улица наполнена народом. Во всех окнах светятся огни. Около слобод поповской и дворовой толпятся мужики, дворники, приказчики, лакеи. Где просятся ночевать, поздравляют с праздником; где предлагают услуги, расспрашивают о здоровье и проч.
– Наше почтение Савелью Игнатьичу. С наступающим праздником имею честь поздравить.
– Многолетнего здравия, Петр Акимыч, Лукерья Филипповна!.. Авдотья Герасимовна!.. Что? и вы к заутрени жалуете?
– Да-с; и мы…
– Дело… Вот и я с супругой тоже. Нельзя. Вся причина праздник обширный…
– Не знаете ли, Савелий Игнатьич, где бы мне переночевать с семейством?
– Право слово, не знаю. Мы с супругой у отца дьякона. Да вы попробуйте, спросите вон в кабаке: теперь там просторно…
– Как можно…
– Ей-богу! Да что ж вы думаете? Да мы с супругой, я вам скажу, раз в конюшне ночевали…
Кто-то ведет в темноте даму.
– Ко мне, ко мне, Марья Павловна, пожалуйте. Сюда. Лужицу-то пересигните…
– Куда это?
– Прямо! Валяйте!..
– Сигать?
– Сигайте…
– Темь какая, господи… У-у-ух! Ну!..
– Что, втесались?
– Втесалась…
– Да где ты, Настя? – кричит какая-то женщина.
– Я? вот…
– Иди скорей. Пойдем. Или ты не видишь, повсюду лакеи шляются? Как же можно одной?
– Он, маменька, ничего…
– Кто?
– Лакей… барский. Он только говорит: Христос вос-кресе!
– А ты?
– А я говорю: воистину.
– Ну, и дура за это… вот тебе и сказ!
В дьячковском доме, при свете ночников, хозяйка с засученными рукавами переваливает с боку на бок на столе тесто. Ее крошечный сынишко, весь в муке, стоит на полу и смотрит на нее, чего-то ожидая.
– Рано, голубчик, – говорит дьячиха. – Ни свет ни заря… Бог ушко отрежет…
Мальчик кладет в рот палец.
Дьячку, сидящему за церковной книгой и тихонько напевающему: «Тебе на водах», дочь заплетает косу.
В кухне священника, напротив пылающей печи, молодой работник с-молодой работницей изо всей мощи щиплют кур и поросят, так что животные даже по смерти своей издают писк.
– Пойдешь к заутрени? – спрашивает работник, обдирая ухо на поросенке.
– Неколи… Я бы пошла.
– Так к обедни.
– Приду к обедни.
Земский примеривает только что принесенный сюртук. Портной осаживает полы, самодовольно встряхивает головой и говорит:
– Графу не стыдно надеть… Какова работа! Земский ухмыляется. Он хочет показаться жене. Земчиха в другой комнате снаряжает бабу в амбар.
Она говорит ей, доставая из-под платья ключ:
– Сходи ты, любезная…
– Варя, – перебивает земский, – погляди-ко, хорошо?
– Пошел ты отсюда! затейник…
Земский идет назад обескураженный.
В конторе идет спевка. Лакей, с тростью в руке, стоит перед толпою крестьянских ребятишек и задает им тон, делая своим голосом раскаты:
– Го-го-го-тр-р-р-тон-тон-тон… Начинай! ну?
Ребятишки разевают рты. Лакей взмахивает тростью; певчие от страху жмурят глаза.
– Трогай! Яко-о-о-да царя-яя… всех поды-ы-ы-ы… ну, что же вы? начинай!
Мальчишки пыхтят.
– Качай! Я-ко-о-о-да царя-я-я… Ну, я опять дам тон: го-го-го-го тр-р… нет, погоди! лучше пойти хворостину принести…
В небольшой чистой горенке, устланной свежей соломой, стоит перед образами хорошенькая вдова. Перед образами висят голубки, разноцветные лампады. Вдова вздыхает. У ней слезы на глазах.
– Можно ночевать? – раздается под окном голос.
– Кто это?
– Я, я, Танюша!..
Входит краснощекий парень; сапоги новые, шляпа новая с пряжками и зелеными перьями…
В хате птичницы с чашкой воды стоит баба перед закутанной печью, в которой шуршит и треплется веник.
Веник замолк. «Откутай!..» – кричит кто-то умирающим голосом…
Горница приказчика блистает огнями. Красный от бани приказчик пьет чай. В передней чистят сапоги. Хозяйка перед зеркалом убирает голову.
– Филимошка! – возглашает приказчик.
– Чего?
– К заутрени не ходи.
Чистка сапогов прекраща
Страница 33
тся. Входящая работница доносит:– Кучер Феноген приказал спросить, можно ли ему идти?
– А лошади с кем останутся?
– Мужик Лаврентий вас спрашивает.
Входит мужик.
– Что?
– Заступитесь.
– Ведь я тебе сказал… Дурачье вы!
– Петр Прохорыч, ради светлого Христова воскресения…
– Пошел вон!.. Чтоб я видел…
– Петр Прохорыч, помилосердствуйте! у меня дети… Батюшка!..
– Эй, гоните его!.. Живо! эй! Мужика выгоняют.
– Ишь каналья, мерзавец!.. Ему в солдаты не хочется… Вас, грубиянов, не давить, толку не видать…
– Он вас обругал!.. – донос раздается.
Приказчик стоит, как врытый. Он вдруг накидывает на себя шинель, захватывает что-то в углу и бежит из дому. Ему вслед мигнул Филимошка, державший сапог в руке.
– Не слыхала, Прасковья Федоровна, новость? – говорят на улице старухи.
– Какую?
– Будто ноне после заутрени начнется светопредставление…
– Неужели?
– Да, матушка.
– Это верно-с, – подхватывает мещанин, взявшийся откуда-то. – Потому опосле заутрени подымется самая трагедь…
– Да ведь что, родная? сказывают, сейчас бесы пробежали у скотного двора… какое стадо!
– А что, курочки-то у тебя хорошо несутся?
– Плохо…
Скоро десять часов; говор на улице утихает.
Дом священника битком набит народом. Столы и лавки завалены узлами, пасхами, писаными яйцами.
По стенам сидят дворовые девки, приказчики, лакеи и пр. В кухне, смежной с горницей, в разных положениях, на полу, на печи, на кониках лежат и сидят мужики. В горнице пахнет пирогами; потому что целое решето пирогов проносит попадья. Она на дороге останавливается перед сонной купчихой и спрашивает:
– Вы не хотите ли вздремнуть, Аграфена Карловна?
– Нет-с… я уж дождусь заутрени. – Купчиха почесывает под мышками у себя и закрывает глаза.
– А то возьмите подушечку. Купчиха не отвечает более.
Один из лакеев тоже вздремнуть предлагает девкам. Девки поднимают его на смех. Он упирается затылком в стену. Другой, рядом сидящий, вытянув ноги, поет про себя: «О, любезного, о, сладчайшего твоего гласа». Третий лакей шевелит лучиной под лавкой: начинается такой шум, хохот, крик гусынь, что из спальни выходит священник и просит кричать полегче. Ему говорят, что это гусыни взахались перед заутреней.
Напротив дворни, в углу, мещанин рассуждает с другим мещанином о том, что надобно уметь пить; а то опиться недолго, – и приводит много несчастных примеров. Его собеседник не без хвастовства говорит:
– Мне, Иван Тихоныч, господь бог дал такой ум, что я теперь с ведра не захмеляю.
– А у нас, господа, прошу прислушать, – начал худощавый башмачник, – один лакей у своего барина (лакеи навострили уши) выпил бутыль и проглотил рюмку…
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Сноски
1
Вприсядку. (Примеч. Н. В. Успенского.)
2
Мой милый? (от фр. mon cher).
3
Неправильное употребление французского слова bonjour – добрый день.


